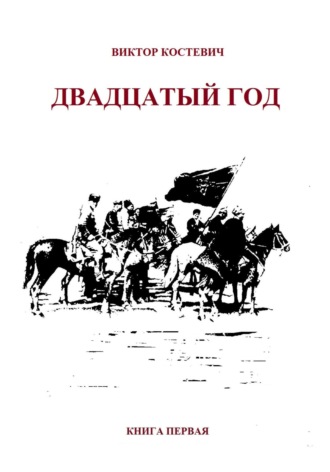
Виктор Костевич
Двадцатый год. Книга первая
– Как что? – удивился Котович ее непониманию. – Хотя бы то, что все ваши, в том числе супруг, благополучно эвакуировались, тогда как вы остались. Прикинулись русской мещанкой, из простых. Познакомились с польским военнослужащим, связистом штаба дивизии. Даже если не шпионаж, то агитация – первое, что приходит в голову здравомыслящему человеку. А ваши таинственные сношения с чекистами, загадочный арест по невероятной, невообразимой в нормальном, цивилизованном, человеческом обществе причине? Не говоря о контактах на самом высшем, так сказать кремлевском уровне. Кого вы знали, кроме наркома Луначарского?
«Зачем ему это?» – внутренне сжалась Барбара.
(«В самом деле, зачем?» – задастся вопросом въедливый читатель. Автор ответит: из любопытства. Не всякий сотрудник польских специальных органов имел возможность допрашивать красивых женщин, лично знакомых с красными министрами. Кроме того, подпоручику не очень хотелось возвращаться к малоприятным текущим обязанностям, жестким допросам комсомольцев, коммунистов, то есть к тому, от чего давно хотелось спрятаться. Он пришел на службу по патриотическим, во многом романтическим мотивам, но чем дальше, тем больше служба делалась ему противнее. Белоручка, скажет кто-то. Ну да.)
– Крупскую, – призналась Бася, сознавая, что вреда советской власти своим признанием не нанесет. Подпоручик не отреагировал, пришлось пояснить: – Супругу Ульянова-Ленина.
– Господи, – только и сказал Котович.
– Она служила в нашем министерстве, во внешкольном отделе.
– Где? – Что такое «внешкольный отдел» Котович, как и большинство далеких от наробраза людей себе не представлял, но место службы жены коммунистического вождя не могло его не удивить. Как и факт ее какой-то службы. – Впрочем, – махнул подпоручик рукой, – какая разница.
– Еще я встречалась… – Басе, несмотря на страх, но возможно по причине такового, вдруг захотелось, неосознанно конечно, удивить хоть чем-то подпоручика-интеллигента. – В министерстве национальностей, я ходила туда по службе… С Джугашвили-Сталиным, рябой такой, с усами. Грубоватый несколько. Но он не виноват, вы поймите. Мальчик из бедной горской семьи, из Азии, недоучившийся семинарист, выучил русский на медные копейки. Я читала две его статьи. Довольно грамотно. Совсем не глупо.
– Про такого я не слышал, – вновь был вынужден признаться подпоручик.
– Да, конечно, – согласилась Бася. Действительно, с чего поляку знать про Джугашвили?
(«Как же так? – придет в недоумение всё тот же въедливый читатель. – Сотрудник польских специальных органов не знал про Джугашвили-Сталина?»
Именно так. Не знал. Сориентироваться во всех тогдашних назначениях, перемещениях, не смог бы и сотрудник Совнаркома. Чего ж тогда хотеть от иностранца, пускай и облаченного в мундир? Это нынче всем и каждому известно, что Иосиф Сталин был в ту пору наркомом по делам национальностей, наркомом рабоче-крестьянской инспекции, членом Реввоенсовета Республики, членом РВС Юго-Западного фронта и кем еще только он не был. Но не факт, совсем не факт, что польский подпоручик отличал реввоенсовет от ревкома, ревком от губкома, губком от продкома, а продком от совнаркома. Круг его забот был иным.)
– Кто еще? – посмотрел подпоручик на Басю с непонятной не только Барбаре, но и самому подпоручику жалостью.
– Кажется, больше никого, – остановилась Бася, чуточку обиженная за Сталина. Про известных ей поляков мудро умолчала. Вряд ли в этом заведении были в почете Мархлевский или Кон.
О поляках вспомнил сам Котович, спросивший, и опять безо всякой необходимости:
– Дзержинского с Менжинским вы знали?
– Откуда? – честно удивилась Бася. – Слышала, конечно, но лично не знакома. Я держусь подальше от подобных учреждений.
Котович то ли вздохнул, то ли хмыкнул.
– Бросается в глаза. Кстати, капрал Ольбромский, несмотря на примененные к нему меры воздействия, запирается и настаивает на случайности вашего знакомства и на своих, так сказать, сугубо плотских в вашем отношении побуждениях. Понимая дикость моего вопроса, все же спрошу, между вами что-то… намечалось? Понятно. Поверьте, лучше бы намечалось. И для вас и для него. Боже, – Котович резко встал, – почему я вам верю? В эту несусветную чушь? Робеспьер, Жеромский, Луначарский, большевицкая киногруппа, Мерман, Суворов, Шниперович, жена Ульянова. И чего вам было не ограничиться в своих контактах этим… рябым азиатом. Министром национальностей.
– Джугашвили-Сталиным?
– Вот именно. Жеромский-Ольбромский…
Котовича вдруг осенило. Так вот оно в чем дело. В них. В писателях-предателях. Лично ему, признаться, симпатичных, но об этом лучше помалкивать, по долгу службы.
– Вы с товарищем Луначарским, разумеется, в курсе, что пан Жеромский ведет пропаганду против войны с большевиками?
Бася изумилась. До глубины души.
– Неизвестно. Правда?
На сердце, несмотря на ужас, потеплело. Значит, не все, не все сошли с ума от застарелой, бившей ключом, прививавшейся поколениям, воспевавшейся в поэзии и прозе ненависти.
Котович, увидев посветлевшее Барбарино лицо, стал мрачен.
– Правда, правда.
Ни к селу ни к городу добавил:
– Наша возрожденная Польша – это вообще царство правды.
* * *
Сломив ожесточенное сопротивление противника на занятых им в последнее время и сильно укрепленных позициях, наши армии после тяжелых боев достигли рубежа рек Пони и Вилии. (…) Успешные итоги нашего контрнаступления вновь убедительно свидетельствуют о высоких боевых и нравственных качествах нашего героического солдата, воодушевление которого после временных успехов противника проявляется ныне с удвоенною силой. (…) На Украине после безуспешной операции армии Буденного неприятель, совершив перегруппировку, безуспешно атакует в направлении на Крыжополь, Сквиру и Белую Церковь.
Курьер Варшавский, 5 июня 1920, утренний выпуск
* * *
Польские позиции под Снежной, Озерной и Самгородком обороняли шесть стрелковых и две пулеметных роты 19-го пехотного полка, а также три артиллерийских батареи. Помимо них, в деле приняли участие, гораздо менее активное, два пулеметных и семь кавалерийских эскадронов 3-й кавбригады. Чтобы читатель лучше осознал масштаб происходившего, напомним: защищаемый польскими силами фронт на пару верст превышал протяженность русской позиции на Бородинском поле. Последняя тянулась на восемь километров, и на ней, в течение двенадцати часов, предавались взаимному истреблению стотысячные рати Кутузова и Бонапарта. Битва за Снежную, Озерную и Самгородок, не столь многолюдная, как Бородинская, тоже вышла весьма продолжительной. Обе стороны стяжали в ней всё, что должны были стяжать, но лишь одна имела право на победу. Захватчики такого права не имеют – и если побеждают, то всегда противоправно.
Девятнадцатый пехотный именовался Полком Подмоги Львову – в память о событиях полуторагодичной давности. Тогда, в дни столкновений в Галиции между русинами и местными поляками, патриоты из этнической Польши отправлялись добровольцами на украинский фронт – разъяснять бунтующему хаму, кто был и навсегда останется законным господином в крае. В боях с неблагодарными русинами отличились и два батальона романтиков из Варшавы, впрочем не одних лишь романтиков. «Этот субчик записался в добровольцы потому, что ему говорили: во Львове можно хорошо попотрошить жидков». Волонтеры, отлично показав себя в бою, не сбавляли оборотов и после. «Рота увлеченно приступила к обыскам… При обыске в квартире адвоката изнасиловали его дочь или сестру. Утверждали, что она была довольна, находя волнующим быть приневоленной в столь романтических обстоятельствах». У иных, излишне умных, временами возникало непонимание, но сомнения были недолги. «В этом селе, к моему облегчению, говорили по-польски, а то я, слыша повсюду русинскую речь, начал было уже сомневаться, что мы на самом деле защищаем польские окраины». В апреле девятнадцатого на Саксонской площади, на ступенях Александро-Невского собора, символа порабощения Отчизны113, новому полку вручили знамя, дар Варшавского комитета Обороны Львова.
Достойно завершив кампанию в Галицию и отучив галичан от преступных поползновений, полк в начале двадцатого, перейдя прежний русско-австрийский рубеж, продолжил оттачивать боевое мастерство в Подолии – спасая от красной чумы цивилизацию и устанавливая справедливые, по польским представлениям, границы. Как и в Галиции, без лишних сантиментов. «Паренек так и не смог нам объяснить, куда идет. При повторном обыске у него обнаружилось нечто похожее на пулеметную пружину, и поручик рассудил, что лучше бы его расстрелять». С явными большевиками не миндальничали тем более. «Он начал стаскивать с валявшегося на снегу красноармейца сапоги. Заметив, что тот еще жив, выпалил ему в голову и продолжил. Что за ужасная война, где не берут в плен и добивают раненых».
Участок полка находился в зоне ответственности генерал-подпоручика Яна Савицкого, командира 3-й кавбригады Войска Польского. Воспитанник Николаевского кавучилища в Петербурге, выпущенный 8 августа 1894-го корнетом в Тверской драгунский, Иван Карлович за три года до описываемых событий, а именно в июле семнадцатого, стал русским генерал-майором – на русском Юго-Западном фронте. Поступивши в марте девятнадцатого на службу возрожденному отечеству, он сражался теперь против Юго-Западного фронта. Нового, красного, но по-прежнему русского. Судьба играет человеком.
Накануне буденновского прорыва Савицкому была подчинена спешно созданная кавалерийская группа – его собственная бригада в составе трех полков и кавдивизия Карницкого в составе девяти. Впрочем, группа существовала главным образом на бумаге. Несколько дней не могли разобраться, кто, собственно, должен ее возглавить и кто кому обязан подчиняться: Савицкий Карницкому или Карницкий Савицкому. По всем цивилизованным понятиям, ситуация выглядела диковинной. Начдива Карницкого подчинили комбригу Савицкому, во-первых, его бывшему подчиненному, во-вторых, позднее, чем Карницкий, ставшему в России генералом (Карницкий в шестнадцатом, Савицкий в семнадцатом), и в-третьих, позднее, чем Карницкий, поступившему в польскую службу (Карницкий в январе, Савицкий в марте). Коллизия Савицкий–Карницкий разрешилась лишь спустя два дня после прорыва Конной, а именно седьмого числа, переподчинением Савицкого Карницкому. С тем чтобы еще через два дня, уже после… пока не будем говорить чего… снова переподчинить бригаду и дивизию Савицкому, а Карницкого вызвать в Варшаву для нового назначения. Кто еще не вполне разобрался в дилемме Савицкий–Карницкий и не сделал должных выводов, может данный абзац перечитать вторично. Однако можно не перечитывать. Достаточно запомнить: пятого числа Карницкий со своими девятью полками находился далеко от Савицкого, не считал себя его подчиненным, тогда как Савицкий, в свою очередь, не был уверен, что является начальником Карницкого.
Главный отпор нашим силам оказывал девятнадцатый пехотный. Генерал-подпоручик Савицкий в тот день, по мнению польских критиков, должной расторопности не проявил. Возражая последним, защитники генерала напоминали: сфера его ответственности значительно превосходила скромные возможности бригады, тогда как дивизия Карницкого… Злоязыкие, те напирали на тучность, не позволявшую военачальнику ездить верхом и вынуждавшую перемещаться в бричке.
Последнее обстоятельство вряд ли могло сыграть решающую роль в успехе Конной. Иное дело, относительная слабость польских сил на намеченном для прорыва участке – а также пассивность соседей справа и слева, то есть 13-й и 7-й дивизий, в течение дня ничем себя не проявивших. Злосчастный девятнадцатый полк был чужим – как для той, так и для другой. Он оказался там практически случайно и не рассчитывал там долго оставаться. Роковая сила обстоятельств.
Отправленный было на Северный фронт, в Белоруссию, полк в последнюю минуту был выгружен в Казатине и брошен навстречу прощупывавшим польскую оборону полкам Конармии. В последний день перед нашим прорывом ему было приказано занять двадцатикилометровый (!) участок фронта, ранее занятый левым флангом тринадцатой дивизии, сектор которой теперь сужался ввиду наметившейся угрозы на юге, под Липовцем. Утром пятого числа половина отведенной 19-му полку дистанции и половина личного состава неожиданно оказались под ударом трех дивизий Конной армии. Полтора батальона ничейного полка в полосе несуществующей кавалерийской группы на стыке двух армий, третьей и шестой – там, где прежде стояла другая армия, вторая, только что расформированная. Буденный со штабом не знали подробностей, но наблюдения и интуиция не подвели: место оказалось слабым.
С раннего утра пятого июня, засев в траншеях на высотах и не сознавая неизбежности конца, несколько сотен поляков со спокойной деловитой храбростью отбивали ружейно-пулеметным огнем атаки наших спешенных бригад. Машинки пулеметных рот исправно скашивали красных, не успевших вовремя залечь, сотни винтовок возобновляли пальбу при малейшей пробе возобновить атаку. Следом прилетали орудийные снаряды, и из зеленой ржи взметывались к небу дымно-черноземные столбы.
Тем не менее, отвечая нечастой стрельбой на плотный неприятельский огонь, наши цепи, неотвратимые как рок, неумолимые как Эвмениды, всё ближе подбирались к опутанным железной паутиной кольям. В руках самых ловких метальщиков круглились жестянки пятифунтовых гранат Новицкого, тех что служили для подрыва заграждений. Бойцы, назначенные в резчики, сжимали полуметровые саперные ножницы. Многие тащили припасенные доски, драные мешки, старые шинели – чтобы швырнуть на колючий барьер. «Плохо будет без штыков, когда дойдет до дела», – шепнул, присев во ржи, комбриг Тюленев комиссару. «Плохо, – согласился комиссар. – Да сдюжим, не впервой».
* * *
Часа через три, проведенных Барбарой в одиночестве, взаперти, всё в той же комнатке со стульями, столом, у маленького мутного окошка, за которым моросил всё тот же бесконечный дождь, ею занялся Пальчевский, длинношеий мезозойский бронтозаврик. Он ворвался в кабинет уже чем-то разгоряченный, с покрасневшим лицом, на что-то или на кого-то разозленный. При первых же словах пахнуло винным духом. В лапе мезозоец сжимал манежный хлыст.
– С меня хватит! – заявил он яростно с порога. – Ты можешь морочить голову Котовичу, но не мне. Поняла?
Грубое «ты» не показалось Басе неожиданным. Неожиданной была, скорее, вежливость и странная предупредительность Котовича. «Ты» же прозвучало как положено, в духе подобных учреждений. При том что в Волгубчека Барбаре никто не тыкал.
Пальчевский хлестнул себя по высокому, кавалерийскому, со шпорой сапогу, тускло блеснула, дернувшись, пряжечка на шпорном ремешке. Схватив за спинку, резко пододвинул к Басе один из двух свободных стульев. С размаху опустился напротив, буквально лицом к лицу. Винный запах сделался резче.
– Хватит врать, большевицкая подстилка! – выпалил он, с размаху хлобыстнув хлыстом по полу.
И вот это уже переходило границы.
– Хватит врать, я тебе говорю! – Снова хлыст. – Хватит врать! – Хлыст. – Хватит врать! – Хлыст, хлыст.
С учетом того, что испуганная Бася на проронила за всё это время ни слова, четырехкратный призыв не врать тоже мог бы показаться странным. Но это если посмотреть со стороны. Для Баси он звучал не странно – страшно.
– Молчишь, потаскушка? Заговоришь! И расскажешь! Всё! – Пальчевский не мог, да и не пытался успокоиться, почти выкрикивал каждую фразу, оглушая ее и оглоушивая, брызгая и брызжа слюной, хлестая и хлеща хлыстом по полу. Пока что по полу.
Не стоит повторять, что Басе было страшно. И с каждою секундой становилось всё страшней. Пальчевский же и старался быть страшным. Вернее, не старался, это у него выходило само – но отнюдь не против злобной воли.
– Ты думаешь, специалисты по этой части, – сказал он, отдышавшись и чуть более спокойным голосом, – есть только у твоих приятелей-чекистов? Ошибаешься, детка. У меня в подчинении есть пара скотов, и они докажут тебе, что профессионалы имеются и в Польше. Нет, малютка, тебя не убьют. Возможно, не искалечат. Но такой аппетитной красоткой ты точно уже не будешь. Тебя не захочет не только твой Ольбромский или беглый красный муженек, но даже… Хотя нет, моим скотам захочется. Для них сгодится всё, что движется. Ты умеешь, двигаться, крошка?
У Баси задрожали губы, руки, еще судорожней сжались давно сведенные колени. Пальчевский словно не заметил. Пальчевский нежно гладил хлыст.
– Как видишь, девочка, мы гуманисты. И знаешь почему? Потому что у нас в свободной Польше демократический строй. Цивилизация. Наш главнокомандующий вообще социалист. Но с такими тварями, как ты, не цацкается. Кстати, что тебе больше нравится: быть расстрелянной или повешенной? Поверь, после встречи с моими парнями тебе самой захочется в петлю. Чтобы скорее всё кончилось. Молчишь?
Последнее слово он выкрикнул. Подскочил на стуле, в ярости отбросил хлыст, вскинул руку для пощечины. Невероятным усилием воли Баська заставила себя не зажмуриться. Почему-то поняла, почувствовала – надо выдержать, не съежиться, иначе этот пес и в самом деле озвереет.
– Так вот ты какая, – прошипел Пальчевский, опуская руку и водя глазами в поисках хлыста. Нагнулся, поднял, отступил к окну, вернулся к прежней теме. Он словно рекламировал собственное заведение. – Интереснее всего, я думаю, получится у Блащака. Он у нас… Как это будет по-вашему, по-большевицки? Спец. Мог бы поделиться опытом с твоими дружками Мерманом и Шниперовичем. Нет, ну надо же, евреи в политической полиции! Только коммунисты могли до такого додуматься! Что они умеют, трусливые твари? Да я их гимназистом…
При иных обстоятельствах Барбара могла бы возразить, что среди иудейского населения Юга России процент асоциальных элементов не уступает таковому среди христиан. И что не одними лишь евреями укомплектованы карательные органы Украинской Советской Республики. Но в ту минуту Басе было не до статистики, не до защиты профессиональной квалификации сотрудников чрезвычкомов по борьбе с контрреволюцией. Главной задачей оставалось не свалиться в обморок. Говоря по-польски, не сомлеть.
– Встать!
Нависши над Басей, Пальчевский схватил ее за плечи, рывком поставил на ноги. Только продержаться, не свалиться, не согнуться.
– Ба! – прошипело мезозойское чудовище. – Сколько ненависти в глазках. – У Барбары в глазах в ту минуту мог быть только ужас. – И разумеется, немой вопрос: что мы делаем здесь, на Востоке?
Бася могла бы поклясться потом, что никаким вопросом в этот миг не задавалась, что забота ее была простая, всё та же – не свалиться. Но поручик вычитал в ее глазах иное, то что ожидал. И ожидал совсем не без причины.
– Представляешь, маленькая тварь, такой вопрос мне задал твой Ольбромский. Не без твоего, я понимаю, влияния. Капральчик был довольно наглым типом, пока мои скоты его не превратили в овощ. Я ему ответил: мне стыдиться нечего. Я защищаю в России свой дом. Здесь, на дальних подступах. Чтобы победивший на Востоке хам не заявился потом ко мне. Не убил мою мать, не отымел мою сестру. И если ради этого надо выжечь твой Восток, я буду жечь. Это вопрос не политики, это вопрос санитарии. Сесть!
* * *
Чешские хищения. Карвина 114 . На здешней станции замечено, что уже долгое время чехи крадут польские товарные вагоны: перегоняют в тупики, перекрашивают в чешские цвета и оставляют у себя, взамен же отправляют старые, выбракованные и поврежденные. Железнодорожная дирекция уведомила об этом министерство железных дорог в Варшаве.
Курьер Варшавский, 5 июня 1920, утренний выпуск
* * *
Начавшись ранним утром, атаки затянулись на часы. Польские роты бешено отстреливались от наседавших спешенных бригад. От их огня досталось и эскадронам одиннадцатой, попытавшимся прорваться в Снежную верхами, через лежавшую на отшибе одноименную усадьбу. При отражении красного наскока в руки врагу достался эскадронный флаг – и покуда левее, в деревне, продолжался упорный бой, солдаты, засевшие в усадьбе, с любопытством разглядывали «еврейскую тряпку». Они не представляли еще, до чего им повезло. Дивизия Морозова усадьбу более не трогала, и ее небольшой гарнизон, то оставляя позиции, то возвращаясь опять, сумел дождаться конца сражения, исход которого решился севернее.
Наш успех определили в тот день не одни лишь пешие атаки. Важное значение имел неожиданный для всех, в том числе и для его инициатора, маневр конной массой.
Покинув позиции Коротчаева и перемещаясь вместе с начдивом-четырнадцать вдоль фронта, командарм в двух верстах от Озерной заметил белевшую в кустах цепочку всадников на серых лошадях. Всадников не наших, а польских. Уланы следили, сообразил он сразу, за неким промежутком, более ничем не защищенным. Место значилось на карте заболоченным, на деле же… «Мы там ночью побывали, – сообщили оказавшиеся рядом эскадронцы. – Запросто можно пройти».
Вот оно, то самое, искомое, удача… «Александр Яковлевич! Вторую бригаду – сюда!» Пархоменко, немедленно всё понявший, с места выслал коня в карьер, к своим, – сам же командарм, не в силах ждать, с полуэскадроном бросился в атаку. (В отличие от Савицкого, он мог обходиться без брички.) Малочисленные всадники на серых моментально были опрокинуты. Стремительно оглядевшись вокруг, Буденный убедился: проход действительно пригоден, карты врали. «Ординарца в четвертую! – велел он адъютанту в порыве вдохновения. – Бригаду Литунова – сюда!»
Подоспевшую бригаду из четырнадцатой Пархоменко – под солнцем, вынырнувшим из хмари, сверкнули сотни обнаженных шашек, прогрохотали пулеметные тачанки – он направил направо, в обход Самгородка. Прискакавшую следом бригаду из четвертой Коротчаева – налево, во фланг и тыл Озерной. Собственно, в эту минуту всё решилась. Плод созрел, ему осталось лишь упасть.
Вернувшись в дивизию Коротчаева, командарм удостоверился, что наконец наладилось и там. При поддержке двух яростно строчащих бронеавтомобилей и двух артдивизионов, паливших по распознанным за время боя целям, цепи четвертой, – швыряя пятифунтовки Новицкого, разрезая проволоку ножницами, перерубая шашками, растаскивая руками, – добрались до окопов противника. Загрохотали осколочные гранаты: польские – среди последних заграждений, наши – в неприятельских траншеях. «Товарищи, вперед! Победа наша!» – выкрикивали комэски, комполка и военкомы. Зазвучало там и сям нестройное, усталое «ура» – вперемежку с двуязычной руганью, криками боли, предсмертными стонами, хрипами.
Рукопашная вышла нелегкой. Продравшиеся через проволочные ряды, бойцы бригад Чеботарева и Тюленева натыкались в окопах на широкие австрийские штыки, и не всякому удавалось отвести стальную смерть стволом винтовки или шашкой. Оснащение польской пехоты для подобной борьбы было более пригодным, чем у спешенных кавалеристов: штыки, саперные лопатки, шлемы. Но ее, пехоты, было меньше. Красные волны заливали траншеи, и наконец, когда на польских флангах и в тылу появились всадники бригады Литунова, польские взводы дрогнули. Выбираясь из окопов, стали отбегать в беспорядке к озернинским хатам. В разоренных траншеях и вокруг, на черноземе, в глине, в непросохших лужах оставались польские и русские убитые.
Крайне опасный момент возник, когда из леса западней Озерной показалась неприятельская конница. Савицкий, словно бы очнувшись, бросил в бой два уланских полка. Еще минута, и они могли ударить в бок бригаде Литунова, смять, сбить напор, переломить ситуацию. Могли, но не сумели – были остановлены отчаянными пулеметчиками. Теряя людей и коней, в беспорядке отхлынули в лес. Двадцать улан, в их числе двое офицеров погибли; сто получили ранения; тяжко был ранен полковник Токажевский, командир двенадцатого уланского. К той одной неудачной атаке свелась в этот день боевая работа Савицкого.
После полудня началась агония. Еще сопротивлявшаяся польская пехота, стиснутая на отдельных пятачках в Снежной, Озерной и Самгородке истреблялась огнем и холодным оружием. Кто-то из нижних чинов в последней, безнадежной почти надежде вскидывал руки, кто-то пытался бежать. Раненые офицеры, не в силах уйти, стреляли в себя из наганов и браунингов.
К четырем бой затих на всех пунктах, лишь раздавались порою выстрелы к югу и западу от Снежной.
* * *
Но как же счастлив тот доблестный всадник,
В битве кровавой кто век не робел,
С честным сердцем, как Божий ратник,
С верою весело смерти в глаза глядел.
Принят как витязь в отчизне радушной.
Если ж ему суждено в битве пасть,
Счастлив воин великодушный,
Храброму райский венец на часть.
(Генерал-марш, учебный напев для кавалерии)
* * *
Коноводы быстрым шагом подводили лошадей, и уцелевшие в схватке бойцы, с исцарапанными проволокой, кровоточащими руками, вскакивали в седла, обретая привычную почву под ногами, а именно стремя под широкою частью стопы и седло под известно чем. Из Озерной выводили пленных, не зарубленных и не застреленных счастливцев.
Комиссары и партийцы озабоченно скакали вдоль понурых серых групп, ограждая пленных от любителей чужого барахла и от скорых на расправу психопатов. (Каковых в Конной армии было не меньше, чем в польской, и каковых порождает не только война, не только темная, беспросветная жизнь, но и сама человеческая натура, где таится такое, что лучше туда не заглядывать.) Политработник в очках и на рыжем коне громко читал по бумажке, по-польски, о правах и обязанностях пленных. «Чего? – ворчал, уразумев о чем там речь, иной рубака. – Права, обязанности? Да кто их, сук поганых, звал? Да я бы их…» Другой, из тех, что никогда не забывают о семье, прикидывал: «Мундерчики-то справные и ботинки ничего». Мундирчики действительно были вполне, серые куртки навроде немецких, пригодные и для себя и на продажу.
Трофейные команды собирали в траншеях и на улицах австрийские манлихеры, боеприпасы, снаряжение, французские полусферические каски, американские консервы и главную добычу – орудия и пулеметы. (Пушек взято было четыре, пулеметов – двадцать.) Непросохшие лужи бурели от крови, ветер еще не развеял густой запах смерти и пороха. Уныло пели санитарные рожки, сестры милосердия и санитары искали и грузили на линейки раненых. Им пособляли подоспевшие селяне. Отдельных штатских, впрочем, больше занимали пленные. Те же, сгрудившись, с тревогой наблюдали, как копится вокруг толпа освобожденных ими в мае хлеборобов. «Отойдите, товарищи!» – выкрикивал политотдельский. «Отойди, ребята, отойди!» – вторили бойцы из оцепления.
Меж возбужденных земледельцев крутился и известный Семка Иванов из банды батьки Рудого. Банду на днях разнес в пух и прах эскадрон четвертой кавдивизии, батьку пристрелил краснюк в суконном шлеме, и Семка, счастливо утекший, обретался нынче в хате у мамуси, как обычный мирный поселянин. На жалких ляхов он глядел с негодованием. «Выпустить бы сволоте кишки, освободители». Подобрав с земли какой-то дрын, он протиснулся было поближе, осуществить народную расправу над гнобителями неньки, однако был замечен с коня политотдельским. Ловко вышибив ногой из рук детины палку, очкастый хмуро поинтересовался: «Ты, я вижу, парень боевой? В добровольцы пришел записываться, так ведь?» Он еще долго потом искал глазами Семку – куда тот делся, испарился, что ли? Семка же, пробираясь между лошадьми, повозками и санитарами, погрузился мыслью во стандартную свою утопию: «Ничего, четырехглазый, мы и тебе кишки на вилы намотаем».
Позабыв про хулигана, политотдельский на минуту снял очки и протер стекляшки бумагою с правами пленных. Вновь насадив окуляры на нос, заметил поблизости знакомую с утра группу малолетних граждан, тех что наблюдали за штурмом из-за тына. Приветливо кивнув, спросил, стараясь выражаться не по-городскому:
– Що, хлопцi, подивились, як ми панiв громили?
– Подивились! – ответил самый старший.
– Сподобалось?
– Аякже!
– А що в тебе на головi?
– Шапка польска, ось берiть, побачте.
Политотдельский шапку брать не стал. Шапок он в последние годы навидался предостаточно. Немецких, британских, французских, японских, румынских, финских. Мягкие складные, точно такого же фасона, как на хлопцах, он видел на американцах, в городе Шéнкурске Архангельской губернии, где работал в восемнадцатом в подполье115. Практическая вещь, можно убрать в карман или за пазуху, как делают, усевшись в аппарат, пилоты. Но в дождь от нее проку мало; тут практичнее фуражка с козырьком.
– Нащо вони вам?
– На пам’ять.
– Кинь, – посоветовал политотдельский. – На нiй же кров.
– Та нiчого, мамка вiдпере.
Двое пленных, напряженно ловивших звучавшие вокруг слова, со значением переглянулись. Хлопчики в пилотках побежали дальше, навстречу шедшему из Рыбчинцев оркестру.
– Слыхал? – озабоченно повернулся политотделец к эскадронцу, кандидату в члены РКП. – Мамка отстирает…
– Почитай, всю Россию отстирывать надо, – хмыкнул будущий партиец. – И Польшу ихнюю со всей Антантой. Щёлоку не хватит.
На гнедых и вороных подошел дивизионный оркестр. Музыкантские лошадки обладали ценным свойством: спокойно, не отвлекаясь на конские идеи, следовать за капельмейстером – что позволяло артистам, не самым выдающимся в мире джигитам, обходиться без повода и даже шенкеля, отдаваясь полностью игре на инструментах. Ветер прогнал наконец облака, солнце искрами рассыпалось по красной меди труб.
– Интернационал? – спросил капельмейстер, отсалютовав подъехавшим со стороны Озерной командарму, члену РВС, врид начдива и военкому четвертой.
Командарм задумчиво потрогал ус.
– Давай-ка, братец, что-нибудь повеселее.
– Гопака? Наурскую? – Капельмейстер перевел глаза на члена РВС. – Легкую кавалерию? Фигаро?
– Тоску по родине, – определился командарм. – Нехай интервенты, – взгляд на пленников, – наши марши поучат. Да на армию посмотрят. Регулярную.
– Чтобы знали псы, – добавил от себя начдив четвертой, – это им не бороды абрамам резать.
– Евреям, Дмитрий Дмитриевич, евреям, – тихим голосом поправил военком.
– Так я и говорю, евреям. Понаехали на нашу голову, цирюльники варшавские. Интервенты, смирно!
* * *
Несколько часов подряд через три отбитые села проходили с оркестрами, под развернутыми знаменами четыре конармейские дивизии. Одиннадцатая Морозова, в составе двух бригад, шла через Снежную, и засевшие в соседней усадьбе и леске остатки недобитой польской роты вдоволь наслушались в тот день революционной и военной музыки, нагляделись, с безопасной дистанции, на наши сабельные эскадроны, пулеметные тачанки, санитарные линейки и обозы. Четвертая Коротчаева двигалась через Озерную, четырнадцатая Пархоменко – через Самгородок. Следом прошла шестая Тимошенко, самая сильная, шесть тысяч сабель (в трех других дивизиях было приблизительно по три). К ночи одиннадцать бригад, пройдя двадцать пять километров, встали на ночевку вдоль речки Ростави́цы, невдалеке от железных дорог. Первая вела на Попельню и далее на Киев, другая – на панский пока еще Липовец и на советскую Умань. Обе сходились в Казатине.



