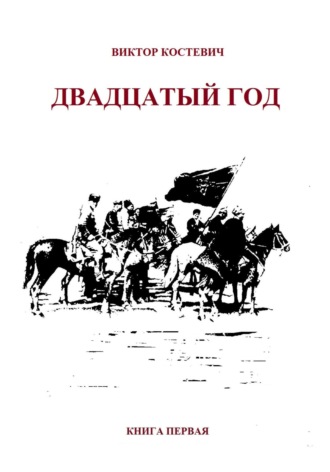
Виктор Костевич
Двадцатый год. Книга первая
Эписодий четвертый. Гнев сармата
«Кто из моих людей смеет обижать сироту? Говори: кто виноватый?»
«Швабрин виноватый. Он держит в неволе ту девушку, и насильно хочет на ней жениться».
(Пушкин)
В ночь на восьмое июня полештарм пребывал в селе Нéхворощь119, Андрушёвской волости, Житомирского уезда.
Пять часов просидели над картами. Обсуждали возможное развитие операций – в зависимости от того, как оно повернется у Морозова и у Коротчаева, под Житомиром и под Бердичевом. Ординарцы, ребята попроще, те давно клевали носами, штабные из спецов тактично прикрывали рты ладонями. Глаза слезились, не вполне различая названий. Хóдорков, Девóчки, Вольня, Кашперовка, Гри́шковцы, Котовка, Пятка.
«Баста!» – сказал наконец командарм. И шумно выдохнул, облегченно и с чистой совестью. «Баста», – согласился начальник полештарма Зотов. (Казак станицы Голубинской, Второго Донского округа. Полный георгиевский кавалер, ушедший с империалистической офицером. Пускай всего лишь хорунжим, выражаясь по-армейски – подпоручиком или корнетом.) Подчиненные, уставшие и изможденные, не скрывая более зевков, потихоньку стали расходиться.
Командарм, понимая, что сам не заснет, переглянулся с членом РВС. «Пройдемся?» Член кивнул. Вышли на воздух, спустились к воде, присели на травке.
Ночь была тихой, какой и следовало быть украинской ночи. После утомительных дождей небо сделалось прозрачным, и в небе заблистали подзабытые за мокрую неделю звезды. Саженях в сорока от полководцев, почти неслышная, струилась речка. Вскрикивали, радуясь своим лягушьим радостям, лягушки. Луна, немножко на ущербе, серебрила тополиные листья. Как здесь, в беспокойно прикорнувшей Нехворощи, так и в Фастове, в Белой Церкви или в тех же, прости господи, Житомире с Бердичевом.
– О чем, Клим, задумался? О Коротчаеве, Морозове?
– Не угадаешь, Сёма. О Гопнерше из Екатеринослава. Наговорила Катерине. А я теперь сиди и думай.
Командарм насупился. Ну да. Гопнерша знает с кем поговорить. С Катериной Ворошиловой, в девичестве Голдою Горбман. Катерина и раньше, по словам Климента, с тою Гопнершею зналась, через нее и в революцию пошла. Катерине это близко, свой народ. Единоверцы, выражаясь по-старорежимному. Только кто вот из России шляхту вышвырнет? Моисей Давидович Гопнер? Соломон Моисеевич Горбман? Боевые хлопцы, они, конечно, среди гоцманов отыщутся, но чтоб Пилсуду сковырнуть со всей Антантой – тут гоцманов и шифманов не хватит. Тут всем народом навалиться надо.
– Про поляков надо думать, Клим. К слову… – Говорить об этом командарму не хотелось. Особенно сейчас. Куда приятнее глядеть на отраженный в речке лунный диск. И всё же командарм продолжил. – По твоему приказу в шестой бойца сегодня хлопнули?
– Не по приказу, Семен Михайлович, – ответил член устало, неохотно, назвав товарища по имени и отчеству. – По приговору.
– Ревтрибунала, надо полагать? – Голос командарма сделался недобрым. Где теперь стоят дивизии, а где остались трибуналы…
Член совета пояснил. Бесстрастно. Внешне, во всяком случае.
– Самоснабжались. Со смертельным исходом. Жалоба от населения. Обоснованная.
– Населения… Знаю я, Клим, какого населения. Не слишком ли мы запросто?
– Тут вопросов быть не может, Семен Михайлович. Я проверил. Лично. Всё сошлось. Увы.
Командарм стиснул пальцы. Просто. Всё у них, то есть у нас, у большевиков, выходит просто. А в Конной армии в иных частях вчерашний беляк на вчерашнем махновце. А вокруг пропаганда, голоса да подголоски. «За кого деретесь, хлопцы? За жидов?»
– Снова запоют, крещеную душу да не за понюшку…
– Бандитскую душу. Ездили пьяные, куражились, они-де герои-буденовцы…
– Вот ведь курвы паскудные! – вскинулся командующий. – Перед строем сучьего сына?
– Некогда возиться было.
– Жаль.
Командарм замолчал, и надолго. Усилием воли отогнал непрошенные мысли. Расслабил кисти рук, предплечья, плечи, спину. Час отдыха, донельзя необходимый. Скоро снова думать, снова действовать, пока же… Чистые звезды, тишь, покой, лягухи. Неслышный вечный гомон устало уснувшего лагеря: негромкие окрики часовых, хрипы коней, дружный бойцовский храп, тревожные сонные стоны, потрескиванье костров. Как обычно, как всегда. Только вот это, в дремлющем воздухе, неподалеку… Что-то менее привычное. Ха… Да чтоб я сдох!
– Слышишь, Клим? – шепнул он прямо в ухо члену РВС.
– Не слышу, Сёма, – признался член совета, удивленный вдруг повеселевшим тоном командарма. Фабричный, выросший в цехах, острым слухом член не отличался.
– Да вон, – шепнул командующий. – Тамочки. Ухом влево поведи, товарищ.
Теперь член совета учуял.
– Ага. Вот ведь…
В отдалении под ивами рассыпáлся мелким жемчугом девчачий смех. За смехом следовал горячий шепот. Только чей? Быть может, Гриньки, молодого порученца, которому всё нипочем – ни ночи без сна, ни переходы, ни атаки, и теперь он убеждает нехворощанскую юницу одарить его толикой ласки. И ведь уговорит, стервец, – как же отказать герою в этакой-то малости, юному красавцу в шароварах с полной леей, офицерском френче и ремнях, в кубанской, сбитой набок шапке?
«Мне бы так», – подумали, возможно, полководцы. Но в подобных мыслях, солидные, семейные, не признались. А скорее всего, не подумали. Ибо думали о Бердичеве и Житомире.
Шуршание под ивами становилось всё отчетливей и, если позволительно сказать, конкретнее. Сдавленные радостные шепоты, то перекрывали, то перекрывались не менее радостным кваканьем. Заржала потревоженная лошадь. (Кони, если кто не знает, отличаются острейшим слухом.)
– Обратно, что ли, дождик собирается? – неожиданно заметил командарм.
– С чего бы? – снова подивился член совета.
– А ты послушай. Да и погляди.
Член РВС насторожился. В самом деле. Откуда-то, непонятно покамест откуда, доносился неясный, странный гул. Прервался. Снова рокотнул. Опять, опять, опять. Небо осветилось непонятными, не по сезону зарницами. Молниями?
«Галочко, Галочко!» – донеслось мольбою из-под ив. Командарм узнал по голосу: точно он, кубанец Гринька Тимченко! «Сьогоднi не можу» – отозвался голос девы. «Мабуть не хочеш?» «Як я можу, що не хочу? Не можу. Бо зараз дощик буде». «Який тобi ще дощик, жодноï хмари в небi нема. Ось подивись який мiсяць. Чисте срiбло». «Чи не чуєш?» «Чую, сонечко, чую. I що?»
Член совета одной рукой держался за живот, другою прикрывал английские усы и рот. Командарм хихикал в кулаки. А ведь действительно, и що? И что за девки у нас пошли теперь, дождик им помеха. Не девки, а девóчки. Наши, чай, другими были. Вспомнишь, бывало… Молодежь.
Из-под ив показались две тени. Одна, пониже и стройнее, шибко устремилась вправо, на ходу подтягивая что-то, одергивая и запахивая. Другая, встав столбом, растерянно чесала чуб, обиженно уставившись на дальние зарницы.
– Тимченко! До мене! Швыдко! – свистящим шепотом распорядился командарм.
Порученец, вдвойне раздосадованный – как исчезновеньем девы, так и появлением начальства, – вырос перед полководцами.
– Сорвалось? – участливо поинтересовался командующий.
– Не так чтоб оченно совсем, товарищ командарм, – обиженно и нагло ответил порученец.
– Смотри у меня. А то если что, РВС с тобою нянькаться не станет. Дуй-ка в штаб, узнай, что нового.
– Слушаюсь.
В небесах по-прежнему гремело. Вроде бы на западе – командарм на всякий случай сверился по компасу. Или южнее? Не разобрать. Неподалеку ржали разбуженные шумом лошади, в речке, как назло, заголосили глупые лягушки.
– В Житомире? – вслушивался командарм. – Или в Бердичеве? Черт, возьми, чего ж они расквакались? Нашли, паскуды, время!
– Вроде, в Житомире, – определился член совета. – На западе, Семен. Точно на западе.
Оба вскочили. Кинулись к хатам. От штаба навстречу несся Тимченко.
– Товарищ командарм! Товарищ Ворошилов!
На пороге их встретил взбудораженный донельзя Зотов. Радостно топорщились подкрученные усы.
– Есть, Семен Михайлыч, есть!
– Выкладывай, Степан Андреич, не томи.
– Митя в Житомире. Федя штурмует Бердичев. И в придачу вот вам радио с оперсводкой штаба фронта. Всё враз пришло! Читайте!
Начдив четвертой доносил: «В 18 часов после боя у Левкова дивизия заняла Житомир. Жители встречали цветами». Начдив одиннадцатой докладывал: «Веду бой. Противник отчаянно сопротивляется. Бердичев возьму».
Командарм с размаху трахнул кулаком о стол.
– Живем, товарищи братцы мои сердешные! Живем, в душу их польскую мать!
* * *
То, что для командарма и полештарма Конной прозвучало отдаленным, предвещающем ненастье громом, в самом Житомире произвело потрясающее, в буквальном смысле слова, действие. Среди ночи – жутковатой ночи после жестокого, пусть и радостного дня, нечастный город содрогнулся от невероятной силы грохота. Качнулись под ногами обывателей полы, вздрогнули испуганные стены. Задребезжала в буфетах, у кого те имелись, посуда, задрожали, а кое-где повылетали стекла. Захныкали и зарыдали дети, в ужасе переглянулись взрослые. Кто-то рухнул на пол, кто-то, женского видимо полу, по-пластунски пополз под кровать, кто-то бросился поспешно к погребу – или куда-нибудь еще, где можно схорониться от новой внезапной напасти. Многим мнилось, впрочем: схорониться от такого страха невозможно.
За окнами заволновалось зарево. Непрерывный, раздирающий сердца и души гул не прерывался ни на миг и лишь усиливался на секунды, превращаясь в совершенно и абсолютно невыносимый. Небо делалось то розовым, то пурпурным, то сине-черным – и представлялось ничего не понимавшим человекам разбушевавшимся огненным морем, поглотившим волынскую столицу и через минуту, много через две грозившим захлестнуть последние, не утонувшие в протуберанцах здания – те самые, где укрылся, обнимая обомлевшую супругу и детишек ты сам, последний оставшийся в живых житомирянин.
Не будем описывать, что ощущали в бесконечный час Армагеддона доктор Ерошенко и жена его Анна Владимировна, его коллега доктор Соркин и немолодой уже отец чекиста Мермана Натан, что чувствовали мама и сестренка отважного буденовца Майстренко, что испытали девы его грез – гимназистки Никитина, Голубенко и Вронская, что пережила библиотекарша Валя, Басина тюремная товарка, не говоря о том, что вынесли и претерпели прочие десятки тысяч жителей стотысячного города. Видавших виды, и весьма разнообразные, но ничего подобного пока не испытавших – ведь всё бывает, как известно, первый раз. Автор и сам не знает всех подробностей, а окунувшись в ему известные, рискует утопить читателя в деталях, для повествования не столь необходимых. Но что происходило в домике на Лермонтовской, об этом автор рассказать обязан. Обо всем, случившемся в том домике, автору известно, можно сказать, из первых рук. И коли не рассказывать об этом, то стоило ли вовсе городить такой обширный и пространный огород?
При первых же таинственных «выбýхах» – а наш сообразительный читатель догадался, разумеется, что это были взрывы – Трэшка, уронивши челюсть, принялся быстро и часто креститься. Глядя на коллегу, обмахнулся два-три раза и Стахура. «Свят, свят, свят», – подсказала бы весело Барбара, если бы ее саму не вжал в кровать фантастической мощи грохот, если бы она – даже она – не ощутила себя в этот миг жалким и беспомощным существом, дождевым червячком, dżdżowniczką под занесенною лопатой рыболова.
За окном, танцуя, багрянились отсветы пламени. Удары адским молотом следовали не переставая: то быстро, то часто, то вовсе непрерывно. Человек невоенный, Бася всё же быстрее солдат сообразила, что дело в какой-то эксплозии – но природа и происхождение последней оставались для Баси загадкой. В голову – в те моменты, когда удавалось подумать – настойчиво лез Карл Брюллов с его последним днем Помпеи. Вернее, Помпеев… А еще вернее – Помпей, потому что Pompeji, Pompejorum это отчего-то не masculinum, а neutrum, она запомнила в детстве, из словаря… Боже, снова… Но если нарушено правило среднего рода… если в pluralis вместо окончания «а»… выступает окончание «i», тогда … Господи… Нет сил, нет воздуха, нет… Тогда всё же лучше Помпеев. Скоро всё тут позасыплет пеплом, и Костя позовет археологов, чтобы найти ее, Клавдии и Леськи останки. Отпечатки в каменной породе. Безмолвные следы последних мук. Здесь же отыщутся оттиски Стахуры и Трэшки. Бедненький Костя, что он вообразит?
Не вынеся последней, бесконечно ужасной мысли, Бася подскочила на кровати. Бросилась из комнаты в распахнутую дверь. Окаменевшие стражи словно и не заметили.
В сенях она увидела Василия. Беспрерывно, на одной тоскливой ноте завывая, обезумевший от ужаса котище тщился укрыться от вселенской катастрофы в набитом почти до самого верха ведре. Голова и передние лапы, те давно уже были внутри, но мохнатое тулово, задние конечности, хвост оставались снаружи, и эти задние конечности отчаянно перебирали по металлу, царапали, скользили, добирались почти до середины и тут же вновь соскальзывали на пол.
И увидев это, Бася, хоть не сразу, засмеялась. Не истерическим, не психопатическим, но самым обычным, самым здоровым, самым веселым, счастливым смехом. Не понимая почему еще, она вдруг осознала, что Рагнарёк обходит стороной, что ей, Барбаре Котвицкой, сотруднице Наркомпроса РСФСР, а также Клавдии, Леське ничего не угрожает, не сейчас во всяком случае, не сегодня. Обернувшись, увидела рядом Трэшку. «Старший шереговый», глядя на кота, расхохотался. Следом вынырнул из комнаты Стахура. Ухмыльнулся и что было сил проорал:
– Я понял! Красножопые снаряды рвут на станции.
– Рвут, стал быть? – отозвался старший рядовой. – Значит…
Бася не уразумела, что это значило для Трэшки. Но приняв информацию к сведению и нисколько в ней не усомнившись, подивилась: зачем же рвать снаряды, если они теперь наши? Рискуя разнести полгорода и, как минимум, вокзал и станцию. Ей припомнился страшный взрыв в канадском порту Галифаксе, в декабре семнадцатого. Французского транспорта с мелинитом, тротилом и пироксилином – из-за столкновения с каким-то катером. Тогда в России было, мягко говоря, не до Канады, но Барбару, упорно, несмотря ни на что читавшую газеты, потрясли невероятные подробности. Порт и целый городской район исчезли – испепеленные пламенем и захлестнутые восемнадцатиметровою волной; две тысячи опознанных трупов, еще две тысячи пропавших без вести, девять тысяч раненых, сотни лишившихся зрения. Но в Житомире ведь обойдется… Правда? Там на станции, верно, какие-то другие вещества, не мелинит, иначе бы давно…
Трэшка распахнул двери в комнату Клавдии. Перекрикивая грохот, проорал: «Не ссыте, дамы, это не конец». В сени проскользнула Леська. Плача, прижалась к польской тете, но увидев величезного кота, продолжавшего выть и карабкаться в ведро, сквозь слезы страха улыбнулась и она.
* * *
В течение шестого и седьмого июня войска двенадцатой армии т. Меженинова продолжали переправу через Днепр. Ударная группа двенадцатой под командованием т. Голикова, расширяя плацдармы севернее Киева, нависала над интервентами, угрожая перерезать магистраль Киев–Коростень. С боями возвращалась на утраченные позиции группа т. Якира. Штурмбепо120 «Джузеппе Гарибальди» т. Круминя, базируясь на станцию Цветково, осуществлял подготовку к наступлению на Фастов, имея целью вместе с другими бронепоездами группы закупорить железную дорогу между Киевом и Казатином, лишив тем противника второй важнейшей линии коммуникаций. (Магда Балоде негодовала, что кузен не берет ее в рейды, оставляя в базовом составе на станции. Грозная опасность курляндку не пугала. Т. Ерошенко будет в бою без нее, один, начальником смертельного десанта. Если Костю ранят, кто ему поможет? Мерман?) На дальнем западном участке фронта вели бои в окрестностях Гайсина дивизии четырнадцатой армии т. Уборевича.
В целом польские войска на Правобережье пребывали под давлением сразу с нескольких сторон: Меженинов наступал с востока, Якир и Уборевич с юга, в самом же сердце польских войск, в их кровеносном и нервном узле, в средоточье польских сообщений нахально обосновалась, нанося внезапные удары, Конармия т. Буденного – та самая, которую пару дней назад варшавские стратеги рассматривали как стратегическую нелепость.
Итоги рейдов на Житомир и Бердичев потрясали польское воображение. В одночасье были уничтожены все средства телефонно-телеграфной связи, разрушены пути, мосты, взорван к чертям резервный фронтовой огнезапас: десять вагонов и артсклады в Житомире, до миллиона, как смело округлял начдив-одиннадцать, снарядов в Бердичеве, захвачены богатые трофеи – пулеметы, пушки, лошади, провизия.
В Житомире были освобождены пять тысяч наших пленных, две тысячи захваченных врагом коммунистов и сочувствующих. Во дворе городской тюрьмы, на руках у эскадронцев из двадцатого полка скончался замученный пытками польский капрал-телеграфист. Тайный большевик, разоблаченный контрразведкой или жандармерией? Ни фамилии, ни имени его узнать не удалось. Последним словом, сорвавшимся с разбитых почерневших губ, было «Барбара». Имя храброй подпольщицы, связной?
Конная отомстит за тебя, дорогой наш польский товарищ и друг. За тебя и за твою таинственную Барбару.
* * *
День восьмого июня был тих. Поутру, до полудня еще, изредка проезжал конармейский разъезд да катили подводы, увозившие в дивизию последние, не отправленные вечером трофеи, да брели освобожденные из плена красные бойцы и командиры. Начдив четвертой костерил себя за недочет, на который после щедрой похвалы деликатно, без ненужных выражений указал ему в ответе командарм: не оседлав заблаговременно новоградского шоссе, он позволил неприятельскому штабу улизнуть. Лишь теперь стало ясно, что это был за штаб – управление не армии, но целого польского фронта. Коротчаеву было обидно. Ищи теперь ветра. Полячок давно за Новоградом, улепетывает в Ровно… Вот именно, кивал в депешах командарм. Потому необходимо заняться теми, что под Киевом, не дать им убежать, перехватить пути отхода. Собрать силы Конной в кулак. Словом, к вечеру исчезли и разъезды. Стало тише, еще тише, чем было. Над почерневшим вокзалом поднимался к небу серый дым.
В среду, девятого, Барбара пробудилась рано. Вернее, очнулась, в пятнадцатый быть может раз, от недолгого беспокойного забытья. За столом увидела Стахуру. Капрал, не меняя выражения лица, провел по горлу грязным пальцем. Так сказать, предупредил: не рыпайся.
Барбаре же мучительно хотелось… Как бы это лучше сформулировать… Прежде ее могли оставить в комнате одну… Но теперь, с появлением в городе красных не оставляли. Потому что окно выходило на улицу. Ведро стояло теперь в прихожей, за дверью, и вместо того чтобы гордо попросить Стахуру удалиться, Басе было нужно испросить разрешения выйти.
По-дурацки всё ж таки устроен человек. Даже такая очаровательная особа. Самая красивая в Варшаве, самая прекрасная в Житомире. Какой-нибудь пес или кот бездуховно поднимает себе ножку, ей же, напротив, приходится ноги сводить, стараясь не стонать от трудновыносимой муки, и утешать себя тем, что бывают вещи похуже. Неужели придется попроситься? Два идиота не догадаются сами? Да и чем оно, собственно, лучше? И что они ей скажут? «На оправку»?
Часа через два Барбара не выдержала. С непреклонной суровостью заявила: «Мне необходимо выйти». Стахура, ухмыльнувшись и посовещавшись с Трэшкой, сообщил: в комнате останется он сам, сени перекроет Трэшка, а она пусть поскорее делает дела. Барбара вышла. Наконец.
Хорошо еще, что не хотелось по-другому. Накануне ничего почти не съела. Комбатанты ей не предложили, «имкины» продукты иссякали. Вставал очередной, еще более неприятный вопрос: чем надзиратели будут питаться и чем кормить несчастных заключенных.
Ненадолго оказавшись в одиночестве и стремительно управившись с делами, Барбара прошептала в дверь хозяйки: «Клавдия». Ответ раздался из сеней: «Не переговариваться! Сделала, шуруй назад». «Не сделала еще», – огрызнулась Барбара. И рассвирепев, добавила совсем уж непотребное: «Прописаюсь, вернусь. Не сбивайте с ритма, рядовой». Ей богу, если б не Олеська, сказала бы: «Проссусь». Трэшка, не уступая ей ни пяди, поправил: «Старший!»
– Тише вы там! – отозвался на их перебранку Стахура. – Раскудахтались, писцы.
Баська, прижавшись к стене, сдерживала слезы. Ладно, так и быть, лучше помолчать, но остаться ненадолго одной. Здесь, в узком пространстве между комнатами, сенями, кухней, по соседству с поганым ведром.
В мире и Житомире царила тишина.
Когда зазвучали выстрелы, Бася не вздрогнула. Экая невидаль, стрельба. Звон стекла Басю тоже не напугал. Равно как и пулеметная очередь.
– Быстро на место! – злобно прошептал из-за двери Стахура. Бася неспешно и гордо вернулась. Следом просунулся Трэшка.
– Слыхал? Чего это они?
– Известно чего. Казаки.
– И что?
– С жидами разбираются, вот что. Нас не тронут. Ведь Клавка не жидовка, а?– Стахура поглядел на Басю. Издевательски.
Басино сердце сжалось. Ей снова, который уж раз в нашей повести, захотелось тихонько завыть. От боли, обиды, бессилия, унижения. Наши, наши – как же они могут, наши… Трэшка, разгадав ее чувства, с довольным видом и почти нисколько не сфальшивив, промурлыкал: «Шашка – верная подруга и винтовка для врага, тата-пара-тата-пара, пика – слава казака». Бася отвернулась.
– Жалко мы не казаки, жрачкой разжились бы, – посетовал Стахура, ставя перед собой последнюю, полупустую коробку с имковским печеньем. – Садись, боец, пока я всё не схряпал. – И внезапно насторожился, положил на губы палец: «Тс!»
Комбатанты замерли. В руке у Трэшки появился револьвер. Бася вытянула шею, напрягая слух. Точно, так и есть. Шаги на улице.
Мимо проходили люди, не менее десятка. В тяжелой военной обуви. О чем-то переговаривались. Глухо, невнятно, не разобрать. Но ощущение было такое, словно бы они чего-то ищут. Красные, красные, как же вам не совестно… Стахура, привстав, механически прожевывал всунутое в рот, до тревоги еще, печенье.
И тогда, в тот момент, когда Бася умирала от стыда за красных воинов, когда Трэшка поглаживал наган, а Стахура, жуя, вынул нож, тогда они трое, Бася, старший рядовой и капрал, вдруг услышали ясное, отчетливое: «Nie ma tu czego szukać, Jasiu, przecież to nie żydowska dzielnica»121.
Оба комбатанта так и сели, с распахнутыми настежь ртами. (Удивительно, как Стахуре удалось не подавиться.) А Бася, та не знала, что думать. (Автор не станет перечислять варианты ее противоречивых мыслей. Оставит простор воображению читателя.)
Спустя приблизительно восемь секунд, минимальное время полноценного, если верить Зеньковичу, кадра, Трэшка, опустив ладонь с наганом, прошептал: «Наши… Наши хлопцы». А Стахура, позабыв об обычной своей молчаливости и дожевав продукт от «Имки», присовокупил, вольно процитировав поэта-патриота: «Не погибла еще, вашу русскую мать, не погибла».
* * *
Кинотеатр Колизей. Новый Свет, 19. «Сокровище из сокровищ». Чистая, словно улыбка ребенка, американская кинематографическая пьеса. Варшаву потрясет игра гениальной 5-летней актрисы. Родители! Приводите свои дражайшие сокровища – деток. Детки! Приводите мамочек, папочек, сестренок и братишек.
В невероятно занимательном «Дневнике Пате»: Радостная встреча Клемансо, друга польского народа в городе Страсбурге. Ужасающий пожар на нефтяных полях. Рекордный пролет аэроплана под триумфальной аркой в Париже и мн. другое.
Внимание! Для детей и солдат цены снижены.
* * *
В помещении житомирской управы дожидались в то утро Аббариуса, начальника городской милиции, вызванного часом ранее к новому польскому коменданту, некоему капитану Шумскому.
С сожалением приходится констатировать, что в России не воздали должного мужеству этих людей, безвестных, никем не прославленных гласных городских наших дум, членов управ, земских деятелей, которые – не вполне фанатичные, интеллигентные, нередко либеральные – вместо того чтобы раз и навсегда свалить из прóклятой богом страны, день за днем, движимые неуловимым для нормального человека чувством, возвращались, не всегда добровольно, на свои рабочие места – выслушивать очередные заявления очередных властителей, черно-бело-красных, желто-голубых, бело-красных и каких-нибудь еще. О контрибуциях, реквизициях, немедленных и неотложных поставках, карах за неподчинение, заложниках, – стараясь смягчить, уладить, утрясти, а еще организовать, насколько можно, а точнее, попросту спасти городское хозяйство, школу, медицину, быт. И превращаясь, в свою очередь, в заложников, плательщиков, а также лиц, примерно наказуемых во устрашение прочим. К чему столь пространный высокопарный период?
К тому, что утром все были на месте.
Не следует думать, что лица, собравшиеся в среду девятого июня девятьсот двадцатого года в городской управе, были слабыми и мягкотелыми людьми. Будь они робкими, неавторитетными, этих русских интеллигентов не избирали бы на их посты в жутчайшие месяцы русской истории – развала, анархии, угрозы оккупации, уэнэровщины, гетманщины, повторной уэнэровщины. Будь они слабыми, они бы давно всё забросили к черту – и уж точно не явились бы в управу в день «переворота», как называли в романтические годы России очередную перемену власти.
В день, отнюдь не обещавший быть бескровным.
Въезжавшие в город на грузовиках славянские воители выглядели, мягко говоря, небезопасно: целили по сторонам из «лебелей» и «манлихеров», готовые в любой момент пальнуть во всё, что представится им подозрительным. Рожи славян были злобными, глаза испуганно-свирепыми. Прыгая по трое-четверо из кузовов, они перехватывали редкостных прохожих, пристально вглядываясь в лица, словно были способны определить коммуниста на глаз – как фельдфебель Миура на станции Завитая. Чтобы явиться в этот день в управу, нужно было быть человеком из стали.
Такими они и были.
К июню двадцатого года время пребывания городского головы Ивана Вороницына на воле составляло более полутора лет. Данной стадии предшествовало девятимесячное пребывание в германской тюрьме, германском концлагере и германской же в ту пору Брестской крепости. Туда упрямого социалиста спровадили на всякий случай оккупировавшие юг России германцы. (На основании бумаги, полученной от уэнэровского МВД, и по наводке легко догадаться чьей. Беспощадный критик самостийщины, избранный населением в Центральную Раду, – от таких своих членов Рада стремилась избавиться.)
Предыдущий свободный период был короче, составив приблизительно год, от крушения царизма до прихода оккупантов. Предварявший его тюремный фазис был рекордным, уложившись между севастопольским восстанием в ноябре девятьсот пятого и «великой русской революцией» в феврале семнадцатого.
«Всё ясно, – емко сформулировал товарищ Мерман, беседуя с Вороницыным в Волынской губчека, – между первой и второй, в промежуточке, тютля в тютлю». «Именно так, Иосиф Натанович», – подтвердил Иван Петрович, мысленно прикидывая, не придется ли задержаться заодно и в этом заведении. И если придется, удастся ли выйти.
Дореволюционный тюремный срок, а вернее бессрочная каторга, распадался у него на два этапа. Первый, прожитый в ручных и ножных кандалах, продолжался пять лет с небольшим. Второй, в одних только ножных, почти до самого конца. Как и прочие зачинщики севастопольского возмущения, молодой социалист приговорен был к смерти, но для смерти опоздал родиться – на два с половиною месяца. К моменту государственного преступления ему исполнилось двадцать, тогда как согласно тогдашним законам молодые люди созревали для виселицы в двадцать один. (По той же причине, в Австро-Венгрии в четырнадцатом не был повешен Гаврило Принцип, благополучно угасший в восемнадцатом от чахотки.)
В тюрьме, в кандалах, Вороницын постигал французских энциклопедистов и набрасывал в уме работу по истории атеизма. О да, как большинство образованных его современников, Вороницын был отъявленным безбожником. Кошмарный, непростительный грех с точки зрения православных христиан, католиков, кальвинистов, лютеран, сектантов, не говоря о новообращенных любой конфессии и масти. Но кошмарнее всего – Вороницын был революционером. Не только практиком, но и теоретиком. Социал – о страх и ужас – демократом. Впрочем, не большевиком, меньшевиком. Но меньшевиком довольно странным. Хотя возможно, вполне нормальным, но не таким, как обычно представляют меньшевика. Прочтите его книжку о лейтенанте Шмидте – и вы поймете, что имеется в виду122.
«Это революция. А революция прекрасна… Красное знамя пылало в наших сердцах». Это цитаты из него, из Вороницына, про освобождение из Брестской крепости в результате революции в Германии. Идеализация? Где-то, в чем-то. Но не вполне. «Нас не покидало ощущение: из-под немецкого душа едем прямо в русскую баню».
О большевиках Вороницын шутил: у них, как минимум, одно бесспорное достоинство – они принимают ответственность на себя, обходятся без фиговых листочков вроде дум, управ и учредилок. К однопартийцам он, осуждая эксцессы РКП, относился с печальной иронией – им бы жить в другое время и не здесь. Хочешь быть принципиальным и гуманным – действуй. А трепаться лучше где-нибудь в Женеве. Или в Стокгольме. На готовеньком. Созданном и завоеванном швейцарцами и шведами.
Память о расстрелянном на Березани лейтенанте была для житомирского головы священной. Но не священной коровой. Почитая мученика, Вороницын трезво и отнюдь не холодно его критиковал – за тактические ошибки, за идеализм, за политическую безграмотность, незрелость, нерешительность, медлительность.
К чему подобные подробности?
Это к вопросу о стали и гвоздях.
Между тем Аббариус не приходил. Вороницын, внешне спокойно, время от времени взглядывал на часы, гласные думы и члены управы, столь же спокойно, занимались делами, секретарь управы Рабинович вслушивался, с безучастным видом, во все более частые выстрелы и вскрики. Кулаков старались не сжимать. Не суетиться. Не впервые.
Когда загремели, с равномерным промежутками, пулеметные очереди, каждый всё же приподнял голову. Вороницын встал и подошел к окну – то есть сделал то, чего нормальный человек, не из стали и даже вполне себе военный, делать бы не стал ни в коем случае. Рядом, у окна оказался секретарь управы Рабинович. Грохот доносился справа. «С Театральной, на углу», – сориентировался Вороницын. Рабинович угрюмо кивнул. Оба вернулись к столу.
– Иван Васильевич, наконец-то! – вымолвил кто-то, увидев на пороге Аббариуса.
Начальник милиции со свойственным ему спокойствием, как природным, так и благоприобретенным, прошел и, кивнув присутствующим, сел. Не дожидаясь вопросов, объяснил происхождение пулеметных очередей.
– Это по казначейству. С автомобиля заметили открытое окно. Наши окна, я полагаю, закрыты?



