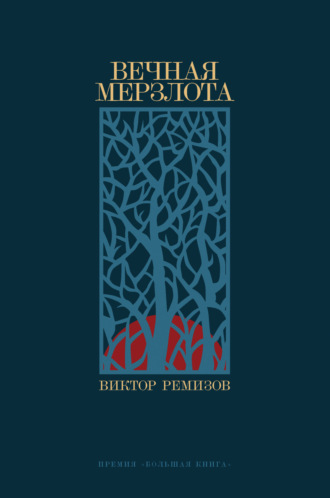
Виктор Ремизов
Вечная мерзлота
3
З/к[7] Горчаков Георгий Николаевич неторопливо обрубал сучки со сваленных сосен, относил в кучи, перекуривал неспешно, разглядывал издали суету под ермаковским взвозом. Там грохотала техника, шумели люди, здесь же, на дальнем конце будущей зоны, кроме санитара Шуры Белозерцева никого не было. Временами ветер доносил сильный запах пароходного дыма. Горчаков поднимал голову и его ноздри сами собой, по наивности человеческой, тянули знакомые тревожащие душу запахи.
Лагерному фельдшеру Георгию Николаевичу Горчакову было сорок семь, выглядел он старше, может и на шестьдесят, но не стариком, глаза были нестарые. Выше среднего роста, крепкий в плечах, чуть сутулый. Лицо Горчакова всегда бывало спокойно, его можно было бы назвать и волевым, но выражало оно совсем немного. За долгие годы бездумного подчинения его лицо научилось не участвовать в происходящем. Это была довольно обычная физиономия старого лагерника: глубокие морщины поперек лба, разношенные ветрами и морозами слезящиеся глаза, дважды сломанный нос – в январе тридцать седьмого на следствии в Смоленской тюрьме и потом урки на Владивостокской пересылке – оба раза срослось криво, с уродливой щербиной. Были и другие отметины.
Горчаков сел на прохладный сосновый ствол среди необрубленных еще толстых суков. Тщательно протер круглые очки и, закурив, замер, глядя на могучую реку. Он не любил Енисея. Когда-то в молодости он сравнил его с бородатым мужиком с топором, бредущим мимо по своим делам. Енисей был безразличен к человеку. Он совсем не был красив, как не может быть красивым угрюмый и опасный мужик. Просто иногда он бывал спокойным.
Первый раз Георгий Николаевич попал в эти края в середине двадцатых, начинающим геологом, тогда все было иначе. Было много солнца, много сил, счастливого упрямства, удачи и наивной веры, что все можно обуздать, даже и мужика с топором. Многое тогда удалось… Даже потом, когда в тридцать восьмом начальник «Норильскстроя» Перегудов перевел заключенного Горчакова с Колымы, это были три отличных полевых сезона – тридцать восьмой, тридцать девятый и сороковой. Потом снова были лагеря «Дальстроя», потом Салехард, и вот судьба опять привела его на Енисей. Два последних года кантовался доктор геолого-минералогических наук, лауреат премии ВСНХ, з/к с учетным номером 2338 Горчаков Георгий Николаевич фельдшером по здешним зонам.
Лишь в пору тяжелых осенних штормов, когда наружу был весь его варначий нрав, Енисей был ничего себе. Горчаков мог часами на него смотреть. Осенью все было так же безжалостно, но честно. Во всякое же другое время «батюшка-Енисей» был угрюмым безответным зычарой, которому нельзя было доверять, нельзя было лезть к нему со своими мыслями и чувствами. Даже колымские ручьи и речки помнились Горчакову как понимающие тебя, а иногда и расположенные к тебе. Енисей не знал никаких таких чувств к человеку.
Подошел Шура, хотел что-то сказать, но, глянув на застывшего вдаль начальника, молча присел на тот же ствол. Рукавицы-верхонки подложил под себя. Белозерцев был идеальным санитаром – не боялся ни крови, ни грязной работы, ни блатных. У Горчакова, как у всех старых лагерников, ни с кем не заводилось близких отношений, Шуре же он доверял, они вместе ели, иногда разговаривали.
– Полная безнадега, чего и говорить! – продолжил Шура ранее начатую мысль. – Сколько раз представлял, как ухожу от реки… – он повернулся и строго посмотрел на Горчакова. – Вроде и Россия кругом, а никогда до людей не добраться! Очень неприятно, Георгий Николаич, на тот свет, получается, уходишь!
Горчаков кивнул, соглашаясь, сам рассматривал изуродованный берег реки. Неделю назад тут было тихо, как у Христа за пазухой. Нетронутая полусонная тайга и мутная весенняя река с белыми торосами по берегу. Птички пели… Но за два последних дня пришло много барж, заключенных сильно прибавилось и тайги навалили изрядно. Километра на три вдоль берега все уже лежало, словно скошенное, деревья распиливали, растаскивали, жгли в кострах и сбрасывали в реку, освобождая место под площадки. Десятки барж стояли под разгрузкой, росли горы стройматериалов… и всюду, как в гигантском муравейнике, сновали и сновали люди. Издали не разобрать было, кто из них в серых казенных робах, а кто в полевой форме с портупеей и кобурой на поясе.
– Лепила[8]! – к ним через завалы пробирался помбригадира Козырьков. – Заманался тебя искать! Там особист врача требует!
Горчаков очнулся от мыслей, посмотрел на топор, торчащий рядом в дереве.
– Я заберу, – понял его Шура.
Горчаков надел верхонки и стал спускаться к реке. Помбригадира шел сзади, вытирая пот со лба. Козырьков хоть и пытался разговаривать, как блатной, но блатным не был. Крестьянин Тульской губернии, он сидел четвертый год за два мешка картошки, которые кто-то спрятал у него в омшанике. Он был страшно удручен такой несправедливостью и подробно рассказывал, как те мешки стояли почти на виду и как бы он их заныкал, если бы на самом деле хотел спрятать. Больше всего его расстраивало, что мешки достались тому, кто стукнул. В помбригадиры он попал случайно и очень дорожил местом. Это была самая высокая должность за всю его жизнь. Покрикивать даже научился.
Впереди из баржи выгружали большой женский этап. Основная его часть неровной колонной медленно поднималась по склону, у баржи выстраивали последние пятерки, считали. По мере приближения к женщинам Козырек оживлялся, щупал реденькие усы, расстегивал черную казенную спецовку и поглаживал откуда-то взявшуюся у него дырявую тельняшку. Улыбался глуповато и заговорщицки поглядывал на Горчакова.
Две женщины неподвижно лежали на солнце, прикрытые мешковиной. Босые ступни одной бросались в глаза – это была девочкаподросток. Рядом с ними на бушлате разметалась тяжело опухшая женщина. Серое изношенное платье разлезлось на необъятном животе. Дышала с задержками и хрипом, глаза совсем заплыли. Старшина, начальник конвойной команды что-то зло выговаривал пожилому сержанту с автоматом на плече. Тот курил вонючий самосад, вежливо пуская дым из седых усов мимо командира. На корточках возле больной сидела заключенная, грела в ладонях кружку с водой, густые темные волосы выбились из-под платка.
– Коля, найди пару досок на носилки, – попросил Горчаков помбригадира и присел к старухе. Взял руку, нащупывая пульс.
– Водянка, – негромко подсказала женщина с кружкой. У нее были тонкие пальцы, тонкие черты лица и большие черные глаза. – Пульс плохой…
– Вы врач? – Горчаков был спокоен, будто в руках у него не было руки умирающей.
– Да. Педиатр.
– Прокол сделать можете?
– Никогда не делала.
– Умрет, если не проколоть.
– Попробую…
– Дайте мне эту женщину в помощники, – повернулся Горчаков к начальнику конвоя.
Старшина ничего не ответил, зыркнул красными от недосыпа глазами и пошел было к дальней барже, где уже началась выгрузка мужчин. Но вдруг вернулся и решительно встал над Горчаковым, продолжавшим сидеть на корточках.
– Встал! – рявкнул, глядя с ненавистью сверху вниз.
Горчаков отпустил руку старухи, поднялся и привычно отступил на три шага.
– Слушаю! – старшина был на полголовы ниже и в два раза моложе, он еле сдерживался, чтобы не ударить в морду лагерного лепилу.
– Зэка Горчаков, статья 58.10. Двадцать пять лет… Фельдшер медпункта, гражданин начальник, – доложил Горчаков по форме.
В его позе, лице, голосе не было ничего. Никакого внутреннего движения, ни эмоций. Он говорил эту фразу тысячи раз, он начал произносить ее еще тогда, когда старшина, высунув кончик языка, учился выводить буквы в тетрадке в косую линейку.
– Совсем страх потеряли, фашисты недобитые… – прошипел старшина и, зло глянув на седоусого сержанта, спокойно стоявшего рядом, пошел к дальней барже.
– Что, заберешь что ли?! А то околеет… – сержант добродушно обратился к Горчакову. Он пытался раскурить самокрутку, но она опять погасла. – Покойников-то куда у вас тут? Самойлов! – крикнул негромко в сторону баржи.
– Я, товарищ сержант! – по палубе бежал боец, шаги гулко отдавались в пустоту трюма.
– Возьми дневальных, пусть закопают… девка-то воняет уже… – сержант посмотрел на бездыханную самокрутку, попробовал еще из нее потянуть и бросил на землю.
Из дальней баржи через грязный торос переваливала темная масса мужчин с узлами и чемоданами. Выгружали в недостроенную зону. Местной охраны не было, передать было некому, и вместо отдыха уставшему за долгую дорогу конвою надо было выставлять охрану на берегу. Старшина был злой, он точно знал, что кого-то недосчитаются в этой неразберихе. Холеный лейтенант-особист с полувзводом бойцов занимался приемкой женского этапа. Это старшину злило больше всего.
– Семенов, – заорал старшина, подходя к разгрузке, – всех собак на берег! Живо!
– Они там ноги переломают, товарищ старшина! Казбек уже хромает!
– Я что, сука, сказал! Выполнять! Казбек херов!
Горчаков с Шурой поднимались наверх к медпункту. С конца марта, когда они с одной из первых групп прибыли в станок Ермаково, ни большого начальства здесь не было, ни работяг толком и жизнь была неплохой. Начальство сидело в жарко натопленном бараке, иногда ездили в санях ловить корюшку, иногда, когда из-за пурги долго не было бортов, приходили к Горчакову одолжиться спиртом.
Блатарей не было совсем, и жили спокойно, о лагере напоминали только утренние и вечерние поверки да дневальный с его «Подъем! Подъем, ребята!», потом Горчаков с Шурой на целый день уходили в медпункт.
Начальником третьего отдела[9] служил лейтенант Иванов. Среднего роста, крепкий и подтянутый, он был образцом для всего небольшого лагеря – водки не пил, на веселые пьяные рыбалки не ездил, каждое утро обливался ледяной водой у ручья, а еще бегал на лыжах и занимался на турнике или, раздевшись до пояса, колол на морозе дрова.
Еще он был начитанным и любил пофилософствовать на отвлеченные темы.
Жили сыто, повар был знакомый, иногда местные приходили в медпункт или приводили ребятишек, за что приносили соленой осетрины или лосятины. Горчаков не толстел, а Белозерцев даже округлился, отчего испытывал притворное неудобство, разглядывая себя в зеркало.
Теперь все менялось, Шура сокрушенно об этом заговаривал. Горчаков же был спокоен – за тринадцать последних лет как только ни менялась его жизнь. Она текла не в человечьем, но в каком-то другом измерении, часто таком тесном, что в нем с трудом помещалась миска пустой баланды.
4
Четверо флотских выпивали на утреннем солнышке. На самом верху, чуть в стороне от ермаковского взвоза стоял древний, вкопанный в землю стол с двумя лавками. На столе толстый шмат сала, соленая стерлядка и текущая жиром нельма на газетке, кусок отварного мяса, свежий хлеб. По граням стаканов скакали весенние солнечные зайчики. Одна пустая поллитровка из-под спирта уже отдыхала под столом. Капитан Белов в тельняшке, без кителя поднимался от ручья с трехлитровой банкой в руке. В ней молочно мутнел только что разведенный спирт.
Теплую компанию составили заслуженный шкипер парового лихтера Иван Трофимыч Подласов, не менее заслуженный капитан «Климента Ворошилова» Тимофей Кондратьевич Семенчук, главный механик «Ворошилова» – белоголовый и средних лет Петр Сергеич Сазонов. Строгие темно-синие офицерские кители со стоячими, подшитыми белыми воротничками, черные брюки, сапоги – форма речников в те времена не отличалась от военно-морской. Все наглаженные, начищенные. Только старый шкипер, мерзнувший в силу возраста, был в новой черной телогрейке, надетой на тельняшку.
Выпивали не торопясь, щурились на родные енисейские просторы, первый трудный рейс вслед за льдами был окончен, Енисей очищался на глазах, начиналась навигация, непростая речная работа, где нет ни дня, ни ночи, где иной раз и месяц, и полтора нет возможности расслабиться, выпить вот так спокойно с товарищами. Поделиться новостями: кто куда ходил, как с планом, кто где проштрафился и как дело обошлось.
Старики сидели за столом, Белов стоял возбужденный. Он поднялся с тостом, его о чем-то спросили, и он уже десять минут рассказывал, как провел свой караван.
– Подкаменную прошли, – глаза у Белова горели интересом и гордостью, но и уважением – заслуженным людям рассказывал, – встали на ночь, а в первом часу ветер поменялся, и как поперло… горы льда тащит, и все нашим берегом. Якоря срывает, я одну баржу поймаю, другую потянуло. Как переловили – не знаю, вывел всех под левый берег, отстоялись…
– А «Якутию» что? – спросил механик Сазонов.
– Льдами на камни выдавило. Я баржи с зэками еле вытащил из торосов… Ветер льдами давит, баржи скрипят, кренятся, охрана перепугалась, орут, чтобы их сняли, собака за борт упала…
Белов нетрезво поблескивал красивыми темно-карими глазами. Он был умный, чистый душой, по возрасту вежливый и даже застенчивый, но и рабочего упрямства в нем хватало. Его еще четырнадцатилетним матросом звали Сан Саныч. За худобу и высокий рост, но, видимо, и за расторопность не по годам.
– Ну-ну, бывает… – Семенчук с хрустом разрезал луковицу и поднял стакан. – Ну, давайте!
Выпили. Закусывали. Солнышко пекло, птички наперебой распевали по кустам, от реки доносился шум большой разгрузки.
– В этом году еле успел огород вспахать… – капитан Семенчук, даже когда шутил, говорил с самым серьезным видом. – В прошлом году не успел, жена лопатой копала.
– Что же, не могла соседа попросить? Там у тебя Геннадий Степаныч рядом…
– Сосед – дело опасное, сначала огород, потом еще чего, а потом и тебя не надо! – весело зыркнул из-под лохматых бровей старик-шкипер.
– Не-е, моя железобетонная… это я только скотина, – нахмурился все тем же серьезным глазом Семенчук.
Мужики довольные рассмеялись.
– Как там Смирнов, не женился?
– Женился.
– На поварихе?
– На ней!
– Раньше правило было, – вставил неторопливое слово старый шкипер. – Штурману у себя можно, капитану нельзя! – Помолчал и добавил философски: – Лучше с другого парохода матроску какую приласкать.
– И раньше нарушали, – не согласился Семенчук, – дело такое… Вон в Маклаково был случай, мужик бабу-солдатку потягивал из соседнего барака… ага… ну, один раз «уехал» в командировку! День у нее живет, другой, на третий день пошел мусор выносить в халате и в тапочках, и машинально, ноги сами принесли, пришел домой. Заходит в чужом халате, чужих тапочках и с чужим мусорным ведром из командировки! Жена на него и смотрит…
Все улыбались, случай был известный.
– У нас в Подтесово тоже этой зимой было, – поддержал Сазонов. – Стармех с «Бурного» пошел во двор за дровами, да с ребятами и загудели как следует. Вернулся домой через восемнадцать дней… но с дровами! Баба его и не тронула – помнил за чем ходил!
Выпили и вторую бутылку. В приподнятом настроении отправились на баржу к шкиперу, на пельмени. Проходя мимо локомобиля, механик Сазонов заинтересованно притормозил. Двое заключенных – один потолще и повыше, другой маленький, рябой и с сердитым взглядом – только что запустили механизм, стояли с грязными руками и лицами, слушали, как работает. Локомобиль время от времени начинало трясти – высокий быстро наклонялся к крутящейся технике, сбавлял обороты и вопросительно смотрел на сердитого.
Главный механик «Ворошилова» не выдержал:
– Хрена ли смотрите, у вас станина на двух болтах держится! – он присел и нетрезво посунулся показать, но не удержался и всем телом и рукой поехал внутрь работающего механизма.
Мужики схватили, вытянули обратно, но рукав тужурки был уже разодран, белая рубашка сделалась красной, с руки обильно лилась кровь.
– Ай-й-й! – оскалившись от боли, пьяно хрипел механик. – Вентилятором рубануло!
Вход в медпункт и штабной барак был один. Перед ним на лавочке курил часовой с карабином, поднялся при виде флотских офицеров. Белов решительно распахнул дверь, потом дверь налево с надписью «Санчасть». Как ледокол шел, расчищая дорогу товарищам.
Внутри на топчане громко и тяжело дышала толстая старуха, рядом на коленях стояла чернявая зэчка-врач и заголяла старухе рукав, Горчаков вынимал пинцетом прокипевший шприц, глянул мельком на шумно вошедшего Белова и окровавленную руку механика. В комнате было тесно, у порога валялись ботинки и фуфайки женщин.
Белов шагнул через фуфайки. Флотские, хоть и протрезвели от случившегося, не очень твердо держались на ногах.
– Доктор… – взял на себя командование Белов, но, увидев арестантскую спецовку Горчакова, нахмурился. – Ты доктор?
– Фельдшер, – Горчаков, еще раз оценив руку механика, отвернулся и стал набирать шприц.
– Ты что, не слышишь меня?! – вскипел Белов в спину зэка.
– Слышу, – Горчаков сбрызнув воздух, нагнулся к старухе.
– Я с тобой говорю! – Белов схватил Горчакова за плечо.
Фельдшер распрямился, левой рукой оберегая шприц, повернулся к Белову:
– Я должен закончить!
Белов, сдерживая ярость, молча отступил, повернулся к механику:
– Сейчас, Петя, сейчас.
Сазонов стоял, вяло опустив белую голову в пол, только вздохнул тяжело и пьяно. Щеки темнели кровью на светлом лице.
Горчаков сделал укол в вену, зэчка подложила свой платок под голову старухи и тихо выскользнула из медпункта, прихватив свою одежду. Горчаков запахнул старуху занавеской, поставил на стол кювету с хирургическими инструментами:
– Давайте сюда!
Механика усадили, он ронял голову, как будто пытался прилечь, Горчаков размотал носовые платки и стал внимательно рассматривать. Ничего важного задето не было, но выглядело изрядно – кожа в лохмотья изорвана на ладони и запястье. Чудом не порванные вены пульсировали кровью.
Горчаков взял пинцетом кусок задранной кожи, расправил и пристроил на место, другой кусок отстриг ножницами. Сам внимательно глядел на механика. Тот только морщился, кряхтел негромко и отворачивался. От него на всю комнату несло спиртом.
– Ничего страшного, – Горчаков поднял взгляд на двух флотских, стоявших над ними. – Зашью. А вы выйдите, пожалуйста, тут и так дышать нечем. – Он открыл стерилизатор, выбирая инструменты.
– Мне спирту! – потребовал вдруг раненый механик у Горчакова, – меня на фронте под спирт зашивали. Два раза… – он попытался задрать китель на боку, показать.
– Вам уже хватит, – Горчаков, морщась от запаха, рукой повернул голову механика в сторону, – туда смотрите. И потерпите.
Флотские вышли, закурили. Из медпункта временами раздавались негромкие матерные подвывания и ободряющее бормотание фельдшера. Белов сходил на буксир за бутылкой спирта. С полчаса длилось это дело, потом дверь отворилась. Фельдшер полотенцем вытирал руки и лоб:
– Забирайте, завтра на перевязку…
Рука по локоть и два пальца механика были аккуратно забинтованы. Сам он сидел протрезвевший, лицо сероватое, волосы прилипли ко лбу от высыхающего пота. В дверь заглядывал Белов. Горчаков щупал пульс старухи. Той стало легче после укола, она лежала с открытыми глазами.
– Сан Саныч, налей мужику! – хрипло потребовал отремонтированный механик.
Белов вошел, присел на топчан, открыл бутылку, булькнул в желто-коричневый от чая стакан, что стоял на столе, посмотрел, куда еще…
– Сюда можно? – спросил, показывая на чистые мензурки.
– Тут бы не надо… – Горчаков встал над старухой.
– Давай, выпей, братишка! – механик хотел сказать что-то еще, но не найдя слов, приподнял забинтованную руку и хмуро и благодарно кивнул фельдшеру белобрысой головой.
Белов налил в две мензурки, оставив стакан Горчакову, тот присел на свое место, улыбнулся, глядя на механика:
– Молодец, терпел…
– Он фронтовик, дядя! Заслуженный! Давай! За Родину! За Сталина! – Белов пьяно гордился товарищем, он грозно поднял свою посуду и орлом встал во весь рост.
Механик тоже поднимался с плещущей мензуркой в левой руке. Они чокнулись и выпили. Горчаков не тронул стакан, собирал окровавленные инструменты в стерилизатор. Белов поставил пустую тонкую посудинку и, сморщившись от спирта, недобро изучал Горчакова.
– Ты чего? – спросил фельдшера, хотя все про него уже понял.
Горчаков молча лил в стерилизатор воду из чайника. Только головой качнул.
– За Сталина пить не хочешь?! – набычился Белов, сжимая пьяные кулаки. – А-а?!
– Ты чего, Сан Саныч? – не понял забинтованный Сазонов.
– В карцер меня определят за этот стакан… да и вам, граждане начальники, не положено с зэками… Выпьем еще, бог даст…
– Какой такой бог?! – Белов заводил сам себя и лез лицом к зэку. – Я что, не видел?! Руку уже потянул выпить, а как я за Сталина сказал, скосорылился… Что, сука, не так?!
Горчаков снял очки и молча и почти безразлично смотрел на пьяного капитана.
– Да если бы не Сталин, ты бы сейчас, сука, фашистам сапоги лизал! Ты как, подлец…
– Ладно, Сан Саныч, чего кипишь, не тронь его. – Механик закрыл собой фельдшера, стал надвигаться перевязанной рукой на Белова. – Давай, пошли.
– Чего пошли?! Отсиделись суки по зонам, на казенных харчах! – Белова корежило от гнева, лицо красное, волосы растрепались. – Я сопливым пацаном всю войну за них ишачил!
Сазонов вытолкал его из медпункта. Стали спускаться к берегу.
– Чего уж ты так? – механик брезгливо морщился то ли от боли, то ли от выходки Белова. – Он смотри что… – показал руку.
– Пусть знает свое место, фашист! Они все Сталина ненавидят! Ты видел?!
– Не фашист он, я его на Пясине встречал… – заговорил старый шкипер Подласов. – До войны еще… Он начальником геологической партии был.
– Этот фельдшер? – не понял механик.
– Ну, они какое-то большое месторождение тогда открыли! Хоть и зэки, а им спирту два ящика привезли на гидросамолете! Начальство прилетело, в воздух палили!
– Это все не важно. Надо их на место ставить! – у Белова от злого возбуждения стучало в висках. – Они никогда не исправятся! Ты видел?! Кто он, сука, такой против Сталина?!
– Ладно, Сан Саныч, чего ты разорался… Кто же против-то?
Белов пьяно отвернулся на Енисей. Мужики молчали.
– Ну что, пойдем, что ли? – шкипер кивнул на свою баржу.
Настроение пропало. Попрощались и разошлись по своим судам.
Белов шел на «Полярный» и пьяно скрипел зубами, что не дал в морду фельдшеру. Он даже останавливался и смотрел наверх, представлял, как возвращается и открывает дверь медпункта. Сталин был ему дорог, как отец, которого Белов не помнил, и даже больше отца. Портрет вождя с девочкой на коленях не просто так висел у него в каюте. Сам повесил.






