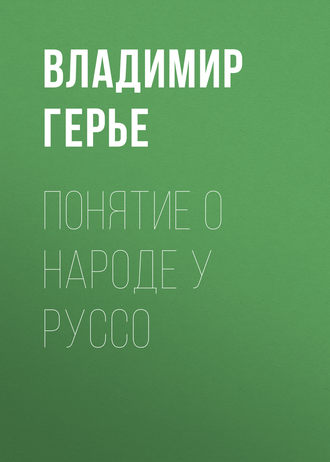
Владимир Герье
Понятие о народе у Руссо
Это новое донкихотство, ведущее свое начало от Руссо, получает особенную важность ввиду того, что оно послужило источником новой черты, которою Руссо, руководясь своим субъективным чувством, наделил представление о народе, соединив с ним понятие о бедности. Иногда это понятие прилагается к народу вообще в противоположность правительству. В «Общественном договоре» Руссо выступает защитником будто бы забытого учеными публицистами народа. Он утверждает, что настоящее государственное право еще не возникло, потому что никто из ученых, писавших о нем, не брал в расчет интересов народа. Руссо с резкой иронией упрекает своих знаменитых предшественников за такое пренебрежение к народу, объясняя его тем, что «народ не раздает ни кафедр, ни пенсий, ни академических должностей, а потому писаки и не заботятся о нем». В подобном смысле Руссо говорит не раз о несчастном народе, на счет которого содержится правительство[70].
Но еще чаще встречается другой оттенок понятия бедный в применении к народу. Противополагая народ знатным и богатым, т. е. вообще аристократической части общества, Руссо начинает отождествлять народ с бедными, с нищими – с пролетариями, а с другой стороны, признает за этим слоем населения нравственное преимущество перед другими, – преимущество, обусловленное именно бедностью. Завоевав себе почетное положение среди блестящего парижского общества, Руссо находился в полном разладе с ним. Он был беден и хотел быть бедным, а между тем все время жил среди богатых и знатных и пользовался их одолжениями. Это противоречие раздражало его и увеличивало антагонизм между ним и обществом. Его болезненное воображение перенесло этот антагонизм и на нравственную почву. Его гордость постоянно подсказывала ему, что он лучше и достойнее тех счастливцев жизни, которыми он был окружен. Он вообразил, что он в нравственном отношении выше всех, потому что превосходит всех чувством и чувствительностью. Пороки и слабости, которые он сознавал в себе, не смущали его; смирение его было паче гордости, и в своей «Исповеди» он утешал себя тем, что если у него и есть пороки, то он все-таки и в этом отношении не похож на других. Постоянные представления о своей бедности, о том, что он – жертва общественной тирании, слились у него с сознанием своего нравственного преимущества. Понятия о бедности и о добродетели отождествлялись для него. Он готов был видеть добродетельного человека во всяком бедняке, подобном ему, а в каждом из богатых людей – эгоиста и человека без совести. Случайные встречи и личные столкновения подкрепили это убеждение и доставили ему материал, которым он воспользовался со всею страстностью своей натуры. Так укоренилось в нем убеждение, наивно высказанное им в автобиографии, где ему на каждом шагу приходится упоминать об одолжениях, оказанных ему друзьями, – что некоторую гуманность он встречал только со стороны бедных, в среде людей голодающих и угнетенных поборами; а как он думал о богатых и знатных, это он высказал, например, в минуту страстного негодования в письме к графу Ластику. Корзина с маслом, предназначенная в подарок теще Руссо, случайно попала на кухню этого господина. Узнав об этом, старуха послала к графу Терезу, чтобы вытребовать назад масло или деньги за него; но граф и его жена встретили ее с насмешками и наконец велели выгнать. Вот отрывок из письма, которое Руссо написал по этому вопросу: «Я старался утешить в горе добрую женщину, изложив ей правила большого света и аристократического воспитания; я ей доказал, что не стоило бы иметь лакеев, если б они не были нужны на то, чтобы выгнать бедняка, приходящего за своим добром; и, объяснив ей, что справедливость и гуманность – не более как мещанские слова, наконец, я заставил ее понять, какая ей оказана честь тем, что ее масло съедено графом»[71].
Это письмо не было отправлено по настоянию г-жи д'Эпине, как видно из письма Руссо к последней, но вот другое подобное, написанное к даме, оказывавшей Руссо покровительство. Баронесса Безенваль и дочь ее графиня де Брольи приняли участие в Руссо, когда он еще был мало известен своим литературным талантом, и доставили место секретаря при французском посланнике графе Монтэгю в Венеции. Когда Руссо был принужден оставить это место и после разных неприятностей, которые ему наделал Монтэгю, возвратился в Париж, он посетил баронессу. Образ действия графа нам известен только по рассказу Руссо, который, судя по его обычному поведению, вероятно, и в данном случае был сам не без вины. Как бы то ни было, Руссо остался недоволен приемом своей старой знакомой и написал ей: «Я виноват, я ошибся, я считал вас справедливой, но вы – дворянка, и я бы должен был понять, как неприлично мне, иностранцу и плебею, жаловаться на дворянина… Если он ведет себя без достоинства, без благородства, то это потому, что дворянство его от того избавляет» и т. п.[72]
В обоих этих случаях Руссо имел дело с отдельными лицами, которые его оскорбили, и возбуждение его могло бы отчасти служить оправданием его небеспристрастных обобщений. Но Руссо был склонен к таким обобщениям в совершенно спокойные минуты, и здесь особенно ярко обнаруживается свойство того демократического чувства, органом которого сделался Руссо и которое проявилось таким роковым образом в событиях 1789-93 годов. То было не самоуважение, основанное на спокойном сознании своего достоинства и значения, но проистекавшее из завистливой и желчной злобы высокомерное презрение к своим политическим противникам. Таким именно чувством пышет страстная диатриба против дворянства, которую Руссо влагает в уста лорду Эдуарду в «Новой Элоизе». Когда лорд просит у отца Юлии руки его дочери для своего друга Сен-Пре и тот отказывается выдать «последний отпрыск знаменитого рода за какого-то проходимца, принужденного жить подаяниями других», – представитель английской аристократии приходит в негодование и клеймит позором всех знатных и всякую знать: «Сколько громких имен пришлось бы предать забвению, если бы считать только тех, которые происходят от человека, достойного уважения. О прошедшем мы можем судить по настоящему: на два или три гражданина, которые приобретают известность честными средствами, тысяча подлецов доставляет своей семье дворянский сан, и о чем же будет свидетельствовать этот сан, которым потомки будут так гордиться, как не о кражах и бесчестии их предков? Бывают, конечно, – я согласен – бесчестные люди и между мещанами; но всегда можно биться об заклад, ставя двадцать против одного, что дворянин происходит от плута»[73].
Противопоставление «знатным» народа как образца гражданской добродетели и нравственности началось не с Руссо; и в этом отношении Руссо имел во Франции предшественников. Почти за сто лет до него Ла Брюер укорял «знатных» и отдавал предпочтение пред ними народу в таких выражениях, которые могут изумить своей откровенностью и резкостью, если принять в расчет век и общество, к которым относятся. «Если я сравниваю между собой, – говорит наставник герцога Конде, – два самые противоположные состояния между людьми – знатных и народ, – то последний представляется мне довольным тем, что необходимо, первые же – беспокойными и бедными при всем своем излишестве. Человек из народа не может причинить никакого зла; знатный не хочет делать никакого добра и способен произвести много дурного; один развивается и упражняется только на предметах полезных, а другой присоединяет к этому и то, что вредно; с одной стороны, простодушно обнаруживаются грубость и искренность, с другой – под оболочкой вежливости скрываются дурные и испорченные соки; у народа не развит ум, у знатных нет души; у того доброе основание, но нет наружного лоска, эти обладают только наружным лоском и не имеют никакого содержания. Если выбирать – я не поколеблюсь, я хочу быть с народом (je veux être peuple)»[74].
Конечно, и в этих словах можно уже слышать отдаленный раскат того социального потрясения, которое превратило одну из самых аристократических стран Европы в передовую страну европейской демократии. Но при ближайшем сопоставлении Ла Брюера с Руссо обнаруживается различие во взглядах и целях обоих авторов и существенная разница между эпохой Людовика XIV и кануном революции. Лабрюер говорит как моралист, обращаясь к знатным вообще и противопоставляя им народ в общем смысле, всю остальную массу нации, лишенную привилегий и политического значения; в филиппиках Руссо уже слышится революционный агитатор, исполненный вражды ко всему дворянству как особому классу, – демагог, для которого понятие о народе все более и более суживается до образа санкюлота, а бедность является залогом добродетели и сливается с нею.
В эпоху Руссо представителем аристократической части французского общества было дворянство, и поэтому не удивительно, что главные выходки Руссо направлены против знатных, тем более что его злоба против них вытекала из демократического чувства, оскорбленного неравенством; но эти выходки представятся нам в настоящем свете, если мы примем в соображение, что честность, благородство и добродетель, которые он отрицал у дворян, Руссо приписывал бедным. Руссо пустил в оборот фразу о «добродетельных бедняках» (le pauvre vertueux), которая так пришлась ко времени и обратилась в ходячее слово. Эта фраза сделалась неизбежною приправой поэтических произведений и политических памфлетов и так вошла в привычку, что авторы и читатели повторяли ее одинаково машинально. У Бернардена де Сен-Пьера, сочинения которого были в таком ходу в конце XVIII века и так характерны для этой эпохи, она встречается на каждом шагу. В своем «Путешествии», вышедшем в 1773 году, описывая возвращение рыбаков во время бурной погоды, этот автор проникается гражданскою скорбью: «C'est donc parmi les gens de peine, – восклицает он, – que l'on trouve encore quelques vertus».
Мечтая в своей филантропической чувствительности устроить вблизи Парижа, на одном из островков Сены, Элизей, Бернарден де Сен-Пьер дает ему следующее назначение: он должен служить кладбищем для благотворительных смертных, ботаническим садом для экзотических растений, искусственным лугом (для травосеяния), пританеем, местом для устройства свадеб и празднеств для добродетельных бедных, неприкосновенным убежищем для задолжавших отцов семейства и для всех несчастных.
Из предшествовавшего изложения видно, как разнообразны были оттенки, которые принимало представление о народе в диалектическом уме Руссо и под влиянием его страстного воображения. Две великие силы человеческого духа, разум и чувство, одинаково, но независимо друг от друга участвовали в создании тех образов, которым его талант придал такую чарующую форму и доставил такую популярность. В политической области Руссо руководился одним отвлеченным рассудком и выработал с невозмутимою логикой и с полным забвением действительности и истории самую рационалистическую формулу для народа в смысле источника и представителя государственной власти. Но в то же время он сам поднял знамя реакции против господствовавшего рационализма и дал полный простор чувству, применяя его к представлению о народе в культурной и в социальной жизни. Как в том, так и в другом отношении идеи Руссо имели большой успех и громадное влияние на убеждения современников и их политические идеалы. Популярности идей Руссо нисколько не повредило внутреннее противоречие между ними; их убедительность не терпела никакого ущерба от того, что они были выведены им из двух диаметрально противоположных принципов – рассудка и чувства. Напротив, эта разнородность именно и давала им силу: одни своей логичностью, оторванной от всякого опыта, убеждали ум, другие увлекали сердце, и таким образом идеи Руссо так же согласно уживались в убеждениях его современников, как и на страницах его изданий. Механическая система государственного строя, составленная без малейшего внимания к исторической жизни народа, служила как бы незыблемым основанием для представления, что народ есть не что иное, как масса лиц, составляющих народное собрание, и что народная воля есть только сумма голосов, полученная за вычетом меньшинства из большинства. А эта юридическая презумпция в пользу количества получила новый авторитет при помощи убеждения, что образование есть уклонение от природы, извращение здорового чистого инстинкта, вложенного в человека природой; мало того, она приобретала нравственную силу вследствие доктрины, отождествлявшей бедность с добродетелью, богатство с эгоизмом и допускавшей вывод, что только пролетарий может быть благородным гражданином. Именно это странное сочетание, эта взаимная солидарность политического рационализма и социальной чувствительности содействовали необузданности демократической страсти, обнаружившейся в революции 1789 года, и вызвали те печальные явления, которыми заключился этот величавый в своем начале и своей цели исторический переворот.







