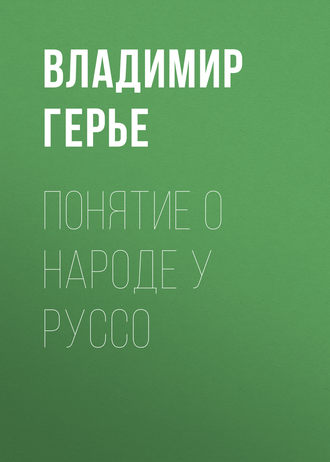
Владимир Герье
Понятие о народе у Руссо
Главная культурная заслуга этого чувствительного настроения заключается в том, что оно изощрило в человеке чутье к чужим страданиям, сосредоточило на них его внимание и развило в нем до высокой степени способность к состраданию. Как новый Будда, Руссо снова сделал страдание мировым вопросом, признал страдание существенным уделом, главным назначением человечества. «Все люди, без исключения, – говорит он, – родятся нагими и бедными, все подвержены бедствиям этой жизни, боли и злу, нуждам и скорби всякого рода, все наконец осуждены на смерть; эта неизбежность страдания составляет сущность человека (ce qui est vraiment de l'homme); от нее не избавлен никто из смертных. Итак, начните же изучать то, что неотъемлемо от человеческой природы, – то, что составляет самую сущность человечества (ce qui constitue le mieux l'humanité)». Этим определяется для Руссо одна из главных задач здравой педагогии: страдать – это первый урок жизни, которому должен научиться ребенок, это – то знание, которое для него будет всего более необходимо. Еще серьезнее становится задача воспитателя, когда ребенок достигает юношеского возраста.
«В шестнадцать лет юноша знает, что значит страдать, потому что он сам уже страдал; но он едва ли знает, что и другие страдают, ибо видеть страдание и не чувствовать его – не значит знать его». Ребенок не в состоянии вообразить себе то, что ощущают другие, и потому ему известны только собственные страдания; но, когда с развитием чувств в нем разгорается воображение, он начинает чувствовать себя в других, подобных ему людях, начинает приходить в волнение при их жалобах и страдать от их горя. «Вот тогда-то, – поучает Руссо, – грустная картина страждущего человечества должна возбудить в его сердце первое умиление, им когда-либо испытанное», и с этой поры Руссо возлагает на воспитателя обязанность всеми способами «возбуждать и питать эту зарождающуюся чувствительность», т. е. развивать в юноше доброту, гуманность, сострадание, благотворительность и пр. Если задачей новой педагогии становится развитие в будущем гражданине чувствительности и сострадания посредством зрелища человеческих страданий, то интерес к страждущим тем сильнее преобладает в политике, которая ведет свое начало от Руссо. Влияние этого направления во внутренней политике было громадно, и можно сказать, что оно существенно изменило отношение аристократических и зажиточных классов к низшим. Восемнадцатый век уже был филантропически настроен; Руссо придал этой филантропии силу аффекта и развил ее до крайней нервозности и чувствительности. И прежде, конечно, вид нищеты и страданий у многих вызывал благотворительность и сострадание; но чтобы понять переворот, совершившийся в XVIII веке в настроении высших классов и в языке, которым говорила литература о простом народе, чтоб измерить расстояние, которое в этом отношении отделяет эпоху Людовика XIV от эпохи Руссо, – достаточно вспомнить известную характеристику французского крестьянина у Ла Брюера. Это изображение отнюдь не свидетельствует о равнодушии самого Лабрюера к описываемому предмету; напротив, в нем звучит сдержанное негодование и жестокий упрек тем, которым можно было поставить более или менее в вину печальное положение дела; но приводимое нами место показывает, каким образом многие относились в то время к крестьянам и каким языком мог говорить о них со своими современниками литератор XVII века: «На полях видны какие-то дикие животные, самцы и самки, почерневшие, багровые и опаленные солнцем; они точно прикованы к земле, которую вскапывают и ворочают с непреодолимым упорством; они издают как будто членораздельные звуки и, когда встают на ноги, проявляют человеческий образ, и действительно это люди. На ночь они удаляются в свои норы, где они питаются черным хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от труда сеять, пахать и жать для того, чтобы существовать, и заслуживают поэтому, чтоб их не лишали того хлеба, который ими посеян»[63].
Совсем иной язык и иные чувства внушает Руссо вид французской деревни: «Истощенные лошади, издыхающие под ударами; жалкие крестьяне, изнуренные голодом, надломленные усталостью и одетые в лохмотья; развалившаяся деревушка – все это представляет глазу печальное зрелище; становится горько за человека, когда подумаешь о несчастных существах, кровью которых мы добываем себе пищу». К совершенно другим заключениям и требованиям пришел писатель XVIII века сравнительно с его предшественником, и в этом различии между ними отражается вся громадная разница между историческим обликом двух веков!
Конечно, перемена во взгляде на судьбу французских крестьян началась до Руссо; в значительной степени этому содействовали экономисты, т. е. физиократы, выводившие все богатство страны из земледелия. Основатель этой школы доктор Кене поставил девизом своей книги слова: «pauvres paysans, pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre roi», a маркиз Мирабо, как экономический писатель, гордо присвоил себе имя – l'ami du peuple. Но взгляд на народную массу, который распространял Руссо, существенно отличался от точки зрения экономистов и по мотивам и по цели. Хотя понятие о любви (tendresse) и сострадании и в системе последних играет важную роль, но все же у них преобладает интерес к общей пользе, забота о народном хозяйстве, и цель их – чисто практическая – известное улучшение крестьянского быта. У Руссо сострадание к сельским труженикам есть проявление той общей жалости, которой он охватывает все страждущее – рабочую скотину наравне с людьми; и в то же время безысходность положения, беспомощность человека перед роковою силой действительности раздражает его до желчи против всех, на чью долю выпала лучшая судьба.
Без сомнения, страстная чувствительность Руссо и в социальном отношении принесла добрые плоды; нужна была сильная доза чувства, чтобы расшевелить беспечное в своем довольстве общество и заставить его чувствовать лишения и бедствия низших классов, как свои собственные; в этом отношении Руссо более, чем кто-либо, содействовал развитию новой культурной черты нашего времени, сердечного и симпатизирующего интереса образованного общества к остальной массе народа. Но, как всегда у Руссо, так и здесь, правда быстро заглушалась парадоксом, чувство переходило в аффект, и вместе с лекарством он подносил обществу отраву. Обратная или вредная сторона его социальной чувствительности, во-первых, обусловливалась тем, что одно чувство в противоположность рассудку плохой руководитель в общественных вопросах, ибо оно само себе служит меркой и сообразуется не с действительностью, а с собственною силой. Рассматривая сострадание с психологической стороны, Руссо делает следующее чрезвычайно верное наблюдение: «Жалость, которую нам внушают страдания других, соразмеряется не с количеством этого страдания, но с чувством, которое мы приписываем страдающим»[64]. Но в этом и заключается осуждение преобладающей роли чувства в социальных и политических вопросах: кто в них исключительно руководится чувством, тот в своих суждениях и стремлениях не берет в расчет действительности, не имеет для нее никакой объективной мерки, а потому обрекает себя на декламацию и наводит туман туда, где может помочь один только свет.
Еще более вредно повлияло на социальную чувствительность Руссо то, что для него общественный вопрос слился с личным; он сам был для себя вечным, неиссякаемым источником чувствительности. То, что Руссо был сам, так сказать, центром своей социальной чувствительности, и придавало такую силу его чувству и такую убедительность его пропаганде. Жалость к самому себе сделалась для него постоянной школой социального сострадания, и личные ощущения дали направление его общественной теории.
Бесцельное скитальчество и неудачи его юности, лишения и гонения, которые ему приходилось выносить в жизни, – хотя очень часто по собственной вине, – давали богатую пищу его состраданию к собственному я. Но Руссо, кроме того, с болезненною горечью постоянно растравлял раны, которые наносила ему действительность, и искусственно питал в себе чувство антагонизма против общества. Не найдя себе места или, правильнее сказать, покоя и удовлетворения в обществе «знатных и довольных», Руссо привыкал отождествлять свое дело с делом бедных, свою участь – с долей страдающего народа и создал себе общественное положение из этой роли.
Никогда еще, может быть, известная общественная доктрина не носила до такой степени субъективного характера; никакой политический реформатор не защищал так непосредственно своего личного дела, как автор «Рассуждений». Руссо на себе испытал – по крайней мере, по своему убеждению, – ничтожество того общества, которое он обвинял в том, что оно уклонилось от естественного порядка вещей. Он убедился, что это общество бессердечно и несправедливо, потому что оно, как он уверял себя, было жестко и безжалостно к нему. Личное раздражение Руссо служило твердой опорой его общественному пессимизму и придавало последнему ту страстность и убежденность, какой не может дать никакая вера в теорию и никакое школьное доктринерство. Сочинения Руссо не только предвещают собой политический переворот во Франции, преобразование ее государственного и общественного строя в демократическом смысле, но сами уже являются переворотом, представляют собой в аристократически сложившемся обществе Франции и в носящей ее отпечаток литературе торжество демократических идей и чувств. Переворот ознаменовался уже тем, что в лице Руссо занимает господствующее положение в литературе и дает тон французскому обществу человек из народа (homme du peuple), как назвал его Сент-Бев. Другой французский критик – Сен-Марк Жирарден с известной долей основания восстает против такой точки зрения на Руссо[65] и с помощью родословной этого писателя доказывает, что он принадлежал к женевской буржуазии, т. е. к аристократическому, правительствующему сословию этой республики, и всегда гордился своим званием женевского гражданина. «Мы делаем из Руссо, – говорит этот биограф в другом месте, – красноречивого авантюриста, гениального пролетария, какого-то литературного Спартака. Ничего этого не было. Это – буржуа, отставший от своего сословия (déclassé) вследствие брака с трактирной служанкой. Такова правда; и если его сочинения отзываются демагогией, так это обусловливается не происхождением его, вовсе не низким и не темным: это есть следствие случайностей его жизни и ошибок в его поведении»[66]. Это правда, но не вся правда; Руссо представляет собой во французской литературе настоящего homme du peuple не столько по своему происхождению[67] или по своим чувствам, сколько по своему отношению к этому вопросу. Среди французских литераторов и до Руссо, и в его время было немало лиц, которые были одинакового с ним происхождения и подобно ему испытывали нужду и лишения; но это не отражалось на их сочинениях, потому что они относились к этому просто и не идеализировали своего прошедшего. Руссо же одновременно открыл поэзию бедности и испытал в себе злобу, которую она может возбудить в человеке. Руссо был способен любоваться своей бедностью, как он любовался природой, и в его воспоминаниях те минуты, когда он наслаждался природой, не имея ни одной копейки в кармане, слились в поэтическую картину какого-то первобытного состояния и счастья. Но в то же время он знал, что такое голод[68], и глубоко хранил в своих воспоминаниях это ощущение.
Таким образом, в демагогии Руссо были искренние звуки, действительно испытанные чувства, но в то же время это была и роль, иногда доходившая до шарлатанства. Известно, что, когда Руссо уже достиг своими сочинениями славы, когда он приобрел обширные знакомства и связи с аристократией, он покинул светский костюм – обшитый кружевом кафтан и шпагу, стал носить круглый парик и избрал себе ремесло переписчика нот. Он хотел играть роль ремесленника, живущего ручным трудом среди литературного и светского мира, к которому он продолжал принадлежать. Он сам сознается в своей «Исповеди», что им руководил при этом некоторый расчет: «…я полагал, что у переписчика, достигшего известности, не будет недостатка в работе». Расчет Руссо слишком удался. Публика не давала покоя молодому переписчику своими посещениями и неотступными приглашениями на обеды и, чтобы вознаградить его за потерянное время, осыпала его подарками. «Я почувствовал тогда, – пишет Руссо, – что не всегда так легко, как воображаешь, быть бедным и независимым». Руссо решился отвергать все подарки, крупные и мелкие, без всякого исключения, но он сознается, что его Тереза, и особенно мать последней, не были в этом отношении так тверды, как он сам.
Руссо играл в этом случае, как говорит один из его биографов, жалкую комедию. Но он играл подобную комедию не в одной только роли переписчика нот, который живет даром на даче герцога Люксембургского, обедает за его столом и в то же время принимает от него заказ на переписку, как будто эта работа составляла главный источник его материального существования. Руссо большую часть своей жизни прожил на счет других, детей своих отдавал в воспитательный дом и в то же время постоянно выставлял напоказ свою бедность и гордую независимость. Такая роль была для самого Руссо не легка и не особенно почетна; но она имеет большое значение в истории европейской культуры. Руссо создал роль интеллигентного пролетария, который находится в разладе с обществом, противополагает ему народ, сочиняет себе нового рода титул – homme du peuple, который дает ему право возноситься над другими. И в этом случае в самом Руссо правда и ложь, пережитое и сочиненное, чувство и фантазия – были искусственно сплетены между собой; притом оригинальность придает интерес его роли. Но многочисленным подражателям его часто недоставало той желчной страстности, которая делала эту роль сносной; у них злобное выражение лица превращалось в гримасу и патетическая тирада становилась рекламой.
Так, Бернарден де Сен-Пьер, уже будучи избалованным любимцем публики, вдруг переезжает в глухое предместье – с таким населением, что его знакомые начинают бояться за его безопасность, – отказывается от обедов у своих аристократических поклонников, у которых он гостил на даче по целым дням, и в ответ на жалобы своего друга литератора Шамфора капризно пишет: «Je ne sais si m-r de Chamfort connait des personnes qui s'intéressent à moi. Quand je me suis logé dans le quartier des pauvres, je me suis mis à la place où je suis classé depuis longtemps»[69].







