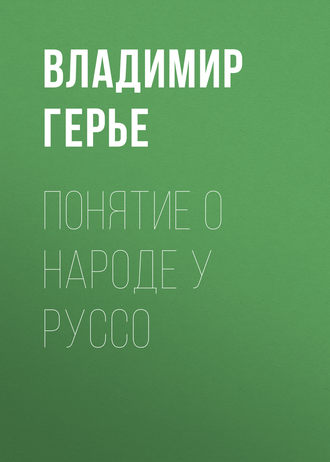
Владимир Герье
Понятие о народе у Руссо
II
Восемнадцатый век представляется в общих чертах эпохой просветительного, гуманного рационализма, и Руссо, как видно из предшествовавшей главы, был в политических вопросах одним из передовых и страстных поборников рационалистической точки зрения. Однако прошлый век, при всем своем рационализме, дал в то же время начало другому культурному движению, во многом противоположному рационалистической тенденции, и таким образом положил основание так называемой реакции, столь сильно обнаружившейся в XIX веке против господствовавшего прежде мировоззрения. И в этом отношении Руссо играл не только передовую роль, но, можно сказать, шел во главе того движения, которое отвело европейское общество далеко от рационализма. Влияние Руссо в этом отношении так значительно, что историки, ставящие себе задачей изобразить историю реакционных идей и стремлений в XIX веке, принуждены с него начинать это движение[19]. Один из главных вопросов, в которых Руссо существенно разошелся с настроением современного ему общества и указал ему новый путь, был его взгляд на природу. Во время господства аскетического, церковного идеала природа не могла привлекать к себе человека и только пугала его проявлениями своих таинственных сил, которые представлялись средневековым людям чем-то демоническим и полным мистических чар. Возрождение наук и искусств, правда, тотчас отразилось и на отношениях человека к природе и снова заставило любоваться ею. Восхождение Петрарки на Мон-Ванту занимает одну из первых страниц в истории гуманизма; и в религиозной живописи XV века вдохновленное чувство художника постепенно переходит на изображение окружавшего главные фигуры ландшафта, пока, наконец, последний не получает самостоятельного значения в художестве. Но распространившаяся в области искусства манерность стиля снова закрыла перед обществом настоящую природу, а в области литературы природа в эпоху Людовика XIV и XV была совершенно забыта. Однако в это время внимание образованного человека к природе было возбуждено с совершенно другой стороны – со стороны науки. Великие открытия в астрономии, математике и небесной механике расширили его горизонт и познакомили его с вечными космическими законами. Деизм воспользовался этим приобретением человеческого разума и построил на этом основании свою религиозно-философскую систему, в которой природа служила основанием для религии и этики рационализма. Природа с этой точки зрения представлялась беспредельным, величавым в своей строгой чинности механизмом, от искусной разумности которого мыслящий человек делал заключение о всемогуществе и величии Творца. Затем выступили на первый план экспериментальные естественные науки, и природа превратилась для людей XVIII века в громадную лабораторию; все внимание их было поглощено физическими, химическими и физиологическими процессами и попытками с их помощью объяснить чувство и мысль, и из-за этого все забыли о природе как о живом мире и о человеке как о нравственном существе. Энциклопедисты были энергическими передовыми проводниками этого воззрения, и их направлением совершенно увлеклось все литературно-образованное общество, несмотря на условный протест и бессильный ропот старых деистов, например – Вольтера. В этом настроении общества Руссо произвел неожиданный переворот. Он снова открыл природу для чувства и для поэзии, он сделал ее источником для обновления нравственного мира человека. Мы касаемся здесь исключительно Франции и потому не станем указывать, каким путем чувство природы снова оживилось в Германии и Англии; – во Франции это явление тесно связано с личностью и литературной деятельностью Руссо[20]. Среди городского столичного общества, забывшего о природе в своих салонах, канцеляриях, рабочих кабинетах и лабораториях, явился энтузиаст деревни, человек, восхищавшийся тем, что у него «зелень перед окном», чувствовавший потребность часто возвращаться к этой сельской природе, которую он должен был покинуть. Выходить за город, блуждать пешком по полям и по лесу было для этого человека необходимо, чтобы освежиться и успокоиться, остаться наедине с природой, погрузиться в раздумье под тенью деревьев или на берегу ручья – было для него наслаждением с которым не могли сравниться ни остроумная застольная беседа с друзьями, ни художественный энтузиазм, овладевавший публикой в театре. Под влиянием этого человека, который умел с таким талантом и с такою страстью передавать другим свое настроение, в городском населении пробудилось желание видеть природу, явилась тоска по ней, и прогулка за город сделалась новым источником вдохновения для поэтов и прозаиков и знамением нового культурного направления[21].
Поэзия, которую Руссо ощущал в природе, привлекала его как человека и как мыслителя. На этом чувстве была основана религиозная и нравственная философия Руссо. Природа не была для него искусным механизмом, свидетельствующим о всемирном разуме, а чудным, беспредельным храмом, в каждом уголке которого человек чувствовал свою личную связь с Божеством и свое духовное происхождение. В созерцании природы Руссо черпал уверенность в бессмертии своей души, и она послужила ему тем откровением, которое дало начало новому религиозному движению во французском обществе[22].
Такое же значение имела природа в социологии Руссо. И здесь исходною точкой была та гармония, которую Руссо ощущал, когда отдавался созерцанию природы, – тот отголосок, который он слышал в ней в ответ на разные тоны своего лирического настроения. Природа еще более располагала его к мечтательности, которая была основною чертой его натуры, и под влиянием Руссо новое поклонение природе имело непосредственным результатом своим небывалое в европейском обществе развитие мечтательности (rêverie). Мечтательность легко принимает элегический оттенок, и потому даже в минуты счастья и душевного покоя у Руссо и его последователей в наслаждении природою звучит грустная нота и восхищение ее красотами пробуждает меланхолию[23].
Но такие минуты, когда Руссо безмятежно наслаждался природой, были редки в его жизни. Отсутствие правильного воспитания и определенных, прочных занятий чрезвычайно затрудняло положение Руссо, которое он постоянно ухудшал своим беспокойным, нервным темпераментом, болезненным самолюбием и крайнею подозрительностью по отношению к людям. Недостаточно сознавая причины своих бедствий, Руссо раздражался против жизни и людей и дошел до полного разлада с обществом.
Этот разлад все более и более обострялся вследствие оригинальности его литературного направления и столкновений со всеми литературными партиями и общественными силами – с Вольтером, с энциклопедистами, с католическою церковью и светскою цензурой. В тяжелые минуты разрыва с друзьями, разочарования, вызванного уязвленным самолюбием и романтическим увлечением женщинами, в пору гнетущей нищеты и политического преследования – Руссо находил убежище и забвение от своих зол только в уединении с природою, и к поэтической прелести, которую он всегда в ней находил, стало примешиваться чувство живой, личной благодарности[24].
Резкий контраст, который Руссо ощущал между блаженством, какое ему давала природа, и бедствиями, какие он испытывал в обществе себе подобных, все более и более разрастался в его глазах и привел его наконец к сознанию решительного антагонизма между природой и человеческим обществом. Природа, т. е. физический мир, становилась для него символом стройного порядка, по мере того как «общество» и нравственный мир все более казались ему построенными на неправде. Под влиянием этого чувства Руссо влагает в уста савойскому викарию следующие слова: «Когда я рассматриваю различные общественные слои и людей, их составляющих, какое зрелище меня поражает! Картина природы представляла мне одну гармонию и стройность, а человечество – одну лишь смуту и беспорядок. Согласие царствует между стихиями, а люди повержены в хаос. Животные счастливы, один только их царь бедствует»[25]. Этот контраст между природой и обществом сделался источником бесконечных размышлений для наиболее сентиментальных последователей Руссо. Бернарден де Сен-Пьер, например, написал на эту тему целое сочинение, которое имело громадный успех и доставило ему всемирную славу. План этого сочинения – «Etudes de la nature», по определению самого автора, заключался «в исследовании наслаждений, доставляемых природой, и бедствий, причиняемых нам обществом».
Сам Руссо, однако, не ограничился такой мирной пропагандой во славу природы. Природа, гармонией и миром которой он наслаждался, сделалась для него орудием неуклонной и неутомимой борьбы против современного общества и представляемой им цивилизации. Точкой отправления этой борьбы было понятие о состоянии природы (état de la nature) или о естественном состоянии (état naturel) человека.
Понятие о естественном состоянии было давно известно в публицистической литературе и представляло собой философскую фикцию, служившую для обозначения общественного быта, отвлеченного рассудком от всех конкретных признаков исторической жизни, государственного устройства, сословных учреждений, национальных и племенных отличий.
Иногда же это самое выражение обозначало историческую фикцию, воображаемое состояние людей в первобытном периоде до образования государства и семьи, до развития самых простых и первичных проявлений цивилизации. Руссо овладел этой отвлеченною формулой, разукрасил ее своей поэтическою фантазией, вдохнул в нее жизнь своею страстностью, своей любовью к природе и своею ненавистью к цивилизованному обществу. Безжизненный термин о естественном состоянии превратился у Руссо в полупоэтическое, полуфантастическое представление, для которого он заимствовал свои краски из исторических преданий, из описаний быта дикарей у современных путешественников и сентиментальных мечтаний на лоне природы. Естественное состояние сослужило для Руссо двойную службу. В «Contrat social» оно является тем состоянием, которое предшествует общественному договору и вступает снова в силу, как скоро этот договор нарушен. Таким образом, оно принимается здесь за основание всякого нормального политического порядка, за исходную точку возможного в будущем правильного развития человеческого общества. Но в совершенно другом смысле употреблялось это понятие в знаменитых «Рассуждениях» Руссо, которые положили основание его славе. Руссо возвел здесь естественное состояние не только в поэтический идеал, что делалось до него, но и в обличительный аргумент против цивилизации. Античную легенду о золотом веке он обратил в страстную, пропитанную горечью декламацию против всякой человеческой культуры. И не те или другие черты современного общественного строя, не те или другие формы цивилизации вызывали его беспощадное негодование, – нет, вся человеческая культура вообще, все, что появляется и развивается вместе с цивилизацией – образование и наука, искусство и театр, общественные учреждения и собственность, церковь и государство, – вся жизнь человечества, вся история являются под освещением Руссо постепенным уклонением от природы, прогрессивным падением.
Риторический поход Руссо против цивилизации со всеми ее проявлениями материального благосостояния и духовного развития имел в свое время глубокое значение – имеет его отчасти и теперь, несмотря на вычурно-патетическое и незрелое красноречие, на скудную и местами просто ребяческую аргументацию, которыми окутана основная мысль «Рассуждений». Обе диссертации Руссо представляют собой, в крайне парадоксальной форме, протест против цивилизации, которой достигло современное общество. Особенною парадоксальностью отличается второе «Рассуждение», направленное против гражданского и политического строя цивилизованных обществ и написанное на тему, что главные бедствия, каким подвергаются в современной жизни отдельные лица и целые массы, происходят от неравенства между людьми; самое же неравенство есть следствие общежития и цивилизации. Поэтому Руссо орошает слезами всякое проявление возникающей среди человечества культуры и встречает с проклятием всякий шаг, который делал человек на этом пути. Точкой отправления роковой истории человечества служит в глазах Руссо естественное состояние человека или, правильнее сказать, животное состояние[26], в котором он представляет себе первобытного человека. Этот первобытный человек не знает семьи, не имеет жилища и живет в полном одиночестве, от которого он только временно отказывается, побуждаемый физическими потребностями. Пока продолжается это одиночество, пока человек не имеет почти никаких потребностей, он совершенно счастлив. Но какой-то злой рок, «какое-то случайное стечение разных обстоятельств, которые могли бы никогда не появиться», побудили человека отказаться от его блаженного состояния. Первым шагом к падению было постоянное жилище. Сначала человек, чтоб отдохнуть, ложился под любым деревом или укрывался в первой пещере: но вот ему пришла охота выкопать себе яму или построить себе шалаш из ветвей: «Это был, – говорит Руссо, – первый переворот в человеческой жизни, вызвавший возникновение и различение семьи и породивший известного рода собственность, следствием чего были, может быть, уже многие ссоры и столкновения». Устройство шалаша повлекло за собой разведение огорода и земледелие: для земледелия нужны были железные орудия, и это вызвало обрабатывание металлов.
После жилища и семьи земледелие и металлургия являются новыми шагами на пути человеческого падения. В глазах поэтов, – восклицает Руссо, – золото и серебро, но, по мнению философов, – железо и хлеб цивилизовали людей и погубили человеческий род. Все упомянутые перемены в быте естественного человека, в сущности, уже вызвали личную собственность. Тем не менее Руссо встречает ее появление в истории с отчаянием и патетическим проклятием: «Первый, – говорит он, – кто, огородив участок земли, решился сказать: это принадлежит мне, – и нашел людей настолько простоватых, что они поверили ему, – должен считаться настоящим основателем человеческого общества. От скольких преступлений, войн, убийств, бедствий и ужасов избавил бы человечество тот, кто, вырвавши колья или завалив ров, закричал бы своим товарищам: берегитесь, не слушайтесь этого обманщика»[27].
С таким же риторическим негодованием Руссо встречает потом государство и установление законов и такими же парадоксами объясняет их происхождение.







