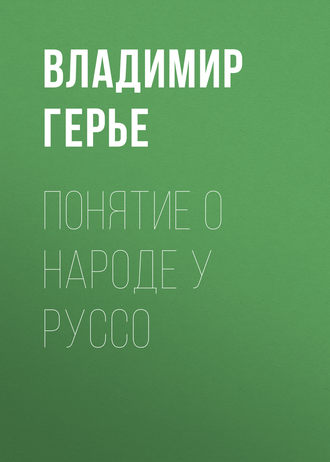
Владимир Герье
Понятие о народе у Руссо
Отвергнув учение, которое безразлично объясняло все людские поступки расчетом и эгоизмом и таким образом пришло к отрицанию нравственности и добродетели, Руссо признал источником последних особое самостоятельное начало в человеческой душе, которое он обыкновенно называл совестью (conscience). Этика Руссо не представляет, конечно, строго обдуманной и логически проведенной системы; противоречия в ней встречаются на каждом шагу, декламация и нравственная проповедь занимают в ней больше места, чем философские рассуждения и аргументация; несмотря, однако, на это, успех новой доктрины был громаден и влияние ее сказалось в самых разнообразных сферах. В самом принципе, на котором Руссо построил свою этику, не было ничего особенно нового. Другие моралисты до него отыскивали с большею глубиной и с более философским методом в человеческой душе самостоятельное начало этики, но что дало доктрине Руссо особенное значение и что составляет ее оригинальность – это ее связь с другими понятиями и тенденциями Руссо.
Нравственное чувство в человеке, или совесть, как его называет Руссо, резко разграничивается им от рассудка и даже противополагается ему. Это – инстинкт, который действует независимо от указаний разума и стоит даже выше его, ибо не подвержен, подобно ему, заблуждениям. «О, совесть, – восклицает Руссо, – божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос, верный руководитель невежественного и ограниченного существа, но разумного и свободного, непогрешимый судья над добром и злом, делающий человека подобным Богу! Тебе мы обязаны превосходством нашей природы и нравственностью наших поступков; без тебя я не ощущаю в себе ничего, что ставило бы меня выше животных, кроме печальной привилегии блуждать от одной ошибки к другой, опираясь на рассудок без твердых правил и на разум без руководящего начала»[35].
Так же определенно Руссо противополагает совесть разуму в «Новой Элоизе», где он влагает свои убеждения в уста героя этого романа Сен-Пре и по поводу его объяснений делает от себя следующее замечание, прямо направленное против энциклопедистов: «Сен-Пре отождествляет нравственную совесть с чувством, а не с суждением; это противоречит определениям философов. Я думаю, однако, что в этом отношении их вымышленный сотоварищ прав». Таким образом, источник нравственности сводится на прирожденный человеку инстинкт. Этот инстинкт, а не разум, по мнению Руссо, есть самый верный руководитель человека в его деятельности. Совесть не что иное, как инстинктивное влечение к добру и инстинктивное отвращение от зла; голос этой совести всегда указывает человеку тот нравственный закон, которому он должен следовать в данном случае. «Не достаточно ли, – восклицает Руссо, – войти в самого себя для того, чтобы познакомиться с законами добродетели и прислушаться к голосу своей совести при молчании страстей? Вот в чем заключается истинная философия – будем ею довольствоваться».
Но, противополагая нравственный инстинкт, или совесть, рассудку, Руссо в то же время приводит ее в связь с тем понятием, которое играет такую роль в его учении, с природой. Голос совести совпадает с голосом природы. Голос природы вопиет у Руссо против «отвратительной философии», основывающей добродетель и гражданскую доблесть на личном интересе. «Слава Богу, – восклицает он, – мы теперь избавлены от всего этого ужасного философского построения (appareil); мы можем быть людьми, не будучи учеными; нам не нужно истощать свою жизнь в изучении этики; мы приобрели за меньшую цену верного руководителя среди лабиринта человеческих мнений. Но недостаточно, чтоб этот руководитель существовал, – надо уметь его распознать и следовать ему. Если он говорит всякому сердцу, почему же так мало людей, которые его понимают? – А это происходит от того, что он говорит нам языком природы, который все заставляло нас забыть».
В связи с этими воззрениями Руссо получает свое полное освещение знаменитый афоризм: «размышление есть противоестественное состояние, и человек размышляющий есть извращенное животное». Французское мышление, начав с декартовского cogito, ergo sum, пришло в этом афоризме к самоотрицанию. Там мысль признавалась исходною точкой человеческого сознания, здесь же размышление отвергается ввиду того, что оно низводит человека ниже животного. И почему размышление так опасно и вредно для человека? – Потому, что оно заглушает в нем голос природы, тот нравственный инстинкт, который «делает человека подобным Божеству».
Таким образом, падение человечества, вышедшего из естественного состояния вследствие работы разума и развития цивилизации, двойное. Положение человека стало ухудшаться с тех пор, как он вступил в общежитие и образовал государство, и в то же время сам человек стал нравственно извращаться с тех пор, как предался размышлению, стал заниматься науками и стремиться к знанию. С развитием цивилизации и знания человек делается несчастным и сам он становится хуже. Цивилизация и размышление лишают его первоначального благополучия и в то же время беспорочной нравственности, которою он наделен от природы.
Так Руссо среди общества, утонченно цивилизованного и развитого, в самый век отвлеченного разума и рассудочного просветления смело бросает перчатку основному принципу этого века. Он проповедует возвращение к природе и к естественному состоянию, обращение от философии и знания к нравственному чувству, прирожденному человеку. Он открыто и решительно отдает преимущество в жизни человека темному слою ощущений перед мыслью и сознанием, посредством которых человек возвышается над животного жизнью. Настоящая роль Руссо в истории культуры заключается в том, что он провозглашает не равноправность только, но преимущество инстинкта пред разумом. Добродетель человека, его нравственность обусловливаются господством инстинктов, этим же обусловливается и счастье человека; и в том и в другом случае инстинкт представляется гораздо более верным руководителем, чем мерцающий свет разума.
Оттого поклонение инстинкту, провозглашение его прав становится исходною точкой для Руссо в сочинениях, направленных к исправлению нравов и общественной жизни. Эманципация инстинкта от условных общественных понятий и правил и идеализация его составляют тайну того очарования, которое имел в свое время скучный дидактический роман Руссо. Относительная правда, которую заключала в себе проповедь инстинкта среди общества, тяготившегося формами своего быта и пресыщенного унаследованными от предков понятиями и предрассудками, – объясняет нам, почему современное Руссо поколение жадно зачитывалось его «Новой Элоизой», обливая ее слезами и благословляя автора, как своего благодетеля.
Особенно плодотворным реформатором явился апостол инстинкта в области воспитания; здесь давно пора было преобразовать старую систему и прервать рутину. Не сокрушать инстинкты человека, проявляющиеся в ребенке, не ломать природу, не противоборствовать ей должно было воспитание, по мысли Руссо, – напротив, его задачей должно быть развитие и усовершенствование инстинктов и способностей, вложенных природой. Ребенок ближе к природе, чем взрослый человек. Он добр и непорочен, «ибо все непорочно, когда выходит из рук всемирного Творца», и потому прежде всего необходимо освободить педагогию от «варварской догмы» первородного греха. Человечество удалилось от состояния природы путем цивилизации: в каждом ребенке природа снова протестует против этого уклонения от нее, снова заявляет о своих нарушенных правах. Все дети, говорит Руссо, ленивы и неохотно учатся; они чувствуют, что учение и размышление удаляют их от естественного состояния, – тайный инстинкт говорит им, что счастье заключается в неведении. Здравая педагогия должна не насиловать этого природного расположения. Она должна как можно позднее и бережнее отрывать ребенка от лона природы; она должна знать, что, как выразился Руссо, «чтение есть бич детства». Здравая педагогия, приноравливая ребенка к искусственному обществу, в котором ему придется жить, должна, по крайней мере по возможности, приблизить воспитанника к состоянию природы, к человеческому идеалу; поэтому воспитание должно сделать из него не дворянина или мещанина, не француза или англичанина, а прежде всего человека.
Заслуги Руссо в педагогии достаточно известны, но они еще более значительны, чем это обыкновенно себе представляют, так как потомки не могут иметь полного понятия о том плачевном состоянии, в котором находилось воспитание детей в XVIII веке. Заслуги Руссо в педагогии должны быть признаны в трех отношениях: нужно, во-первых, иметь в виду все, что им устранено из области воспитания, затем – то, что он туда внес, и наконец – непосредственное, благотворное влияние, которое он имел на матерей и на воспитателей. Для того чтобы оценить заслуги Руссо как реформатора, нужно было бы подробно распространиться о варварстве и рутине старой педагогии, об обычае, господствовавшем во всех классах французского общества, отдавать детей на воспитание по деревням к чужим людям, о жестокости телесных наказаний даже в высшем классе, превышавшей всякое вероятие[36], о механическом, внешнем способе обучения, о многопредметности школьной программы, о раннем вступлении детей в общество салонов, где с ними обращались как с взрослыми, величая – monsieur et madame. – Знакомый с историей педагогии читатель готов будет признать справедливость педагогической аксиомы Руссо: «Поступайте во всем противоположно обычному, и вы, почти всегда, будете поступать правильно».
Чтобы вполне оценить переворот, произведенный Руссо в педагогии, нужно понять смысл его нововведений и его теории. Руссо, можно сказать, открыл детский возраст, первый старался проникнуть в детский мир, и хотя сам он не выяснил внутренней жизни, психического состояния ребенка, в отличие от взрослого, и даже ввел в этот вопрос много ложных представлений, но все-таки, благодаря ему, эта главная задача педагогии стала на первый план. Руссо положил основание новому плодотворному принципу, что в ребенке нужно искать и видеть только ребенка, что педагогию и обучение нужно сообразовать с наклонностями и способностями детского возраста, и не одно только лучшее понимание детской натуры было следствием этого нового отношения к детям: еще более, может быть, значения имела пробудившаяся у взрослых любовь и нежность к ребенку, без которой самая умная педагогическая теория безжизненна и бесплодна. Как и всегда, эта любовь имела благотворные последствия не только для детей, которые были ее предметом, но и для тех, от кого она исходила. Для многих, особенно для женщин, любовь к детям сделалась источником нравственного перерождения, и мы вполне можем верить искренности тех женщин, которые с восторженною благодарностью признавались Руссо, что только ему они обязаны тем, что стали испытывать материнские чувства. Но, признавая все эти заслуги Руссо, не следует, однако, увлекаться идеализацией его педагогической теории; через нее повсюду проходят два ложных начала, которые были, и еще могут быть, причиной многих заблуждений и практических ошибок: во-первых, учение, что в человеческом сердце нет никаких дурных задатков, никаких порочных инстинктов и что, вследствие этого, подобно тому как в людском обществе все зло происходит только от законов, учреждений и правительств, так и в ребенке нет ни одного порока, относительно которого нельзя было бы указать, каким путем он извне прокрался в его чистое сердце. Мы готовы признать, что фантастические представления, которыми Руссо исказил свою теорию о природе ребенка, принесли свою долю относительной пользы: его уверения, что ребенок представляет собой естественное состояние человека и что злоба в ребенке есть только следствие его физической слабости и что все дурные наклонности в детях прививаются к ним только воспитателями и обществом, – чрезвычайно содействовали возбуждению у взрослых той жалости и любви к детям, о которой мы говорили. Так как известная гармония между рассудком и чувством есть удел немногих, то для большинства людей ложная идеализация предмета есть необходимый спутник пробуждающейся любви и симпатии и нередко их источник; – и в этом смысле можно сказать, что ложной идеализацией ребенка у Руссо в значительной степени обусловливались и восторг, и нравственное умиление, с которыми матери и отцы, педагоги-теоретики и гувернеры приветствовали открывшийся пред ними детский мир. При всем этом ложная идеализация ребенка имела, однако, свою оборотную сторону – она послужила источником сентиментальности в педагогии и таким образом породила новую искусственность, аффектацию чувства, взамен рассудочной искусственности, прежде господствовавшей. Другое ложное начало заключалось в неправильном и натянутом противоположении природы и естественного развития – цивилизации и искусственного воспитания, в установлении враждебного антагонизма между природой и цивилизацией, тогда как следовало бы выставить цивилизацию в ее истинном смысле, как плод и результат естественного развития человеческой природы, а враждовать лишь с пороками и предрассудками современного общества.
К каким ложным практическим заключениям привели эти ложные начала в области педагогии – здесь не место рассматривать. Педагогические теории Руссо привлекают здесь наше внимание, насколько они представляют аналогию с его общественными теориями и освещают их. То же самое искусственное противоположение цивилизации природе, побудившее Руссо видеть в ребенке неиспорченное лжемудростью существо, заставило его идеализировать и тот общественный быт, который можно было с большим или меньшим основанием отождествить с естественным состоянием и выставить как отрицание цивилизации. Такое образцовое состояние Руссо отыскал в быте дикарей. И в этом вопросе, так же как в области педагогии, правда и ложь, софизм и нравственная проповедь были тесно связаны у Руссо и сплетены друг с другом. Относясь с особенным интересом к дикарям, Руссо плыл по течению века и потворствовал наклонностям тогдашнего общества, для которого под влиянием современных путешествий и таких популярных сочинений, как «Естественная история» Бюффона, вопрос о быте и нравах дикарей сделался модным вопросом.
С своей стороны Руссо более, чем кто-либо другой, содействовал существенной перемене, происшедшей в XVIII веке в отношениях европейцев к дикарям. Когда европейцы в веке открытий встретились с дикарями Америки и Африки, они, преимущественно под влиянием католического фанатизма, видели в них только неверных и относились к ним, как к животным. Филантропический XVIII век открыл в дикаре человека, но беда была в том, что этот век просветления еще сам не имел верного понятия о человеке. Там, где мы наблюдаем, люди XVIII века рассуждали, и материалы, собранные путешественниками о быте диких народов, служили в то время только поводом к обличительной или нравственно-назидательной риторике. Руссо справедливо упрекнули в том[37], что, когда он говорит о дикарях, читатель недоумевает, каких дикарей он имеет в виду – негров ли Африки, краснокожих Северной Америки или же баснословных троглодитов: для Руссо дикарь вообще – le sauvage – есть отвлеченная категория, общее понятие, которому не соответствует ничего реального. Как мало было у Руссо в этом вопросе настоящего знакомства с предметом и научного отношения к нему, яснее всего обнаруживается из того, что он орангутангов причислял к дикарям. Руссо отвергает решительно всякое родство между обезьяной и человеком на том основании, что обезьяны не могут говорить, особенно же потому, что «эта порода несомненно лишена способности усовершенствования»; и между тем он вступает в полемику с путешественниками, которые отказываются признать орангутангов за людей. Руссо упрекает их в недостатке наблюдательности, в предрассудках и слишком поспешных суждениях и сам высказывает предположение, что орангутанги – дикие люди, порода которых, искони рассеянная по лесам, не имела случая развить ни одной из своих способностей, – одним словом, что орангутанг – настоящий первобытный человек, еще не вышедший из того состояния природы, которое Руссо принимал за исходную точку в своей борьбе против цивилизации[38].







