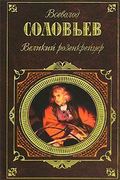Всеволод Соловьев
Жених царевны
V
Между тем Вольдемар как сказал Марселису, что не станет ни от кого скрывать свой поступок, так и сделал. Явился к нему князь Сицкий, и он ему прямо рассказал, как было дело, и просил при этом передать все царю.
Царь при докладе Сицкого тотчас же приказал ему идти обратно во двор королевича и сказать послам от его имени, что и простым людям такого дела делать не годится и слышать про него непригоже, а ему, царю, слышать про это стыдно и королю Христианусу такое дело не честно.
Пассбирг и Биллей ответили Сицкому для передачи царю:
– У нас с принцем было условлено ехать из Москвы всем вместе, явно и днем. Мы не пленники, и держать нас силой не за что, в действиях же наших отдадим отчет нашему государю, если же королевич поехал один, нам не сказавшись и тайком, то нам до этого дела нет, у него своя воля.
«Эх, – подумал Сицкий, – покажем мы ему эту волю! Волей-неволей, а сделает он по-нашему…»
После этого Вольдемар послал царю новую грамоту; в ней опять он просил об отпуске, клялся, что никогда не переменит своей веры и что потому жить ему в Москве больше незачем.
Царь отвечал ему в жалобном тоне, выговаривая, что он, королевич Вольдемар, за великую его любовь и ласку отплатил ему таким непригожим делом, о котором скоро будет толк у бояр с послами королевскими.
Королевич ответил, доказывая, что вина этого дела на тех людях, которые без всякой причины позволяют себе над ним насилие, и снова просил отпустить его.
Тогда Пассбирга и Биллена призвали в посольский приказ, и там бояре от них требовали, чтобы они вместе с королевичем дали письмо с приложением своих рук и печатей и поцеловали крест, что «дело о браке королевича с обеих сторон полагается на суд Божий и вперед царю с королем быть в крепкой, братской дружбе и любви и в ссылке[13] навеки неподвижно».
– Как только вы все это напишете и крест поцелуете, – говорили бояре,
– так и будете вместе с королевичем вашим отпущены в Данию. Вечному же докончанию быть по договору царя Иоанна с королем Фридрихом.
Послы датские, уже потеряв всякую веру в обещания московитов, не спешили радоваться. Они ответили:
– Если главное дело, свадьба королевича, остановилось, то нам никакого другого дела делать и закреплять, без королевского приказа, нельзя, хотя бы нам пришлось и десять лет еще прожить в Москве.
На это им бояре ничего не сказали и так и ушли из приказа. Опять началась ежедневная пересылка писем, опять королевич просил отпустить его; послы тоже просили не держать их без всякого дела.
На это получили они ответ, что без обсылки с королем Христианом отпустить их нельзя.
«Когда король отпишет, – значилось в царской грамоте, – то мы, великий государь, выразумев из грамоты, с вами и делать станем, как о том время покажет».
Вольдемар писал царю, что соседние государи, польский и шведский, принимают участие в его беде и не будут равнодушно смотреть на его плен.
На это был ответ: «Мы, великий государь, над вами с приезда до сих пор ведем честь государственную большую, и вам непригоже было писать, будто вы в плену находитесь. Мы отпускать вас никогда не обещались, потому что отец ваш прислал вас к нам во всем в нашу государскую волю и вам, не соверша великоначатого дела, как ехать?»
Читая это послание и вникая в смысл его, бедный королевич просто скрежетал зубами от бессильного бешенства. Он даже вдруг позабыл и царевну, и Машу, в нем поднималась жажда мести, все сердце кипело так, что больно даже становилось.
– Нет, – говорил он своим приближенным, – так невозможно оставаться! Во что бы то ни стало надо выбрать надежного человека, который мог бы помочь мне бежать в Данию… Я не могу больше так жить… я задохнусь, с ума сойду, я наложу на себя руки.
По счастью, явился Пассбирг с известием, что нашелся один московский немец, ремесленник, который согласился, за известную плату, отправить в Данию своего сына тайным образом.
Послы и королевич приготовили письма, и на этот раз гонец их благополучно выбрался из Москвы.
VI
He на шутку забурлил царский терем. Очень часто, для того чтобы поднять из глубины его всю накопившуюся грязь и муть, требовалось гораздо меньше. Какое-нибудь зря вырвавшееся и не имевшее никакого смысла слово служанки оказывалось достаточным, чтобы начать долгое и мучительное следствие, тут же дело было действительно выходящее из ряда вон: воровство в тереме, да еще в ночное время!
Положим, как ни перебирала Настасья Максимовна и другие постельницы всю теремную рухлядь, все платье и белье, ровно ничего не оказывалось пропавшим, но ведь в саду, у забора, найдены были вещи. Вещи эти оказались принадлежащими одной из молодых прислужниц царевны Ирины Михайловны по имени Ониська Мишурина.
По приказу царицы был призван дьяк Тороканов, и ему велено было разобрать дело.
Главной обвинительницей и доказчицей явилась, конечно, Настасья Максимовна, а первой ответчицей – Ониська, девка работящая, простая и несколько придурковатая, которая, еще ничего не видя, уже лила реки слезные, вопила и причитала, имела вид до крайности перепуганный и виноватый.
Когда дьяк Тороканов, призвав ее, стал допрашивать, он долго не мог от нее добиться ни одного слова. Она бухнулась на землю и вопила благим матом. Он терпел, терпел, наконец стал кричать на нее. Тогда ее вопли остановились, и она превратилась как бы в истукана, глядела в глаза кипятившегося дьяка бессмысленным взглядом, и только. Он схватил ее за косу и потрепал ее изрядно.
– Будешь ли ты, дурища, говорить или нет? Я тебя ем, что ли? – крикнул он. – Ведь я тебя не наказывать хочу, до наказанья далеко еще, должна ты сказать только всю правду.
Бедная Ониська и хотела говорить, да не могла, язык не слушался.
Из своего окаменения она перешла теперь в новое состояние: дрожала всеми членами, стучала зубами и вдруг со всех ног кинулась было вон, очевидно, не соображая, что такое делает, повинуясь только инстинкту запуганного, видящего неминучую опасность зверя, порывающегося уйти от врага, хотя уйти и некуда.
– Эге! Да ты вот как! – протянул он. – Ну, так вот тебе последний мой сказ: либо говори, либо сейчас же на пытку. Вот как вздернут тебя на дыбу, небось заговоришь!
Ониська взвизгнула нечеловеческим голосом, крепко зажмурила глаза, будто перед ней очутилось нечто нестерпимо ужасное, и наконец заговорила, стуча зубами:
– Все скажу… все… Да что говорить-то? Нешто я виновата? У меня же стащили…
– Ведь твои это вещи? – указал Тороканов на лежавшее тут же, на столе, поличное.
– Мои… мое все… новешенькое, только к празднику и сделано, царицыно жалованье…
– Ну, так ты, значит, признаешь? – важным голосом сказал Тороканов и, обмакнув большое гусиное перо в склянку с чернилами, стал медленно, но не без искусства выводить на бумаге хитрые закорючки.
Ониська глядела на эти движения пера и на выходившие из-под него непонятные знаки расширившимися от ужаса глазами. Зубы ее так громко стучали, что Тороканов даже оторвался от писанья, крикнул: «Ну!» – и снова наклонился над бумагой.
Вот он кончил, положил перо на стол и опять обратился к Ониське:
– А теперь ты скажи мне: где же эта одежа у тебя лежала?
– Вестимо где! Где же ей лежать-то… в сундучке, в чулане.
– И на запоре?
– Не! Хотела я замок достать, да где ж его сразу достанешь. А Соломонида Митревна и говорит: не сумлевайся, говорит, Ониська, кто у тебя возьмет! Нешто в тереме есть воры? Не бойся, не украдут. А вот и украли… – протянула Ониська и вдруг опять завопила: – Матушки вы мои, голубушки!.. Царица небесная!..
– Нишкни! – крикнул Тороканов и топнул ногою.
Она затихла.
– Ну, а кто же это у тебя украл-то?
Она совсем не поняла и только бессмысленно глядела на него.
– Да нешто я знаю! – отчаянно воскликнула Ониська. – Кабы я знала…
– Ну, что кабы знала?…
– Так я бы… я бы… не дала бы моего добра вору, я бы кричать стала!..
Допрос продолжался все в том же роде.
Как ни бился Тороканов, ничего не добился он от Ониськи, да и что могла она открыть ему? Были вещи, лежали в сундучке, в чулане, кто их взял и когда, неведомо. Она их не хватилась, а как Настасья Максимовна, постельница, призвала ее, показала, она и признала свои вещи.
Записал все это Тороканов и пока отпустил Ониську. Сидел он, перечитывал показание перепуганной служанки и раздумывал, как тут взяться, за какой конец ухватиться?
Было воровство? Было. Вор проник ночью в терем, захватил Ониськину праздничную одежу, вышел невредимым в сад, добрался до забора, но тут, видимо, перепугался, побросал все вещи, перелез через забор и утек. Никто его не видел, окромя Настасьи Максимовны, да и та не видела его, знает только, что он был в чулане, где вещи те лежали.
– Эка дура баба! – говорил себе Тороканов. – Как припер он дверцу, ей бы тут же ее снаружи и запереть на щеколду, вот вор сразу бы живьем и попался. Эка дура баба! За домового, вишь, его приняла… ну, да и то сказать, – тотчас нашел он оправдание для Настасьи Максимовны, – как и не принять? Может, тут и впрямь не обошлось без домового, уж больно дело-то мудреное. А дверь?… Каким таким образом дверь ночью была не на запоре?
Тороканов понял, что все дело в этой двери, и снова приступил к допросу всех теремных жительниц. Но тут оказалось нечто не совсем согласное с действительностью.
Все перво-наперво отозвались полным неведением: «Знать ничего не знаем, ведать не ведаем, двери у нас всегда на запоре, ключи на месте!» И бывшие тогда вместе с Настасьей Максимовной, и выходившие с нею в сад для осмотра показывали, что ключ она, постельница, разбудив их, взяла с собою, что Пелагея Карпова, по ее приказу, взяв у нее тот ключ, отперла им дверь в сад, а дверь, допрежь того, была на запоре.
Откуда взялись такие новые показания, неизвестно. Настасья Максимовна никого не подговаривала, да и подговаривать ей было незачем; не она отвечала за ключ, не она в тот день была наряжена смотреть за выходами. Но она не противоречила этим показаниям: может, она и впрямь, с перепугу, запамятовала, как было дело, или просто не хотела выдавать товарок.
Тороканов, собрав все эти новые показания, только разводил руками.
– Ну, как же тут быть? – толковал он. – Дверь на запоре, ключ на месте, а он, вор-то, сидит в чулане, а потом в ту дверь с краденой одежей проходит…
– И ничего тут мудреного! – вдруг возвысила голос бойкая, глазастая женщина, та самая Пелагея Карпова, которая по приказу Настасьи Максимовны отперла дверь. – Все это не иначе как Машуткино дело!
– Машуткино? Какой Машутки? – насторожился Тороканов.
– А известно какой! Да вот она и сама тут! – отрезала Пелагея Карпова, злобно сверкнув глазами и указывая на Машу, стоявшую тут же, в числе допрашиваемых, и уже никак не подготовленную к такому обороту дела.
– Что ты, Пелагея? Господь с тобой! За что ты на меня напраслину такую взводишь? Я-то тут при чем? – едва веря своим ушам, заговорила девушка.
– Ладно! Прикидывайся казанской сиротой, зелье ты этакое! Знаем мы тебя! – со злобной усмешкой продолжала Пелагея. – А это что же такое?
Она вынула из кармана платок и, приподняв его за концы руками, всем показывала.
– Чей это плат? Ну-ка, отопрись!
– Мой он! – крикнула Маша, подбегая к Пелагее и стараясь вырвать у нее из рук платок. Но та не давала.
Тороканов в это время так и впивался то в ту, то в другую.
– Мой плат, я обронила его нынче утром… искала… ну, ты нашла, так что ж тут? – говорила Маша, еще не понимая, какое обвинение может быть связано с этим оброненным ею утром платком.
– «Что тут такое»!… – передразнила Пелагея. – А вот это ты и скажи сама, что тут такое у тебя в этом плате в узелке завязано?
Действительно, один из углов платка был завязан узелком и в том узелке, очевидно, находилось что-то.
Тороканов взял из рук Пелагеи плат и развязал узелок.
– А! – многозначительно произнес он, кладя осторожно платок на стол. – Ну-ка, Машутка, поди сюда да скажи по истинной правде, какой такой корешок у тебя в плате-то завязан?
Маша подошла к столу и с изумлением глядела на сухой, толстый корешок.
– Не ведаю, – сказала она. – Вот те Христос, ничего у меня в плате завязано не было… Это она все… она, Пелагея, по злобе на меня. Вот те Христос! Мать пресвятая Богородица!..
И бедная Маша, хотя еще не успевшая испугаться как следует, но уже почуявшая беду, стала креститься. Пелагея злобно усмехнулась.
– Ишь ты, по злобе на нее! Какая у меня на тебя может быть злоба? Как нашла плат, вижу, завязан узелок, я и развязывать не стала. Рук своих не стала пачкать. Кто его знает, что там такое!
Все с видимым страхом и любопытством подходили к столу и глядели на корешок.
В это время в горницу, где происходил допрос, вошла Настасья Максимовна. Все расступились и дали ей дорогу. Она внимательно посмотрела на корешок, потом обвела взглядом всех присутствовавших и развела руками.
– Только этого и недоставало! – многозначительно вымолвила она.
– Да это что же такое? Как ты полагаешь, Настасья Максимовна? – спросил ее Тороканов.
– Что уж тут полагать, батюшка, дело ясное, разрыв-трава, вот это что!
– с полной уверенностью и с видом знатока объявила Настасья Максимовна.
VII
Дьяк Тороканов был очень доволен найти выход из своего затруднительного положения. Еще за минуту перед тем дело представлялось ему совсем непонятным, а вот разрыв-трава так просто и ясно отвечает на самый важный, главнейший вопрос.
В существовании этого зелья он не сомневался; оставалось только убедиться, точно ли корешок, лежавший перед ним в Машином платке, действительно настоящая разрыв-трава. Но ведь Настасья Максимовна прямо, без всякого подготовления произнесла это слово, произнесла его без колебаний, решительно, ну, а Настасье Максимовне как же не поверить!
Что касается всех теремных жительниц, находившихся при допросе, для них уж, конечно, тут невозможны были никакие сомнения, все готовы были теперь идти хоть под присягу, что этот таинственный корешок и не может даже быть ничем иным, как разрыв-травою.
Тороканов быстро вскочил из-за стола, подбежал к Маше и ухватил ее за руку, будто боясь, что она сейчас ускользнет и исчезнет.
Но Маша бежать не собиралась. Она все еще никак не могла взять в толк возводимого на нее обвинения.
– Откуда у тебя разрыв-трава? Кто тебе дал ее? – спрашивал между тем Тороканов.
– Да ведь я же говорю, что в плате, который я обронила, ничего не было! Это она, это Пелагея положила, а что она такое положила – почем же мне знать. Может, это и разрыв-трава, а то и еще хуже, она положила, у нее и спрашивай!
– Так это Машутка! Она? У нее нашли? – с изумлением воскликнула Настасья Максимовна и сразу растерялась.
Она одна изо всех здесь бывших не вполне верила в сделанное ею определение сущности этого корешка.
Ведь, сказать по правде, она никогда разрыв-травы не видала, да и не говорили ей люди верные, знающие, что трава эта вот такой темный, толстый, сухой корешок, – сказала она, что это именно такой корешок, потому что так ей оно показалось, а главное, бессознательно приятно было произвести сильное впечатление на всех своим заявлением.
Но уж никак не думала она, что словом «разрыв-трава» обвиняет она Машутку. Хоть и сидела у нее на шее эта озорница, по ее выражению, хоть и готова она была предполагать за нею всевозможные, самые непростительные шалости, но все же ведь она в глубине души своего сердца не только не питала к ней никакой злобы, но даже по-своему жалела ее, делала ей добро. Наконец, ведь Машутка, царевнина любимица, на ее глазах, недавно, будто вчера, еще была совсем ребенком; положим, теперь она выросла, хоть под венец ее веди, ей уж пятнадцать лет, но все же какие это еще годы? Да и дурачества, шалости у нее все детские…
Однако кто ее знает, ведь вот она то и дело пропадает неведомо где. Тогда вот вечером, когда она поймала ее и заперла на всю ночь в чулане, где она была все время? Да и вор… ведь забрался именно в этот самый чулан…
Ох, неладно тут что-то! А все ж таки жаль девчонку, все ж таки… Ну а вдруг то не разрыв-трава, а она такой грех взяла себе на душу!
Настасья Максимовна почувствовала, как у нее будто что-то перевернулось в сердце и засосало.
Она подошла к столу и после некоторого колебания решилась взять в руку корешок. Оглядела его она со всех сторон, не. без робости, но все же понюхала и сказала:
– А может, я и обозналась, может, это и другое что… Говорила вот мне одна божья старица про разрыв-траву… Похоже-то оно похоже, да ведь кто их знает – корешки-то эти! Поди сорви репейник потолще, высуши его, так и у него такой же вид будет… Ты, батюшка, на мои слова не полагайся, – обратилась она к Тороканову, – греха на душу я брать не хочу, говорю: может, я и обозналась.
Но тут выступила вперед Пелагея и, вся даже трясясь от злобы, заговорила:
– Не обозналась ты, государыня Настасья Максимовна, а самую, видно, правду сказала. Сами посудите, сами разберите, люди добрые, как тут решить-то?… Может, другие ничего не видят, а я-то вижу. Вот уж целую неделю, как дело к вечеру, так Машутка и пропала! Она-то думает, что никто этого не примечает и что всех она за нос провести может, ан нет… я-то за ней уж давно примечаю, за негодницей. Три раза своими вот этими глазами я видела, как она поздно вечером из сада через ту дверь возвращалась.
Против этого обвинения Маша ничего не могла возразить, только бросила злобный взгляд на Пелагею и невольно зарумянилась.
Ее смущение, ее румянец ни от кого не скрылись, все их заметили, заметили и Настасья Максимовна, и дьяк Тороканов.
– А! Так вот что! И каждый вечер, ты говоришь, она убегала?
– Да, да, – твердила Пелагея, – своими вот этими глазами видела, как вечер, так она и шмыг в сад и долго, долго пропадает.
– Отчего ж ты мне тогда не сказала! – крикнула Настасья Максимовна.
– А чего мне говорить, – ничуть не смутившись, ответила Пелагея, – нешто я в няньки к ней приставлена! Вот вышло дело, я и говорю, что знаю.
– Ну-ка, что ты на это скажешь? – строго спросил Машу Тороканов.
– Да что скажу? Что мне сказать-то? – проговорила Маша. – Коли видела, что я в сад бегаю, значит, так оно и было, ну что же такое! День-деньской маешься, то тут, то там в работе, то Настасья Максимовна кличет, то царевна, ну, а придет вечер – дела-то нет, вот в саду и хочется побегать, я и в сад, что ж тут такого?
– Да кто же тебе это позволил? Как же ты могла не спросившись? – крикнула Настасья Максимовна.
– А кабы я тебя спросилась, Настасья Максимовна, тогда ты бы меня все равно не пустила, так я уж лучше так, без спросу… Нешто знала я, что эта злодейка за мной подглядывает.
– А дверь-то, дверь?… – спросил Тороканов. – Что ж она у вас, так до поздней ночи и стоит отпертою али вы ее запираете по положению?
Тут все в один голос начали уверять, что дверь запирается аккуратно.
– Ну в таком разе и толковать нечего, – решил Тороканов, – раз дверь запирается, а девчонка через нее в сад и из саду пробирается, значит, у нее отвор есть. Вот отвор этот и лежит теперь на столе, вот он!..
– Так, так! – торжествующе подтвердила Пелагея. – Умный человек сейчас видит, в чем дело.
– Да и для глупого человека оно ясно: коли дверь на запоре, а девчонка в нее пробирается, значит, отворяет она ее разрыв-травою. Что же, ты еще ничего не заприметила, Пелагея? – спросил Тороканов.
– Как не заприметить! Она в сад, а я в светелку к окошечку, а из окошечка-то все как на ладони, ну вот и видела…
Маша почувствовала, как у нее спина холодеет. «Что она видела? – промелькнуло у нее в мыслях. – Неужто видела, как я через забор лазила?»
– И вижу это я раз: Машутка подбежала к забору, – объясняла Пелагея, – подняла голову, гляжу я, куда это она смотрит? Ан и вижу, на заборе-то шапка. Ну, а дальше, известно, что шапка-то не сама собою… на человеке надета. Приманила Машутка голубчика!..
У Маши широко раскрылись глаза.
– Али в тебе стыда нет! Бога побойся! Что ты на меня клеплешь! – крикнула она Пелагее. Но та ничуть не смутилась.
– Вестимо дело, клеплю я на тебя. Так ты сейчас и признаешься, что парней в царский терем приманиваешь, да воров еще…
Теперь все было ясно. Тороканов подтащил Машу к столу и строгим голосом приказал ей стоять смирно. Сам же он обмакнул перо в чернильницу и приготовился писать.
– Признавайся во всем, во всем как есть! Если станешь отпираться, не взыщи, голубушка!
– Не в чем мне признаваться, – то бледнея, то краснея, но не от страха, а от бешенства на Пелагею, ответила Маша. – Что есть, то есть, а чего нет, того нет. Мой плат, обронила я его нынче утром, только никакого корешка в нем не было. Гулять в саду в ведро я не раз выбегала: в этом не запираюсь, а больше ничего не знаю и не ведаю.
– Ну, это мы уж слышали, – перебил ее Тороканов, – а теперь вот что мне скажи: кто такой этот парень, которого ты приманила-то? Откуда он у тебя взялся и как его имя?
– Никакого парня нет, – решительно ответила Маша. – Никакого парня я и в глаза не видывала.
– Эй, Марья! – погрозил ей пальцем Тороканов. – Не шутки я шучу с тобой, да и времени у меня не много. Либо ты мне сейчас истинную правду скажешь, либо, не взыщи, прикажу тебя взять да попытать хорошенько. Авось на дыбе во всем повинишься.
Маша взвизгнула, и, прежде чем кто-либо мог опомниться, она уже выбежала из светелки и исчезла. Несколько женщин кинулись за ней вдогонку, но скоро вернулись, объявив, что она прямо побежала в покои царевны и что туда они за нею войти не посмели.
– Ну, да куда ж и выбежать ей, как не к своей заступнице, – раздумчиво произнесла Настасья Максимовна, – ты уж, батюшка, обожди, – обратилась она к Тороканову, – пойду я к княгине Марье Ивановне, поведаю ей обо всем, пускай она государыне доложит, как та прикажет.
Она кивнула головою Тороканову и пошла разыскивать княгиню Хованскую.