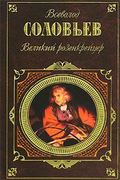Всеволод Соловьев
Старый дом
Часть первая
I. Свои
В одной из самых уютных и красивых комнат старого петербургского дома Горбатовых у маленького столика, на котором был сервирован утренний чай, сидели хозяева – Владимир Сергеевич Горбатов и жена его, Екатерина Михайловна, рожденная графиня Чернова. Владимир Сергеевич, статный и красивый молодой человек лет двадцати шести, удобно раскинулся в низеньком мягком кресле. Его мундир гвардейского офицера был расстегнут, и высочайший воротник, поднимавшийся с двух сторон, скрывал почти половину его свежих гладко выбритых щек, на которых оставалась только маленькая полоска искусно выведенных по моде того времени, у самого почти уха, бакенбард. Молодые тонкие усы были немного подвиты и закручены. Блестящие черные волосы взбиты со всех сторон и зачесаны наперед. Все лицо его, вся высокая, но уже, несмотря на молодые годы, очень полная фигура, делали из него красавца-гвардейца, на которого часто заглядывались женщины. Выражение его темных глаз уловить было трудно, так как он, по привычке, очень часто держал их полузакрытыми.
Катерина Михайловна, или Катрин, как называли ее родные и друзья, молоденькая женщина, лет двадцати, не больше, была похожа на «прелестную птичку», по мнению петербургского света. Маленькая, стройная, с хорошенькой белокурой головкой, с кокетливо приподнятым носиком и бледными, немного влажными глазами, она чрезвычайно нравилась старикам и юношам. Ее утренний туалет, отделанный по последней моде, свежий и изящный, мог бы выдержать какую угодно женскую критику. Маленькие узенькие ножки, выглядывавшие из-под тяжелой, но мягкой шелковой материи платья, были обуты в хорошенькие светлые парижские туфельки и заманчиво выделялись на темном бархате подкинутой мужем к ее креслу подушки. Катрин около трех лет была замужем. Она уже подарила своему мужу первенца-сына, но, несмотря на это, по крайней мере с первого раза, имела вид наивной девочки. Однако по тому, как относились друг к другу, как беседовали между собою молодые супруги, можно было заметить, что в них еще осталось и воспоминание о счастье медового месяца. Когда их взоры встречались, они ничего не передавали друг другу этими взорами. Катрин лениво прихлебывала чай из саксонской чашечки, лениво намазывала масло на тоненькие ломтики хлеба. Владимир Сергеевич по временам позевывал и потягивался.
– Ты отправляешься куда-нибудь, Владимир? – спросила Катрин.
– Конечно, видишь… я в мундире. Сегодня у меня служба, до обеда домой не вернусь. А ты что будешь делать?
– Ах, Боже мой, – протянула она, – как будто у меня мало дел, мало хлопот!.. Ты будто забыл, что у нас завтра бал…
– Я не забыл, но какие же у тебя хлопоты? Распоряжения все сделаны, все устроено, приглашения разосланы. О чем же еще хлопотать – не понимаю!
Она только пожала плечами, сделала полупрезрительную минку и ничего не ответила. В это время в соседней комнате послышались торопливые шаги, и из-за спущенной дверной занавески выглянула сияющая, улыбающаяся, благообразная фигура молодого лакея. Владимир Сергеевич взглянул на него и поморщился.
– Это еще что такое, Степан?! – сурово произнес он. – Без звонка, без спроса врываться сюда, когда раз навсегда сказано… Чего тебе надо?!
– Барин приехал, барин! – торопливо, почти задыхаясь, выговорил Степан, дрожа от волнения и не замечая сурового тона, с которым его встретили.
– Какой барин?
– Наш барин, наш, Борис Сергеевич… Идут сюда!..
И не успели они еще удивиться, как в комнату вбежал и с радостным криком: «Брат!» – обнял Владимира Сергеевича молодой человек, в котором было очень мало с ним братского сходства. Борис Горбатов был на год старше Владимира, но казался моложе его. Он был ниже ростом, худощав. Партикулярное, заграничного фасона платье прекрасно обрисовывало его стройную фигуру. Густые каштановые волосы были зачесаны назад и теперь находились даже в значительном беспорядке. Живые светлые глаза радостно блестели. На бледной тонкой коже лица вспыхивал и тотчас же пропадал слабый румянец. Все это молодое лицо, с тонкими, породистыми чертами, с почти детской, радостной, блуждающей улыбкой, постоянно меняло свое выражение; оно иногда становилось неотразимо привлекательным. Крепко обнявшись и расцеловавшись с братом, Борис Сергеевич поспешил к невестке, взял ее за обе руки и целовал их, повторяя:
– Belle comme le jour, belle comme toujours!..
– Ах, друзья мои, да как же я рад вас видеть! – крикнул он, отрываясь от невестки, опять подбегая к брату и, наконец, опускаясь в кресло.
– А батюшка, а матушка?! Неужели не приехали? Я ожидал их уже застать здесь. Как же вы живете, милые? Что Сережа? Я так себе живо его представляю… Покажите же вы мне его поскорее!..
– Заговорил совсем… Дай же вздохнуть! – с легкой улыбкой произнес Владимир.
– Boris, je vous verse une tasse de the, – своим тоненьким голосом проговорила молодая хозяйка, подсаживаясь к столику.
Лицо ее вовсе не выражало радости свидания – оно ничего не выражало.
– Mersi, Catherine, я с удовольствием выпью и даже съем что-нибудь – проголодался.
– Да объясни же прежде всего, каким образом ты явился? – сказал, подходя к брату и поглядывая на него своими полузакрытыми глазами, Владимир. – Мы ждали тебя не раньше как через неделю. Отчего ты не прислал ни письма, ни депеши с нарочным, чтобы тебя встретить и выслать экипаж?
– Да, видите ли, я и сам не знал, сколько времени пробуду в Варшаве… К тому же я не люблю этих встреч, шуму… Приехал, вышел из дилижанса, сел в наемную карету – и здесь. Так гораздо лучше… Относительно вещей своих тоже распорядился, да их со мною и немного, а большой мой багаж прибудет не раньше как через неделю… Но что же это наши?.. Каким это образом их здесь нет? Я ведь наверно рассчитывал… Они мне писали в Берлин, что непременно я их уже застану в Петербурге.
– Они и нам писали, что собираются. Вот больше месяца собираются, да когда-то будут?! – произнес, совсем почти закрывая глаза, Владимир. – Я думаю, нескоро выберутся, для них ведь это целое событие – приехать в Петербург.
– Ах, как это обидно! – повторил Борис. – Так я, пожалуй, вот что сделаю, если они еще станут мешкать: я сам поеду в Горбатовское и привезу их силой. А что же Сережа? Где он? Да покажи мне его наконец, Катрин?
– Успеешь, он теперь, верно, спит… Вот чай, вот масло! Я сейчас велю готовить завтрак…
Она протянула руку к сонетке и позвонила. Борис с аппетитом принялся за хлеб, масло и чай. Потом вдруг оглядел себя:
– Боже мой, простите, ведь я совсем грязный с дороги!
– Какие комнаты прикажешь тебе приготовить? – спросил Владимир. – Извини, мы не ждали, я сейчас позову Степана, распорядись сам, какие комнаты.
– Да все равно, лишь бы не стеснять вас.
– Вот странно, – пожал плечами Владимир, – приехал барин, барин par excellence, как сейчас возвестил Степан… Дом твой – выбирай какое угодно помещение!
Борис с изумлением взглянул на брата.
– Что ты говоришь? Что такое – дом твой? И ты, и я – мы, кажется, одинаково у отца с матерью в доме… Но я был бы очень огорчен, если бы чем-нибудь стеснил вас. Я не знаю, как вы разместились. Мне многого не нужно – две комнаты, и все тут! Только скажи, какие вам совсем, совсем не нужны, туда я и велю снести свои вещи.
– Покажи ему, Катрин! А мне пора.
Владимир взглянул на часы, пожал руку брату, приложился губами ко лбу жены.
– Прикажешь известить Петербург о твоем приезде? – спросил он, останавливаясь у двери и повертывая свою красивую голову с полузабытыми глазами, крепко подпираемую высоким воротником мундира.
– Кому это интересно?! Кто меня тут знает?
Владимир вышел, поправляя шарф вокруг своей талии.
– Et bien, Boris, je suis a vorte disposition, – слабо улыбнувшись, сказала Екатерина, – пойдемте!
Он встал. Она оперлась на его руку, и они пошли длинным рядом нарядных комнат.
– Если тебе все равно… Не поместишься ли ты внизу, в комнатах за бильярдной?
– Ах, Боже мой, Катрин, да веди куда хочешь, мне везде будет хорошо под этим кровом!..
Они сошли с лестницы, прошли в комнаты за бильярдной.
Эти комнаты были несколько запущены, в них, очевидно, редко кто заглядывал. Было холодно, даже как будто пахло сыростью. Но Катрин ничего этого не заметила. Она приказала нести сюда вещи Бориса Сергеевича. Потом, отпустив его руку, сделала ему маленький грациозный книксен, улыбнулась ничего не выражавшей улыбкой, шепнула:
– Я тебя жду через час к завтраку, тогда и Сережу покажу…
И скрылась, шурша длинным треном своего утреннего платья.
Борис остался один среди несколько мрачной, обветшалой обстановки старых комнат. Он присел на старинное жесткое кресло в ожидании своих чемоданов и умыванья. Веселое, счастливое настроение духа, в каком он был до сих пор, вдруг почему-то пропало. Ему стало не то грустно, не то как-то неловко, хоть он не отдавал себе в этом отчета.
II. Смерть маленького человека
Наконец внесли чемоданы, а затем появился Степан с полотенцами и другими принадлежностями умыванья.
Этот Степан, расторопный, щеголеватый парень, с некрасивым, но приятным и умным лицом, продолжал, очевидно, находиться в восторженном состоянии по случаю приезда барина.
Он влетел в комнату все с теми же сияющими глазами и блаженной улыбкой. Но вдруг остановился, мгновенно нахмурясь.
– Борис Сергеевич, да что же это, сударь? – смущенно проговорил он. – Зачем же вы тут? Неужто в этих покоях и останетесь?
– Здесь и останусь, Степанушка, – рассеянно ответил Борис.
– Да как же так? Зачем же? Ведь это, почитай, самые негожие покои в доме, тут вот и пыльно, и сыро, и холодно. Извольте-ка, сударь, взглянуть – у стенки-то и по сю пору плесень… Ведь тут у нас что такое было! Страсти!.. Так уж и полагали, что потонем… Чай, слышали… Про наводнение-то наше?
– Как же, слышал…
– Да, сударь, не дай Господи другой раз пережить такого, вспомнить – так дрожь пробирает… Что народу погибло, добра всякого! И не счесть… Вот и у нас – весь ведь нижний этаж затопило, потом была работа! Высушивали, высушивали, а плесень нет-нет и покажется… Насырело… Размокло… Шпалеры-то переменили – да оно вот насквозь… Гляньте-кось… Вот, вот она… Ишь ты: ровно вата… Кабы знать, так топить давно надо было, а то в кои-то веки тут и топили – потому никто не живет, никто не заглядывает.
– Так распорядись, чтобы натопили к вечеру, пыль чтобы хорошенько вымели, кровать мне вот сюда поставь, ширмы… Погоди, вот умоюсь, позавтракаю, так я тебе сам покажу, как все устроить. Здесь мне будет отлично, покойно, – говорил Борис, снимая свой длинный сюртук и засучивая рукава для умыванья.
Но Степан никак не мог успокоиться.
– Как же это? Как же? – повторил он. – Барин домой приехал, а ему словно и места нету, в этаком-то доме… Ведь у нас сколько места! Заняли бы, сударь, ваши покои наверху, там теперь столпотворение вавилонское – завтра бал у нас будет, так все вверх дном перевернуто. Столы карточные в ваших покоях наставлены, для гостей, по приказанию Владимира Сергеевича. Да это пустое! Для столов найдется место – зачем ваши покои занимать! Прикажите, через час времени все сделаю и в лучшем виде вашей милости все устрою, как до отъезда вашего было…
– Оставь, надоел! Сказал ведь: здесь останусь. Тут мне спокойнее будет. Лей больше воды на голову!
Степан замолчал и, схватив большой кувшин с водою, стал помогать барину умываться. Сбежавшее с его лица выражение радости снова вернулось. В малейшем движении его – в том, как он подавал умываться, как он лил воду, как он глядел на барина – видно было, что он прийти в себя не может от радости.
Борис кончил свое умыванье, дал Степану ключ от чемодана; затем они вынули белье, платье. Степан осторожно, заботливо, почти с ловкостью и ухватками опытной камеристки помогал своему господину.
– Ну, Степушка, – говорил, одеваясь, Борис, – вот и опять ты в должности моего камердинера.
– Опять, Борис Сергеич, слава тебе, Господи!
– Да что, может, у тебя тут дело какое?! Ты к чему-нибудь приставлен?
– Никакого, сударь, мне нет дела. Сами знаете, сколько нас в доме народу. Вас вот дожидался да мыкался из угла в угол – тут и все мое дело! А уже теперь дозвольте к службе своей вернуться, ходить за вами.
– Хорошо, я так и рассчитывал. Был у меня в чужих краях француз, честный человек и ловкий, просился, чтобы я взял с собою, а я все же его обратно на родину отправил в расчете на тебя.
Степан даже вздрогнул.
– Признаюсь, сударь, уж как я этого боялся! Иной раз взбредет в голову: а ну как барин вернется, да с немцем каким али там с французом, что тогда будет! Уж вот бы обидели – не перенес бы, кажется, такой обиды. Оно, конечно, я простой человек и у парикмахера-француза, вот как Петрушка, что при Владимире Сергеиче, не был, а Бог даст не хуже его головку вам причешу по самому модному. Высматривал я тут, как это господа знатные одеты да причесаны – в грязь лицом не ударю…
– Не хвастайся, Степушка, нужды в том нету, – ласково сказал Борис. – Ты знаешь, я не привередник. А привычки мои все тебе известны, с детства мы с тобою… в один день и родились. А вот что ты мне скажи – и говори правду. Вы ведь когда приехали из Горбатовского? Месяца три будет?
– Около того, сударь. Да… так оно и есть – вот-с в четверток аккурат три месяца будет.
– Скажи, как там в Горбатовском? Батюшка, матушка здоровы?
– Здоровы, Борис Сергеич, совсем как есть в полном здоровье, как при вашей милости были. И все в Горбатовском обстоит благополучно… только вот крестного нету…
Степан вдруг запнулся.
Борис вскочил с кресла, на котором сидел перед туалетным зеркалом, завязывая себе галстук.
– Что?! Что ты говоришь?! Как нет Степаныча! Что же он – умер?!
– Скончался! А разве вы о том неизвестны? – изумленно произнес Степан.
– Когда? И никто не написал мне ни слова!
– Не написали! Вот ведь оно дело какое!.. Видно, огорчать господа не желали, а я-то, дурак, и проболтался сразу, в первую минуту встретил приятной вестью!
– Хорошо, что сказал, зачем скрывать, – говорил Борис, в волнении ходя по комнате. – Бедный Степаныч!.. Когда же это?
– А летом еще, перед самым Успеньем.
– Как он умер? Расскажи!
– Да уж так это нежданно для всех нас было! Оно, конечно, годы крестного большие и сколько ему лет было, про то никто не знает. Только ведь у нас в Горбатовском, вам, сударь, ведомо, испокон веков толковали: Моисей, мол, Степаныч – человек особенный – карлик, и веку ему не будет – все таким останется. Говорили, вон, будто ему за двести лет уже перевалило – да врали, чай?!
– Конечно, врали, – заметил Борис, – кто же это теперь по двести лет живет?! Однако сколько ему лет? Пожалуй, около восьмидесяти было, только ведь он ни на что не жаловался. Какая же такая у него болезнь оказалась?
– Да никакой болезни, сударь; каким был года два тому, таким и остался. Ничего мы в нем не примечали особого. Только вот иной раз слабость с ним будто делалась. Помните, бывало он тихонько и пройти-то не может – все бегает, а тут вдруг выйдет из своего покойчика шажками такими маленькими, потолкует с нами. И голос у него такой слабенький стал: иной раз слово скажет – так даже расслышать трудно. А как лето пришло, все больше в саду перед домом сидел, на солнышке; часов пять сидит – не встает с места. Подойдешь к нему, как господ никого на террасе нет; он рад. Прикажет сесть рядом с собою на скамью. «Сядь, говорит, крестничек». И сейчас о божественном поучает меня. А то частенько о вашей милости говорил. «Что-то, мол, наш Борис Сергеич в чужих краях поделывает?» И чужие края начнет описывать. Все-то он знает, везде был, всяких ужасов на своем веку навидался! Чай, помните, сударь, как он нам про Париж да про революцию их сказывал?
– Как же не помнить! Господи, все помню! Бедный… милый Степаныч!
Борис сморгнул набежавшую слезу.
– Но вот после Спаса, – продолжает Степан, – вижу я, что крестный что-то из покойчика своего не выходит. Стал я частенько к нему заглядывать. И как к нему ни зайду – вижу: молится… целый-то день молится! Я ему и говорю: «Крестный, ты бы в сад вышел, теплынь такая, благодать. А коли неможется или ноги болят – дай я тебя на руках вынесу». А он мне: «Нет, говорит, Степушка, оставь ты меня, дай мне помолиться… Грешен я очень, не замолить мне, видно, грехов моих».
– Грешен! – с печальной улыбкой проговорил Борис. – Да, я думаю, он во всю жизнь свою не согрешил!.. Совсем святой человек был Степаныч…
– Это точно, сударь, – серьезно и торжественно заметил Степан. – Господь Бог ему и смерть праведную послал. Накануне Успенья было… Господа чай кушали… утром, в большой столовой. День был дождливый такой. Я у стола прислуживал. Вдруг гляжу – входит крестный и никакого такого в нем больного и слабого вида; вошел так бодро. Сейчас, как и всегда, у старой барыни у Татьяны Владимировны ручку поцеловал. Потом к Сергею Борисовичу подошел – поздоровался и стал обходить всех. Владимир Сергеич и Екатерина Михайловна тут были… и гости приезжие. Сергей Борисыч сами ему стул возле себя подвинули.
«Садись, говорит, Степаныч, откушай с нами чаю».
Старая барыня ему налили чашку, я подал. Крестный подобрался, вскарабкался на стул да и говорит:
«Спасибо, говорит, золотая моя Татьяна Владимировна, – (ведь он маменьку всегда золотой называл) – спасибо, откушаю я с вами чай в последний раз – проститься пришел».
А Сергей Борисыч засмеялся.
«Как проститься? Куда это ты собрался, Степаныч?»
«На тот свет, говорит, к Богу, отчет в грехах отдать – давно уж пора».
И так сказал это степенно да важно, что ажно мне жутко сделалось. Вижу – и все притихли, смотрят на него. А маменька и говорят:
«Полно, Степаныч, почему такие мысли! Еще, даст Бог, поживешь с нами. Зачем тебе умирать, ведь ты здоров!»
А у самих, слышу, голос дрожит.
«Нет, – отвечает крестный, – не пустые слова говорю, верно сказал: пришел проститься… ныне до всенощной отойду и на суд предстану… Вот чайку выпью – вчера весь день постился. Погляжу еще на вас, мои золотые…»
Да и замолчал. Чай начал прихлебывать, и все так спокойно. Господа сидят кругом… смех до того был, веселые разговоры, а тут ни смеху, ни разговоров. Перешептываются господа, да и опять на крестного смотрят. Допил он свой чай, опрокинул на блюдечко чашку.
«Будет, – говорит, – спасибо, матушка, спасибо, золотая».
Подошел к барыне, ручку поцеловал, барина в плечико – и вышел, бодро так вышел. Стали господа говорить, и Сергей Борисыч и Татьяна Владимировна, что напугал их крестный. Гости и молодые господа успокаивают. Так, мол, старику почудилось, здоров он и жив будет. Только Сергей Борисыч приказали мне сбегать к доктору Францу Карлычу и привести его к крестному. «Сам, говорят, тоже туда сейчас приду». Я скорым манером за Францем Карлычем. Привел его, а у крестного уж барин сидит. О чем они до нас беседу вели – не могу знать, только вижу: у барина глаза как бы немного заплаканы. А крестный сидит в своем маленьком кресельце важно и спокойно. Франц Карлыч начал его расспрашивать. Ощупал всего, ухо к груди да к спине прикладывал, за руку держал, на часы смотрел долго. А потом и говорит:
«Пустое, никакой в нем болезни. Но, само собою – года древние – не то, что молодость. А не только что смерти, даже и болезни никакой не предвидится».
Отпустил барин Франца Карлыча, а сам остался. Я тоже у двери стою. И вдруг вижу – крестный улыбается, так ласково, будто малый ребеночек, – чай, помните – у него улыбка такая была, – улыбается да головой качает.
«Сергей Борисыч, говорит, и к чему это ты немца ко мне призвал, растормошил он меня, старого, даром только. Ну, стану я тебя обманывать! И неужто ты немцу больше моего поверишь… Что он знает?! Что может он знать?! До всенощной не станет меня – это верно. Только ты не горюй, батюшка, чего горевать – радоваться надо. Долго я жил на свете, на покой пора. Оно точно, и мне мысли о суде страшны были, да Господь меня подкрепил верою в Его милосердие, и готовился я, как мог, к ответу…» И вдруг обратился ко мне да и говорит: «Степушка, а ты вот что: сходи к батюшке да скажи – мол, так и так, крестный помирать собирается. Надеялся, мол, сам сходить исповедаться нынче, а завтра, в день Успенья Пресвятой Богородицы, за литургиею причаститься Святых Тайн – да Господь не привел… Не доживу и до всенощной, и идти не могу…»
Сказал это, а сам силится приподняться с кресельца, да тут же и упал назад. Побежал я к батюшке. Тот сейчас же собрался. Крестный долго так исповедывался, потом батюшка приобщил его Святых Тайн. Перенесли мы с барином его на кроватку. Созвал он всех. Весь покойчик его народом наполнился. Барыня Татьяна Владимировна и барин на коленках у кровати стояли. Благословил их крестный, да и говорит таким слабеньким, тихеньким голосом:
«Спасибо, золотые… ждать буду – свидимся». Потом поманил Владимира Сергеевича… и его благословил. Меня благословил тоже и показывает глазами на господ.
«Служи, – это мне он шепнул, – будь слуга верный, себя не жалей».
А потом вас, сударь, вспомнил: «Боречке мой поклон передайте, не привел Бог свидеться. Пошли ему Господь всякого счастья, моему голубчику».
Сказал это, перекрестился, сложил на груди ручки, вытянулся как-то весь, вздрогнул… Смотрим мы – а он уж и не дышит…
И верите ли, сударь, может, с полчаса времени: как все в ту пору стояли, так никто и не шелохнулся! Барыня всплакнула было да и остановилась, слезы вытерла… И никто не плакал… И так это было чудно как-то, тихо так… не умею вам и сказать… будто Бог был с нами…
Степан замолчал. Молчал и Борис.
Ему так живо вспомнилась крошечная фигура карлика, когда-то принадлежавшего императрице Елизавете, потом подаренного Петром III его деду, Борису Григорьевичу Горбатову, карлика, вынянчившего его отца, бывшего всю жизнь его хранителем и другом, сыгравшего большую роль в его тревожной юности, наконец, бывшего пестуном и Бориса и Владимира.
Этот карлик представлялся теперь Борису не слугой и не низким, а уважаемым, любимым другом их дома. С этим карликом соединены были самые лучшие воспоминания его детства. Этот карлик вместе с матерью был его воспитателем. Он внушил ему силою своего убеждения глубокую веру в Бога, которая никогда не покидала Бориса.
Однако пора было прервать эти печальные и милые воспоминания – Катерина Михайловна, верно, уже ждала с завтраком.
Борис направился к двери.
– Вот, сударь, – сказал Степан, вдруг подходя к нему и глядя на него как-то странно светящимися глазами, – крестный завещал служить, себя забывать для господ… Я стараюсь… видит Бог… Только, Борис Сергеич, ведь вы мой настоящий и единый господин… дозвольте же навсегда нераздельно служить вам. А я… (голос его задрожал) я жизнь свою положу за вас!..
– Знаю, Степушка! – тоже совсем растроганный проговорил Борис.
И вдруг, богатый и знаменитый барин, наследник знаменитого, прославленного историей имени, и крепостной раб невольно, в общем порыве обнялись как братья.