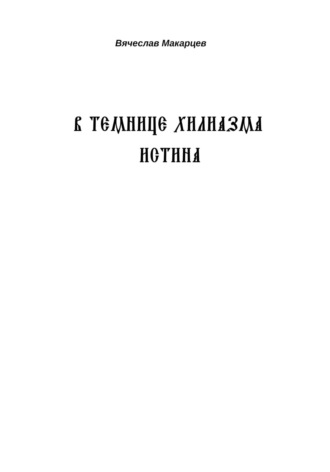
Вячеслав Макарцев
В темнице хилиазма истина
III.2. Апокатастасис и логика любви
Возвращаясь к апокатастасису, заметим: представляется совершенно очевидным, что источник философского апокатастасиса находится в язычестве. Однако история Церкви знает и святых, не чуждых идеи такого апокатастасиса, источник которого никак не может находиться в языческих верованиях, – стало быть, можно говорить о двух его видах.
Почему желание «всеобщего спасения» людей продолжает жить в сердцах многих христиан, несмотря на однозначное отношение к этому вопросу Христа? Его слова – «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41) – невозможно не толковать однозначно: апокатастасиса не будет. Мы видим, во-первых, что огонь вечный уже уготован диаволу и его ангелам. То есть о демонах не может быть и речи в вопросе о «всеобщем восстановлении». В большинстве случаев сторонники апокатастасиса имеют в виду «всеобщее спасение» людей, поскольку диавол и его демонские полчища могли «восстановить себя в первобытное состояние, позаботившись уврачевать в себе болезнь покаянием», по слову святителя Василия Великого, лишь до совершения «чудовищного преступления», результатом которого стало грехопадение людей. Это что касается демонов.
Когда же речь заходит о людях, здесь у многих возникает состояние, которое можно назвать своеобразным «долготерпением любви». Как жить в вечности, задаются вопросом сторонники «всеобщего восстановления», если близкие люди будут посланы Богом в огонь геенский? Отсюда, как представляется, и появляются попытки некоторых богословов отыскать доказательства из Св. Писания и святых отцов, что «всеобщее спасение» будет. Но речь здесь, думается, все же идет о другом, что только имеет вид еретического апокатастасиса: об особом «долготерпении любви», порожденном сострадательностью.
Конечно, можно сказать так: «Сам Христос сказал, а вы дерзаете иметь свое мнение?!» Но давайте посмотрим на поведение праотца нашего Авраама, когда он услышал от Бога, что Содом будет уничтожен: «И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с нечестивым]? может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем? не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие. Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати. Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место» (Быт. 18:23-33). Вот это и есть, если угодно, необычайное «долготерпение любви».
Некоторые историки утверждают, что в Содоме в ту пору могло проживать около десяти тысяч человек. Десять праведников – это тысячная доля всего населения города. Так же и сердца некоторых искренних сторонников такого «долготерпения любви», вероятнее всего, движимы тем же чувством: может быть, «тысячная доля» любви к Богу и ближнему есть в том, кого Бог направит в геенну огненную? Неужели Бог не спасет его после векового пребывания в огне геенском? Святитель Иоанн Златоуст, толкуя приведенное место Св. Писания, пишет: «О, дерзновение праведника! Или – лучше – о, сострадательность души! Он, в избытке сострадательности, даже как бы сам не разумеет, что говорит. И божественное Писание, показывая, что он употребляет ходатайство свое с великим страхом и трепетом, говорит: "приближився Авраам рече: погубиши ли праведного с нечестивым"? Что ты делаешь, блаженный праотец? Разве Господь имеет нужду в твоем ходатайстве, чтобы не сделать этого? Но не будем так думать. И на самом деле Авраам не говорит так, как будто бы Господь действительно хотел это сделать; но не дерзая прямо говорить о своем племяннике, он приносит общую мольбу за всех, желая с прочими и его спасти, а с ним и других избавить (от погибели)»85. Рассуждая о сострадательности праведного праотца нашего Авраама, святитель Иоанн Златоуст не удерживается от восклицания: «Смотри, какая настойчивость в праведнике! Он так усердно заботится о том, чтобы избавить народ содомский от угрожающей ему казни, как будто сам должен был подвергнуться такому же осуждению»86. Святой Паисий Святогорец так говорит о сострадании: «В сострадании сокрыта любовь такой силы, что она больше обычной любви»87.
Невозможно представить, чтобы Бог не знал о том, что у некоторых спасаемых возникнет желание необыкновенным образом продлить «долготерпение любви», что они будут молить Его о «всеобщем восстановлении». С демонами, повторим, все понятно, и сомнение об их участи в вечности может возникнуть, чаще всего, или от их действия в сердце человека, или от увлечения Платоном, или от влияния древнегреческой философии вообще. Но вот с людьми… Раз уж праведный праотец наш Авраам проявил такого рода «долготерпение любви», такую дерзновенную сострадательность, то не удивительно, что и некоторые его духовные потомки склоняются к тому же. Любовь к ближнему и к Богу, как мы видим, дерзает терпеть сверх меры, она желает спасения всем людям. И Бог, вне всякого сомнения, не может проигнорировать это. Что же получается: любовь не представляет, что Бог не запланировал «всеобщее спасение» людей, но Господь и Бог наш Иисус Христос говорит прямо, что «всеобщего восстановления» не будет. И сомневаться в правдивости Его слов невозможно, что и закреплено соборным голосом Церкви. Вывод из этого, как видится, может быть один: апокатастасис, как мыслим его мы, люди, уже совершился. Как это может быть? Такое, думается, возможно только в одном случае: творение части ангелов – это «точка входа» в апокатастасис осужденных в геенну огненную людей, как бы вызволенных в прошествии определенного времени из ее огня. То есть некоторые ангелы являются прототипами людей, находящихся как бы в «точке входа» во «всеобщее восстановление».
Если это предположение верно, то после Страшного Суда спасенные увидят воочию это соответствие, и необходимости в повторении «попытки апокатастасиса» не будет: все вопросы «долготерпения любви» отпадут сразу же. Богу «проверка апокатастасисом» не нужна: Он знает все наперед. Она, «проверка апокатастасисом», нужна людской сострадательности. И любовь Бога к человеку, должно полагать, не может проигнорировать подобные настроения. Именно в этом, думается, и состоит одна из главных целей творения ангельского мира: часть ангелов (исключая, естественно, ангелов-хранителей) – это как бы «апокатастасис в действии». Но это всего лишь догадка, вытекающая не из «логики плотского ума», а из «логики любви». Конечно, в истории этого вопроса имеет место и явная ересь, как, например, в случае с Оригеном и оригенистами, плененными древнегреческой философией, одним из «догматов» которой является предсуществование душ. Но вместе с тем, как представляется, нужно видеть и необычайное «долготерпение любви», порожденное сострадательностью, в позиции «второй линии» святых отцов по вопросу «всеобщего восстановления». В связи со сказанным кажется недостаточно убедительным мнение, что святые отцы Пятого Вселенского Собора «прикрыли наготу» св. Григория Нисского, не упомянув его имени при исследовании вопроса об апокатастасисе. Гораздо основательнее, пожалуй, будет предположение, что они видели иной источник во мнении святого Григория.
Поразительное «долготерпение любви» имело место и в Новозаветной Церкви. Приведем два примера. Так, Апостол Павел, выражая чувство подобного «долготерпения любви», пишет: «…Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования» (Рим. 9:2-4). В таком же духе высказывается и преподобный Серафим Саровский, говоря об открытом ему Господом нечестии духовных лиц Русской Православной Церкви: «Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут далеко от Меня»88. Обратите внимание, Христос хотя и «не преклонился на просьбу», но и не осудил преподобного за его исключительное «долготерпение любви». «Причастникам божеского естества» (2 Пет. 1:4), вне всякого сомнения, будет в полной мере раскрыто то, почему муки геенны огненной вечные. И раскрыто так, что не останется никакой почвы для подобного «долготерпения любви» в отношении осужденных в геенну огненную. «Вторая линия» святых отцов, о которой говорит А. И. Осипов, – это, пожалуй, проявление невероятного «долготерпения любви», не имеющего никакого отношения к ереси Оригена, ибо источник «второй линии» в сострадательности праведных. В свою очередь, ересь Оригена об апокатастасисе не имеет ни малейшего отношения к рассматриваемому «долготерпению любви». Она целиком и полностью есть выражение «догмата» о предсуществовании душ языческого «богословия», то есть древнегреческой философии. Но вернемся к прерванной нити изложения.
III.3. Хилиазм русских философов
Рассматривая учение Сергия Булгакова о «Софии», Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергий (Страгородский) говорит: «В общем система Булгакова напоминает собою полуязыческие и полухристианские учения первых веков, гностиков и др. Тем более, что учение о Премудрости, о Логосе или о посредстве между Богом и тварным миром составляло основную проблему и гностиков. Приходя к христианству с остатками языческой философии, – продолжает митр. Сергий, – гностики не могли не столкнуться с церковным учением. Верная евангельскому слову: Бога никто не видел никогда (Ин. 1:18), Церковь не требовала: Покажи нам Отца (14:18), чтобы познать Его нашим земным познанием. Слава Божия в том, что Он есть Бог неизреченен, невидим, непостижим (евхаристическая молитва Литургии Св. Иоанна Златоуста). Откровение о Небесном Отце нельзя низводить на уровень обычной любознательности, – предупреждает митр. Сергий, – тем паче бесцеремонно переправлять его, мешая пшеницу с плевелами (Иер. 23:28-29). Для верующего – это святыня, к которой приблизиться можно только иззув сапоги (Исх. 3:5), очистив себя не только от греха, но и от всяких чувственных, вещественных образов (неприступный мрак в видении). Гностики же искали философского познания, а так как откровенное учение о Боге непостижимом не давало конкретного материала для их философских построений, то недостающее гностики заполняли воображением, придавая невидимому, безобразному бытию воображаемые чувственные образы. Получалась иногда грандиознейшая по размаху поэма, – замечает митр. Сергий, – поражающая глубиной и красотой. Но это была не истина, а воображение, "прелесть", обман и самообман (прельщающе и прельщаеми, 2 Тим. 3:13). Особая опасность этой прелести была в том, – подчеркивает митр. Сергий, – что она прикрывалась терминами и понятиями, заимствованными от Церкви. Нужна была осмотрительность, чтобы не увлечься красивым миражем и от "здравого учения" не уклониться в "суесловие" (1 Тим. 1:10; 6:10)…
Система Булгакова, – отмечает далее митр. Сергий, – создана тоже не только философской мыслью, но и творческим воображением. Это тоже есть поэма, увлекающая и высотой, и своим внешним видом: она оперирует терминами и понятиями, обычными в православной догматике, в Св. Писании, и под. Но вот вопрос: церковное ли содержание влагает Булгаков в эту новую форму? Может ли наша Православная Христова Церковь признать учение Булгакова своим учением?»89 – риторически вопрошает митр. Сергий. Здесь же митр. Сергий обращает внимание на то, что упоминания С. Булгаковым имен «Платона и Плотина довольно ясно показывают подлинную природу системы Булгакова», а «рассуждая о способе соединения в лице Господа Иисуса Христа двух естеств, Булгаков сознательно повторяет осужденную Церковью ересь, приписываемую Аполлинарию».
Владимир Лосский, продолжая тему соединения двух естеств у Сергия Булгакова, замечает: «Богочеловек для о. С. Булгакова не "сложная ипостась" двух природ, совершенный Бог и совершенный Человек в единстве личности, а нечто среднее – не Бог и не человек, носитель какой-то новой природы "Богочеловечества". Если Логос замещает человеческий дух во Христе, – продолжает Лосский, – то вся духовная жизнь человечества переносится в Божество, более того, становится внутренней трагедией Самой Пресвятой Троицы. Так, например, Гефсиманское борение приобретает значение какого-то трагического внутритроичного конфликта между Отцом и Логосом, оставленным Отцом, удаляющимся от Отца во мрак воспринятого на Себя греха. "Замена Голгофы Гефсиманией"… возможна для Б. только потому, – продолжает Лосский, – что у него страдает Сам Логос, и даже вся Св. Троица… Поэтому-то у Б. возможны и такие рельефные изображения "разрыва" во Св. Троице при страданиях. Поэтому и "предаде дух" (для Церкви – человеческий) Б. готов относить к Божеству Сына и даже говорить, что после этого "Божественная Троица снова смыкается в нераздельное единство"»90, – отмечает Владимир Лосский.
Неудивительно, в связи со сказанным, что хилиазм С. Булгакова приобретает черты еретического хилиазма Аполлинария Лаодикийского, который «вводил новое иудейство». Так в «Апокалипсисе Иоанна» С. Булгаков пишет: «Итак, тысячелетнее царство есть определенная эпоха в истории Церкви, которая имеет для себя начало и конец, и это находится в связи с событием в духовном мире, именно связанностью сатаны. Можно спросить себя еще, есть ли в других пророческих ветхо- и новозаветных предварениях нечто, что может и должно быть приведено в связь ее связанностью сатаны и наступлением тысячелетнего царства. По нашему мнению, – утверждает Булгаков, – на это может быть дан лишь один определенный ответ: здесь приходится вспомнить пророчество ап. Павла Рим. IX-XI о спасении всего Израиля и его обращении ко Христу. С одной стороны, совершенно недопустимо, чтобы перед лицом тысячелетнего царства святых оставалось еще упорствующее неверие Израиля, в бессилии пред совершением этого самого важного и последнего дела в истории. В то же время нельзя не признать, – продолжает Сергий Булгаков, – что именно обращенный Израиль вольет новую силу жизни в христианство, которая необходима для полноты его дела и истории. Само это обращение есть уже факт эсхатологический, знаменующий приближение истории к ее концу, и поэтому остается сблизить его по времени с наступлением тысячелетия или даже отождествить с ним. В Откровении мы не имеем указаний на это, но естественным является отнести окончательное наступление этого события именно к этому времени скования сатаны, хотя начаться в истории оно могло и раньше»91, – заканчивает свою мысль Сергий Булгаков.
Никто не спорит с тем, что это обращение евреев ко Христу будет, но вопрос вот в чем: когда оно будет, задолго до реального Второго Пришествия Христа или откроет его? Сергий Булгаков учил о том, что «тысячелетнее царство» откроется каким-то призрачным Пришествием Христа. Но ввиду этого положения учения Сергия Булгакова и нельзя серьезно говорить об обращении Израиля (евреев) ко Христу: речь может идти лишь о возвращении ко временам «закона и пророков». В другом месте С. Булгаков так пишет об этом «новом иудействе»: «Хотим ли мы того или не хотим, нравится ли нам это или не нравится, но таково пророчество и такова воля Божия…»92. Очень многозначительно это многоточие: из него можно вывести и «кровь козлюю и телчую и пепел юнчий», и прочие ветхозаветные установления. Вот таким образом еретический хилиазм Аполлинария был возрожден С. Булгаковым: одинаковые причины – «религиозный синкретизм», поклонение древнегреческим философам93 – привели к одинаковым следствиям.
Особенностью хилиастического учения русского философа Владимира Соловьева, продолжателем которого был С. Булгаков, является то, что оно не знает зла как личностного начала: «…У него такое странное нечувствие зла, до самых последних лет жизни. Его раннее мировоззрение с правом можно назвать "розовым христианством", это была очень благополучная утопия прогресса, – "христианство без Антихриста" (по остроумному выражению А. С. Волжского). Вся первая "система" Соловьева построена из предпосылок метафизического оптимизма. В его мировоззрении, странным образом, совсем не было трагических мотивов, несмотря на все его увлечение философским пессимизмом. Это метафизическое благодушие всего более определяется органическим мироощущением, – восприятием мира как «органического целого», в котором все соразмерено и сопринадлежно (срв. его учение о Мировой душе, близкое и к Шеллингу). И тогда весь мировой процесс, – продолжает автор цитаты, – есть развитие (кстати заметить, Соловьев был убежденным дарвинистом, не только трансформистом вообще). Зло, в восприятии Соловьева, есть только разлад, беспорядок, хаос. Иначе сказать, дезорганизованность бытия. Потому и преодоление зла сводится к реорганизации или просто организации мира. И это совершается уже силой самого естественного развития»94, – завершает свою мысль автор цитаты. К слову, не все исследователи согласны с тем, что «Краткая повесть об Антихристе», которая, как представляется, есть, по преимуществу, «художественная философия», знаменует собой какой-то новый период в творчестве Владимира Соловьева95.
Мы видим, что «религиозные синкретисты» рассматривают зло как только «разлад, беспорядок, хаос», и решают проблему зла при помощи «мирового хозяйства». Раз дух человечества божественный, мыслят новые аполлинариане, то все он может устроить: апокатастасис, преодолевая «разлад, беспорядок, хаос», трансформирует зло в добро. Только в такой системе возможен безбрежный экуменизм, только такая система требует «нового иудейства» как «идеального государства» Платона. И только такая система приветствует и жаждет «тысячелетия чувственных наслаждений» и «вечной женственности в Боге».
III.4. Идеологические зигзаги философии
Орест Новицкий был убежден в бесперспективности материализма, хотя и не отрицал его воздействия на развитие философской мысли. Но он не видел ни малейшей склонности русского народа к материализму и нужды в нём России даже для развития философской мысли. На этой почве у него возникло столкновение с Чернышевским. Последний в «Современнике» написал отзыв на первую часть работы Новицкого «Религия и Философия Древнего Востока». Надо признать, что отзыв необъективный, крайне придирчивый, клеветнический и желчный96. Новицкий, узнав об отзыве, среагировал на него, поместив ответ на отзыв в конце четвертой части своей книги «Религия и Философия Древнего Востока». Он сразу же разобрался, что имеет дело с материалистом, чувства которого были ущемлены тем, что он не помянул добрым словом материализм в своей работе и не оставил ему в будущем никаких шансов: «…Материализм в ходе развития философских учений всегда занимал самое последнее место… самой же исторической логикой он постоянно осуждался и отрицался, как самый неудовлетворительный способ человеческого мышления»97.
Новицкий, вероятнее всего, очень сильно переживал по поводу запрета преподавания философии в Российской Империи98, введенного в 1850 года и действовавшего 10 лет. Поводом к запрету стало стремительное распространение революционных настроений в России. Инициатор запрета министр просвещения князь Ширинский-Шихматов, как известно, так обосновывал необходимость данного решения: «Польза от философии не доказана, а вред от нее возможен». К моменту запрета профессор Новицкий преподавал философию в Киевском университете уже около 15 лет, и в связи с запретом вынужден был сменить род занятий, перейдя на менее престижную работу. Он вложил все свое мастерство, образованность, всю свою ненависть к материализму в ответ на рецензию Чернышевского. Его инвектива, исполненная духом «борьбы партий в философии», буквально дышит гневом, глубочайшим презрением и непримиримостью. Новицкий прямо заявляет, что «материализм есть психический недуг», а его носителей нужно принудительно перевоспитывать. «Русский материализм» ни малейшим образом не вписывался в его систему: «Между материализмом немецким в Германии и материализмом русским в России – велика разница: тот стоит на исторической почве народной жизни, этот – на почве чистой случайности; там материализм есть живой протест против заявленной уже крайности идеализма, у нас – пустое эхо; в Германии материализм в самой своей односторонности и неудовлетворительности носит вызов к дальнейшему движению Философии, к образованию новой системы, которая примиряла бы данные крайности, у нас – не заключая в себе ничего живого, взятого из исторической жизни народа, и потому оставаясь только при своей односторонности и немощи, есть только отрицание того, что составляет основание всякого благоустроенного общества – его веры и доброй нравственности, есть только призыв народной жизни назад, – к безверию в то, что есть наиболее святого для нее, к слепому эгоизму и обращению к грубой физической силе, словом – к временам полного варварства....»99.
Сегодня, с высоты прожитой истории, мы, если будем объективны, увидим, что не все так просто, как представлялось Оресту Марковичу Новицкому: во-первых, русский народ в значительной своей массе в следующем столетии на протяжении семидесяти с лишним лет был носителем материалистического мировоззрения; во-вторых, если идеалистическую греческую философию во все века знало лишь избранное меньшинство, то материалистическую изучали «широкие народные массы»; в-третьих, цивилизованный западный мир, несмотря на явное преобладание идеалистической философии, породил нацизм, фашизм, современный либерализм, для идеологии которых характерно полное отсутствие «веры и доброй нравственности»; в-четвертых, «добрая нравственность» продолжала существовать в России и в условиях материалистического сознания, что же касается веры, то она приняла форму «веры в коммунистическое будущее», которое рисовалось неким хилиастическим «царством небесным», возникающим в ходе «скачка из царства необходимости в царство свободы». Это был, как представляется, «русский ответ» на философскую проблему «теории и практики», «мысли и чувства»…
Если же рассматривать марксизм и марксистскую философию в рамках развития языческих верований и языческой философии, то, с определенными оговорками, их, как представляется, можно назвать, соответственно, «синкретической религией» и «синкретической философией». Христианство дало новый толчок к «развитию по спирали» философии и народных верований. Нельзя не заметить и нечто новое, что породили марксистская вера и марксистская философия: центр веры и философии был смещен в сторону ожидаемого «коммунистического общества», в котором стали видеть сверхъестественное «чувственное тысячелетнее царство». Представляется, что без христианства, без Церкви такого рода смещение было бы невозможно: христианское бытие во многом определило сознание нового народного верования.
Нельзя не увидеть в господстве материалистической философии в России Промысл Божий: марксизм, как представляется, не в последнюю очередь был попущен Богом для того, чтобы сокрушить кумира интеллектуального мира – Платона, который все больше и больше превращался в идола наиболее образованной части христиан. Здесь важно отметить, что атеизм марксистской философии сводил на нет её воздействие на богословие. Совсем другая ситуация имеет место, когда соединяются греческая философия и христианское богословие: «При обсуждении богословских вопросов философия является неустранимым предположением, хотя часто богословствующие не замечают, что они философствуют, и это отчасти является причиной осложнений богословских споров. Философия здесь является как общая точка зрения на богословские предметы, а потому и нелегко бывает усмотреть различие в ней по самой широте этого различия. Александрийцы примкнули к философии Платона, в Антиохии, по-видимому, более тяготели к философии Аристотеля»100.
Надо отметить, что «субъекты исторического процесса» догадывались о том, что философия оказывает определенное воздействие на христианское богословие в плане формирования богословских течений: «Основы всей этой доктрины хорошо разъяснены Иоанном Филопоном. Из его слов очевидно, что наряду с церковными монофизитскими факторами в этом споре сказалась общая причина, культурно-историческая, именно, поворот от философии Платона, которая до сих пор преобладала, к философии Аристотеля, и весь спор этот был anticipatio борьбы между реалистами и номиналистами на западе в XI веке. Как известно, по Платону, реально по преимуществу общее, по Аристотелю – частное»101.
Там, где преобладал Платон (Плотин), интеллектуальная среда, выдавливая Предание Церкви, склоняла богословов к амилленаризму, ни о каком земном царствовании Христа не могло быть и речи, поскольку человеческая природа Христа, Его воля становились «историческим воспоминанием». Поклонение Платону (Плотину) уводило богословие в монофизитство, в монофилитство. В случае поклонения «религиозному синкретизму», который, впрочем, всегда был связан и с Платоном в философском плане, преткновенные строки «реабилитировались», но в еретическом варианте.
Известно, что борьба с монофизитством продолжалась в Церкви около 200 лет. За это время императорская власть предпринимала неоднократные попытки соединить монофизитов с Церковью, одна из них закончилась появлением монофилитской ереси. Именно эта ересь, как представляется, обнажает корни неприятия святоотеческого «хилиазма»: человеческая природа Христа, согласно монофизитству, в лучшем случае пассивна, и, стало быть, делают вывод монофилиты, не имеет самостоятельной воли; две воли, в их представлении, ведут к двум лицам, к двум ипостасям. Вот как описывает эти догматические страхи монофизитов церковный историк Василий Болотов: «Воли во Христе коренятся в едином центре Его богочеловеческого самосознания (α') и в своем различии обнаруживаются лишь настолько, насколько это необходимо при неслитном единении двух естеств (различие при согласии = bc). Монофиситствующие утрировали это различие, доводя его до противоречия (продолжая линии до известных пунктов – de, между которыми расстояние было огромное (d противоположно е – противоречит е), с этих концов (от противоречивых воль = ϑελήματα) смотрели по направлению α' и раздвояли этот центр в β' и γ'), – из двух воль заключали к двум волящим = самосознающим = лицам»102, – замечает Василий Болотов. А раз человеческая природа Христа совершенно пассивна и не имеет своей воли, то и всякие мысли о святоотеческом «хилиазме», о земном Царстве Его представляются резко противоречащими такому учению. Нетрудно заметить, мягко говоря, снисходительное отношение к монофизиству со стороны императорской власти Византии, и дело, думается, не только в том, что монофизитскую ересь восприняли целые народы, что грозило, в случае активной борьбы с ней, распадом империи. Как представляется, не будет преувеличением утверждение, что борьба со святоотеческим «хилиазмом», который, по существу, был отрицанием монофизитства, имела сочувствие со стороны государственной власти: «вечный город» не нуждался в «тысячелетнем Царстве» Христа. Во всяком случае, без сомнения, не является случайностью то, что одним из яростных борцов со святоотеческим «хилиазмом» был Евсевий Памфил, обласканный императорской властью.
Пожалуй, можно говорить о том, что святоотеческий «хилиазм» был «нежелательной доктриной» в первую очередь для императорской власти, что и привело, в конце концов, к тому, что эту «доктрину» задвинули на задворки христианского учения. Императорский двор во все времена стягивал под свои знамена людей «с личным высоким интеллектуальным и образовательным уровнем», то есть не чуждых греческой философии, что и стало преградой, по нашему мнению, для принятия святоотеческого учения о преткновенных строках в Церкви, поскольку государственная власть в православной империи – это «главный теолог», без санкции которого, чаще всего, не решались богословские вопросы. Несомненно, что эту эстафету переняла и Российская Империя, где должность «главного богослова» стала государственной в синодальный период. И лишь после 1917 года, в связи с возрождением патриаршества, появилась возможность того, что святоотеческий взгляд на проблему «тысячелетия» вновь займет подобающее место в православном богословии.
Таким образом, можно говорить определенно, что преткновенные строки всегда отвергалась богословами, находящимися под сильным влиянием «философского синкретизма», то есть неоплатонизма. Крайняя степень этого отвержения – отказ от признания Апокалипсиса книгой Нового Завета, что было широко распространено в III и IV веках в Церкви. Напротив, богословский лагерь, более подверженный влиянию «религиозного синкретизма», то есть гностицизма, уклонялся в хилиастическую ересь, в исповедование мира без антихриста и «тысячелетнего Царства» без Христа. Ориген, который, судя по всему, дышал и тем и другим, признав Апокалипсис, аллегорическим толкованием связал пророческий дух преткновенных строк, что затем вполне устроило богословов, преданных неоплатонизму. Аллегорический метод был использован и блж. Августином в целях икономии, дабы нейтрализовать распространение еретического хилиазма. В связи с вышесказанным, становится понятным «исчезновение» святоотеческого «хилиазма» после Миланского эдикта и появление его после крушения последней православной империи: с 313 года учение Церкви по этому вопросу удерживалось под спудом «государственным богословием», а после 1917 года, когда последнее было упразднено, – оно (учение) «явилось» из-под спуда. Что касается Западной части Церкви, а затем католичества, то здесь, как видится, процессы протекали схожим образом, правда в качестве «государственного богословия» вначале выступала тенденция «кафедры Апостола Петра» к доминированию не только над поместными церквами, но и над государством, а затем – «царская корона» «догмата о непогрешимости».




