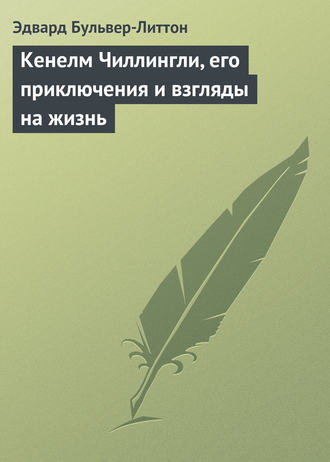
Эдвард Бульвер-Литтон
Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь
Глава XX
Когда в этот вечер Кенелм поднимался в свою комнату, он остановился на площадке перед портретом, который хозяин дома осудил на печальное изгнание. Эта дочь вымершего и опозоренного рода могла быть гордостью дома, в который вошла невестой. Лицо, поразительно прекрасное, было по своим чертам в высшей степени патрицианским. В нем сочеталось выражение кротости и скромности, не часто встречающееся в портретах сэра Питера Лели, а в глазах и улыбке удивительное отражение невинного счастья.
«Какое наглядное предостережение против честолюбия, которое прелестная представительница более позднего поколения могла бы пробудить во мне, являешь ты собою, о пленительный образ! – рассуждал про себя Кенелм, обращаясь к портрету. – Сколько десятилетий это полотно хранило твою красоту на радость и гордость всему роду. Владелец за владельцем говорил восхищенным гостям: „Да, прекрасный портрет, кисти Лели. Она была моей прабабушкой Флитвуд из Флитвуда“. Теперь же, чтобы гости не вспомнили, что один из Трэверсов некогда сочетался браком с девушкой из рода Флитвудов, тебя скрыли от глаз людских; даже кисть Лели не может придать тебе цену, спасти невинную от осуждения. Последний из Флитвудов, без сомнения самый честолюбивый из них, наиболее стремившийся восстановить и вновь позолотить древнее знатное имя, умер мошенником; позор одного живого человека так ужасен, что может обесславить умерших».
Кенелм отвел глаза от улыбающегося портрета и вошел в свою комнату. Сев за письменный стол, он придвинул к себе бювар и почтовую бумагу, взялся за перо, но, вместо того чтобы писать, глубоко задумался. Лоб его был слегка нахмурен, что случалось редко. Он был очень недоволен.
«Кенелм, – начал он обычные рассуждения с самим собою, – очень тебе пристало, нечего сказать, разглагольствовать о чести родов, которые не имеют никакой связи с твоим! Сын сэра Питера Чиллингли, оглянись на себя. Вполне ли ты уверен, что ничего не сказал и не сделал или взглядом не вызвал чего-нибудь способного внести горе в дом, где тебе оказывают гостеприимство? Какое право имел ты эгоистично ныть, не думая, что слова твои воспринимаются сострадательными ушами и что подобные слова, услышанные девушкой при лунном свете, могут возбудить в ней жалость и нарушить ее спокойствие? Стыдись, Кенелм! Стыдись! И это – зная планы ее отца и зная в придачу, что ты не можешь оправдываться желанием завоевать любовь этого прелестного создания. Что ж ты делаешь, Кенелм? Я тебя не слышу – выскажись! О, я самонадеянный фат, вообразивший, что понравился ей. Да, как иначе меня назвать? Искренне надеюсь, что все это-плод моего воображения. Одно утешительно: не было и, должно быть, не будет уже времени для большой беды. Завтра, Кенелм, мы уедем. Соберись и уложись, напиши письма и потом потуши свечу, потуши свечу!»
Но этот оратор, обращавшийся к собственной особе, не сразу принялся за дело, как было решено его двумя я. Он встал и беспокойно заходил по комнате взад и вперед, то и дело останавливаясь перед портретами на стенах.
Некоторые из них, худшей работы, были обречены висеть в комнате, занимаемой Кенелмом. Эту самую старинную и обширную из спален в доме всегда отводили холостому гостю, потому что в ней не было большого зеркала; к тому же она находилась далеко от главных комнат, и вела к ней только небольшая лестница, выходившая на площадку, куда изгнана была Арабелла; другой причиной была молва, будто в этой комнате водится нечистая сила, а дамы, по общему мнению, более склонны к суеверному страху, чем мужчины. Портреты перед которыми останавливался Кенелм, были разных эпох: от царствования Елизаветы до Георга III[135]; ни один из них не принадлежал кисти знаменитого художника, ни один не изображал предка, оставившего имя в истории, – словом, это были портреты, какие часто встречаются в поместьях сквайров хорошего рода. В чертах и выражении лиц на всех этих портретах преобладал один фамильный тип – черты резкие и смелые, выражение открытое и честное. И хотя никто из этих отошедших в иной мир не заслужил славы, каждый из них просто и непритязательно внес лепту в события своего времени.
Этот достойный Трэверс в брызжах и латах выставил на собственный счет корабль с командой против армады[136]. Он никогда не был вознагражден бережливым Берли[137] за потери и убытки, которые весьма сократили его родовое наследство, и не был даже возведен в рыцарское достоинство. Вон тот джентльмен с короткими прямыми волосами, падающими на лоб, который одной рукой опирается на саблю, а в другой держит открытую книгу, был представителем своего графства в Долгом парламенте[138], сражался под предводительством Кромвеля на Марстон-муре[139], и, восстав против протектора, когда тот отбросил «погремушку»[140], оказался в числе патриотов, засаженных в «Адскую яму». Он тоже сократил свое родовое наследие тем, что содержал на свой счет двух кавалеристов и двух лошадей. Единственной его наградой была «Адская яма»[141]. Третий, с гладким лицом и в большом парике, процветал в мирное время царствования Карла II, был всего только мировым судьею, но живость его взгляда заставляла предполагать в нем весьма дельного судью. Он не увеличил и не уменьшил своего родового имения. Четвертый, в костюме эпохи царствования Вильгельма III[142], несколько прикопил к наследью отцов, избрав карьеру юриста. Должно быть, он в ней преуспел. Под портретом стояло: «доктор прав». Пятый, молодой офицер, был убит под Бленхеймом[143]. На портрете, написанном за год до его смерти, он был очень красив. Портрет жены его висел в гостиной, так как был работы Неллера[144]. Она тоже была хороша собой и после смерти мужа вышла вторично за дворянина, портрет которого, разумеется, не находился в семейной коллекции. Дальше хронологический порядок несколько нарушался, так как наследник офицера был еще ребенком. Но в эпоху Георга II другой Трэверс оказался губернатором Вест-Индской колонии. Сын его принимал участие в совершенно противоположном движении века. Он был изображен беловолосым старцем почтенного вида, внизу стояла подпись: «последователь Уэсли[145]». Его наследник завершал собрание. Он был написан во весь рост, в морском мундире и с деревянной ногой. В качестве капитана королевского флота он, как гласила надпись, «сражался под командою Нельсона[146] при Трафальгаре». Этому портрету было бы отведено почетное место в гостиной, если б лицо не было отталкивающе безобразным, а сама живопись просто безвкусной мазней.
«Понимаю, – вдруг сказал себе Кенелм, – почему Сесилия Трэверс приучена видеть во всем служение долгу. Все эти люди минувших времен, по-видимому, только для того и жили, чтобы исполнять свой долг, а не участвовать в погоне за денежным мешком – кроме одного, но тот ведь был адвокатом. Кенелм, будь внимателен и выслушай меня: какими бы мы ни были, деятельными или ленивыми, разве не верно и не справедливо мое любимое изречение: „хороший человек приносит пользу уже тем, что живет на свете“? Однако для этого ему необходимо быть аккордом, а не диссонансом. Кенелм, ленивец, нам надо укладываться».
Он упаковал чемодан, приклеил к нему билет с адресом Эксмондема и написал следующие три письма:
«Письмо первое
Маркизе Гленэлвон
Дорогой друг и наставница! Ваше последнее письмо я целый месяц оставлял без ответа. Я не принял Вашего поздравления по поводу достижения мною двадцати одного года. Подобное событие – лживая условность, а Вам известно, как ненавистны мне ложь и все условное. Говоря по правде, я или гораздо моложе двадцати одного года, или гораздо старше.
Что касается планов, направленных против моего спокойствия, то есть намерения избрать меня депутатом от нашего графства на будущих выборах, то я хотел их разрушить и своего добился. Теперь же я предпринял продолжительное путешествие. Сначала я думал ограничиться одною родиной. Но намерения меняются. Я еду за границу. Я сообщу Вам о своем местопребывании. Теперь я пишу из дома Леопольда Трэверса, Вашего родственника – как я слышал от его прелестной дочери, – человека, в высшей степени достойного уважения и горячей дружбы.
Нет, несмотря на все Ваши лестные предсказания, я никогда в жизни не буду представлять собой ничего более замечательного, чем теперь.
Позвольте мне, леди Гленэлвон, остаться Вашим благодарным другом.
К. Ч.»
Письмо второе
«Любезный кузен Майверс, я еду за границу. Мне могут понадобиться деньги, так как для возбуждения во мне „движущей силы“ я постараюсь в них нуждаться. Когда я был мальчиком лет шестнадцати, Вы предлагали мне писать для „Лондонца“ и нападать на маститых авторов. Заплатите ли Вы мне теперь за подобную же демонстрацию великой новой идеи нашего поколения – утверждающей: „чем меньше человеку известно о предмете, тем он лучше его понимает“? Я намерен путешествовать по странам, которых никогда не видел, и среди народов, вовсе мне незнакомых. Мои свободные суждения о тех и других, сообщаемые корреспондентом, который разделяет Ваше уважение к анониму и никогда не откроет своего имени, должны быть неоценимы для „Лондонца“. Адресуйте Ваш ответ в Кале, до востребования.
Искренне Ваш К. Ч.»
Письмо третье
«Дорогой отец! Я получил твое письмо. Прости, что пишу второпях. Я уезжаю завтра за границу и сообщу о себе из Кале.
Я в восхищении от Леопольда Трэверса. Как развито чувство равновесия в этом истинно английском джентльмене. Подбрасывайте его вверх, кидайте вниз, как хотите, – он всегда станет на ноги – джентльменом. У Трэверса единственная дочь, которую зовут Сесилия, достаточно хорошенькая, чтобы соблазнить на брак любого смертного, еще не убежденного Децимусом Роучем, что именно в безбрачии заключается настоящее „приближение к ангелам“. К тому же еще, она девушка, с которою можно вести беседу. Даже ты мог бы беседовать с нею. Трэверс желает, чтоб она вышла за джентльмена, вполне, как говорится, „подходящего“, достойного всякого уважения, красивого и многообещающего. Если это сбудется, она станет наравне с образцом совершенства среди утонченных представительниц слабого пола – леди Гленэлвон. Отсылаю назад мой чемодан. Я порядком порастряс свой кошелек на приобретение опыта, но еще не вышел за пределы моего месячного содержания. Я намерен и впредь ограничиться им одним; если же понадобится, то заработаю деньги в поте лица или потугами мозга. В случае какой-нибудь особой потребности в экстренных фондах, например, для оказания ближнему истинной помощи, и при уверенности, что и ты оказал бы ее, – мне придется выписать чек на твоего банкира. Но пойми, что это будет твой расход, а не мой, и именно тебе воздадут за него на небесах. Дорогой отец, я люблю и уважаю тебя с каждым днем все больше! Обещаю не делать предложения никакой молодой особе, не посоветовавшись предварительно с тобой. О дорогой мой отец, как мог ты в этом сомневаться! Как мог ты подумать, что я способен быть счастливым с женою, которую ты не любил бы как дочь? Я свято сдержу свое обещание. Но мне жаль, что ты не потребовал от меня такого послушания, которое было бы более трудным испытанием чувства долга. Я не мог бы повиноваться тебе охотнее, если б ты потребовал от меня никогда не делать предложения никакой девушке. Если б ты посчитал нужным, чтобы я отказался от достоинства разума ради безумия страсти или от свободы человека ради рабства мужа, я и тогда постарался бы исполнить невозможное, но поплатился бы жизнью за такое усилие, и ты познал бы угрызения совести, которые посещают даже тиранов.
Твой любящий сын К. Ч.»
Глава XXI
На следующее утро Кенелм удивил общество, собравшееся за завтраком, явившись в том грубом костюме, в котором он познакомился со своим хозяином. Сообщая о своем отъезде, он не глядел на Сесилию, но глаза его остановились на миссис Кэмпион, и он улыбнулся, может быть несколько грустно, увидев, как просияло ее лицо, и услыхав, как она вздохнула с облегчением. Трэверс уговаривал его погостить еще несколько дней, но Кенелм оставался тверд в своем намерении.
– Лето проходит, – сказал он, – а мне еще надо побывать в отдаленных отсюда краях, прежде чем увянут цветы и выпадет снег. На третью ночь я буду спать уже на чужой земле.
– Так вы отправляетесь за границу? – спросила миссис Кэмпион.
– Да.
– Какое внезапное решение, мистер Чиллингли! Еще на днях вы говорили, что хотите посетить шотландские озера.
– Это правда, но я рассудил, что там будет полно туристов, среди которых, вероятно, окажется немало знакомых. За границей же я буду свободен, потому что там меня никто не знает.
– Можно предполагать, что вы вернетесь к охотничьему сезону?
– Не думаю, я не охочусь на лисиц.
– Во всяком случае, мы, вероятно, встретимся в Лондоне, – сказал Трэверс. – Я полагаю, что после продолжительной сельской жизни сезон или два в шумной столице окажутся полезной переменой и для души и для тела. Сесилии уже пора представиться ко двору, а ее придворному костюму – быть упомянутым на столбцах «Морнинг пост».
Сесилия, по-видимому, так хлопотала около чайника, что не обращала ни малейшего внимания на толки о своем выезде в свет.
– Ужасно скучно будет мне без вас! – с искренним жаром вскричал через минуту Трэверс. – Вы меня так взбудоражили. Ваши своеобразные афоризмы будут звучать у меня в ушах еще долго после вашего отъезда.
Послышался шелест женского платья за чайником.
– Сисси, – промолвила миссис Кэмпион, – ты нальешь, наконец, нам чаю?
– Прошу прощения, – ответила Сесилия. – Я слышу, на лугу визжит Помпей. Заперли дверь, и он не может войти. Я сейчас вернусь.
Сесилия встала и ушла; Миссис Кэмпион заняла ее место за чайным прибором.
– Удивительно, Сесилия так любит эту уродливую собаку, – сердито сказал Трэверс.
– Уродство и составляет ее красоту, – смеясь, возразила миссис Кэмпион. – Мистер Бельвуар выбрал эту собаку за то, что у нее самая длинная спина и самые короткие ноги, какие можно было найти в Шотландия.
– А! Ее подарил Джордж, я забыл, – сказал Трэверс, приятно улыбаясь.
Прошло несколько минут, прежде чем мисс Трэверс возвратилась со своим терьером, и, по-видимому, вместе с этим новым украшением общества к ней вернулась прежняя веселость – она заговорила живо, щеки ее разгорелись. Можно было подумать, что она чем-то возбуждена.
Но когда полчаса спустя Кенелм у дверей холла стал прощаться с ней и с миссис Кэмпион, румянец у Сесилии исчез, губы сжались и прощальных слов нельзя было расслышать. Потом, когда фигуры Кенелма и ее отца, пожелавшего проводить гостя до ворот парка, мелькнули на лугу и исчезли среди деревьев, миссис Кэмпион обвила рукой стан Сесилии и поцеловала ее. Сесилия вздрогнула и с улыбкой взглянула на своего друга, но за этой улыбкой скрывались слезы.
– Благодарю, дорогая, – кротко сказала она и, выскользнув в цветник, постояла немного у той калитки, которую Кенелм отворял накануне. Затем она медленно поднялась по зеленым склонам к развалинам приорства.
Книга четвертая
Глава I
Прошло несколько более полутора лет с тех пор, как Кенелм Чиллингли оставил Англию. Действие переносится теперь в Лондон, в то раннее и более располагающее к дружескому общению время года, которое предшествует празднику пасхи; в то время года, когда прелесть умной беседы еще не увяла в жаркой атмосфере многолюдных комнат; в то время года, когда собираются небольшими интимными кружками и разговоры ведутся, совсем непохожие на пустую болтовню соседей за обедом; в то время года, когда вы можете найти самых горячих ваших друзей еще не захваченными водоворотом холодных встреч.
Было так называемое суарэ в доме одного из тех знатных вигов, которые еще сохранили тонкое умение собирать около себя приятных людей, создавая круг подлинных аристократов, круг, объединяющий деятелей литературы, искусства и науки с носителями наследственных званий и высокого общественного и политического положения, – то умение, которое составляло счастливую тайну Лэнсдайнов и Холлендов[147] предшествовавшего поколения. Сам хозяин, лорд Бомануар, был приветливый, начитанный человек, знаток искусства и приятный собеседник. У него была очаровательная жена, преданная ему и детям, но любившая успех в обществе и настолько популярная в модном свете, как если бы она искала в его развлечениях прибежища от скуки домашней жизни.
Среди гостей Бомануаров в тот вечер было двое мужчин, сидевших в небольшой комнате и дружески беседовавших. Одному могло быть года пятьдесят четыре; он был высок, крепкого сложения, но не толст, несколько плешив, с черными бровями, темными блестящими проницательными глазами и подвижными губами, на которых играла умная, иногда саркастическая улыбка. Это был Джерард Дэнверс, влиятельный член парламента, Он еще в ранней молодости занимал высокий пост, но отчасти из отвращения к повседневной административной работе, отчасти из гордости, препятствовавшей ему, рядовому члену кабинета, подчиняться премьер-министру, отчасти же из-за присущей ему эпикурейской философии искал в жизни лишь удовольствий, весьма мало ценил почести и упорно отказывался занять какую-либо должность. В палате этот скептический человек выступал в самых редких случаях. Но когда говорил, оказывал на слушателей необычайное влияние и своими лаконически высказываемыми взглядами собирал больше голосов, чем многие гораздо более красноречивые ораторы.
Несмотря на недостаток честолюбия, он по-своему любил власть, власть над людьми, имеющими власть, и в склонности к политическим интригам находил развлечение для своего весьма тонкого и деятельного ума. В данный момент он занимался подбором нового состава предводителей различных фракций одной и той же партии, из которой следовало уйти на покой некоторым ветеранам, чтобы их места могли занять люди помоложе. Одну из приятных черт его характера составляла симпатия к молодым; он помог вступить в парламент и министерство некоторым самым способным людям молодого поколения. Он подавал им разумные советы, радовался, когда они преуспевали, ободрял их, когда им не везло, но всегда только в том случае, когда у них было достаточно способностей, чтобы преодолеть неудачу. Если же он убеждался в отсутствии способностей у своих молодых протеже, то незаметно уклонялся от близости с ними, продолжая поддерживать достаточно дружелюбные отношения для того, чтобы иметь возможность в нужный час рассчитывать на их голоса.
Джентльмен, с которым он теперь разговаривал, был молод, лет двадцати пяти, – еще не член парламента, но с сильным желанием быть избранным и с той репутацией, которую юноша уносит из школы и колледжа, опираясь не на почести чисто академические, а на то впечатление одаренности и силы воли, которое он производил на своих сверстников и даже старших.
В университете он, помимо того, что получил хороший диплом, ничем особенным себя не проявил, но снискал славу чрезвычайно находчивого и ловкого оратора. Окончив колледж, он написал две-три политические статьи, наделавшие шума, и хотя не имел никакой профессии и обладал лишь небольшим, хотя и независимым, доходом, общество относилось к нему благосклонно, как к человеку, который когда-нибудь достигнет положения, позволяющего вредить своим врагам и быть полезным друзьям.
Что-то в лице и осанке молодого человека подтверждало веру в его способности и будущий успех. Его лицо не было красивым, а осанка изящной. Но в нем чувствовалась сила, энергия, смелость. Лоб широкий, хотя низкий и выпуклый над бровями, обнаруживал способность к пониманию и суждению, что весьма полезно в повседневной жизни; глаза типично английские светло-голубого оттенка, маленькие, немного впалые, зоркие, проницательные; длинная, прямая верхняя губа, свидетельствовавшая о решительности и упорстве в достижении цели; рот, в котором физиономист нашел бы опасное очарование. Улыбка пленительная, но искусственная, создававшая ямочки на щеках, обнажавшая зубы, мелкие, белые и крепкие, но редкие. Эта улыбка казалась откровенной и чистосердечной всем тем, кто не замечал, что она не гармонировала с мрачными складками на лбу и холодными, как сталь, глазами, да и вообще не вязалась с выражением лица, как нечто обособленное от него и неискреннее. Крепкий затылок говорил о той физической силе, которая присуща людям, пролагающим себе путь в жизни, – силе воинственной, разрушительной. Все гладиаторы обладали ею, равно как искусные спорщики и великие преобразователи – вернее, те преобразователи, которые способны разрушать, но не созидать. При всем этом в манере молодого человека была какая-то смелая уверенность в себе, такая искренняя и непринужденная, что злейший его враг не мог бы назвать ее самонадеянной. Это была манера человека, умеющего поддержать свое достоинство, не показывая вида, что это стоит ему усилий; манера, не раболепная перед великими, не надменная перед малыми, быть может напускная, но не вульгарная – вообще такая, что нравится людям.
Комната, где сидели мужчины, отделялась от анфилады парадных комнат передней и площадкой лестницы. Она служила будуаром леди Бомануар, была очень уютна, с простыми ситцевыми драпировками. Стены украшены акварелями, вокруг стояли драгоценные образцы китайского фарфора на изящных подставках из паросского мрамора. В одном углу, у двери, обращенной на юг, открывавшейся на обширный застекленный балкон, наполненный цветами, расположились те высокие ширмы с трельяжем, изобретенные, кажется, в Вене, по которым плющ вьется так густо, что образуется как бы беседка.
Этот уголок, совершенно скрытый от остальной комнаты, был любимым местом хозяйки. Двое мужчин, сидя возле ширм, и не подозревали, что за ними кто-нибудь может скрываться.
– Итак, – заметил Дэнверс, – кажется, скоро станет вакантным место депутата от Сэксборо. Милрой хочет получить губернаторство в колониях, и если удастся реорганизовать кабинет так, как я предлагаю, он получит этот пост. Таким образом, место депутата от Сэксборо окажется свободным. Но, мой милый, это место можно завоевать только при помощи любви и денег. Оно требует от кандидата двух сортов либерализма, которые редко встречаются вместе: либерализма в мыслях, каковой весьма естествен в бедном молодом человеке, и либерализма в расходах, которого можно ожидать только от очень богатого. Вы можете заранее готовить три тысячи фунтов, чтобы получить это место и еще около двух тысяч фунтов, чтобы защитить его от опротестования: побежденные кандидаты почти всегда прибегают к обжалованию выборов. Пять тысяч – сумма большая, и хуже всего то, что те крайние мнения, которые должен высказывать депутат от Сэксборо, очень мешают его карьере на государственной службе. Слишком пылкие политики – не совсем подходящий материал для должностных лиц.
– Не так существенны мнения, как издержки. Я не могу истратить не только пяти тысяч, но даже трех.
– Не поможет ли вам сэр Питер? Вы говорите, что у него единственный сын, и если с этим сыном что-нибудь случится, вы – ближайший наследник.
– Мой отец поссорился с сэром Питером и завел против него вздорную и безобразную тяжбу. Не думаю, чтобы я мог обратиться к дяде за деньгами, для того чтобы получить место в парламенте на скамьях демократов. Мне малоизвестны его политические убеждения, но я предполагаю, что сельский джентльмен старинной фамилии, имеющий десять тысяч фунтов годового дохода, не может быть демократом.
– Стало быть, вы тоже не будете демократом, если вдруг из-за смерти кузена сделаетесь наследником Чиллингли?
– Я сам не знаю, что может произойти в таком случае. Бывают времена, когда демократ хорошего происхождения и с прекрасным поместьем может занять очень высокое место в среде аристократии.
– Гм, любезный Гордон, vous irez loin![148]
– Надеюсь. Сравнивая себя с другими людьми моего времени, я вижу не многих, которые могли бы быть мне равными.
– Что представляет собой ваш кузен – Кенелм? Я встречал его раза два, когда он был еще очень молод и воспитывался под руководством Уэлби в Лондоне. Тогда говорили, что он очень умен, мне же он показался большим чудаком.
– Я никогда его не видал. Но, судя по всему, мудрец он или чудак, Чиллингли вряд ли достигнет чего-нибудь в жизни – это мечтатель.
– Пишет стихи, должно быть?
– Полагаю, способен и на это.
Тут в комнату вошло еще несколько гостей и среди них дама, наружности необыкновенно изысканной и привлекательной – несколько выше среднего роста и с каким-то неуловимым благородством в лице и осанке. Леди Гленэлвон была одной из цариц лондонского света, я ни одна из них не была бы менее суетной или более царственной.
Рядом с этой дамой шел Майверс Чиллингли. Гордон и Майверс дружелюбно кивнули друг другу. Первый вышел и вскоре затерялся в толпе других молодых людей, в среде которых он пользовался популярностью, так как хорошо и легко говорил о предметах, их занимавших. Впрочем, это не сближало его с ними до подлинной дружбы.
Дэнверс ушел в угол соседней комнаты, где стал угощать французского посла своими воззрениями на положение Европы и реорганизацию министерства вообще.
– Уверены ли вы, – обратилась леди Гленэлвон к Майверсу, – что мой старый и юный друг Кенелм здесь? Я тщетно искала его везде; мне было бы так приятно опять встретить Кенелма.
– Я видел его мельком полчаса назад, но, прежде чем мне удалось ускользнуть от геолога, который надоедал мне разговорами о силурийской системе[149], Кенелм исчез.
– Может быть, это был его призрак?
– Конечно, мы живем в самом легковерном и суеверном веке, и множество людей уверяют меня, что они разговаривали с духами умерших, которые сидели под столиком. Поэтому с моей стороны было бы дерзко сказать, что я не верю в привидения.
– Расскажите мне об этих загадочных историях с вертящимися столиками, сказала леди Гленэлвон, – вот здесь, за этим трельяжем есть очаровательный уголок.
Но не успела она войти туда, как отступила с испугом и восклицанием изумления. Там за столом сидел молодой человек, опершись подбородком на руку и склонив в рассеянной задумчивости голову. Так неподвижна была его поза, так спокойно и грустно его выражение лица, так чужд он был всему этому пестрому, но блистательному скоплению людей, которое кружило около созданного им для себя уединения, что его можно было бы принять за одного из тех посетителей из иного мира, чьи тайны хотела постичь вторгшаяся к нему дама. Присутствия ее он, очевидно, не заметил. Оправившись от изумления, она подошла к нему, положила руку на плечо и тихим, кротким голосом произнесла: «Кенелм.»
Чиллингли поднял глаза.
– Вы меня не помните? – спросила леди Гленэлвон.
Прежде чем он успел ответить, вмешался Майверс, последовавший за маркизой в нишу.
– Дорогой Кенелм, как поживаете? Когда вы приехали в Лондон? Почему вы не были у меня? И чего ради вы прячетесь здесь?
К Кенелму теперь вернулось самообладание, которого он редко лишался надолго в присутствии других. Он дружелюбно ответил на приветствие родственника и поцеловал со своей обычной рыцарской любезностью прекрасную руку, которую маркиза сняла с его плеча и протянула для пожатия.
– Помню вас прекрасно, – сказал он леди Гленэлвон с добрым выражением в нежных темных глазах, – я еще не настолько приблизился к полудню жизни, чтобы забыть солнечный свет, озарявший ее утро. Любезный Майверс, на ваши вопросы ответить легко. Я приехал в Англию две недели назад, потом жил в Эксмондеме, сегодня обедал у лорда Тэтфорда, с которым познакомился за границей, и он уговорил меня приехать сюда и представиться его отцу и матери, Бомануарам. После этой церемонии зрелище такого множества незнакомых лиц напугало меня. Войдя в эту комнату, когда она была пуста, я решил пожить здесь пустынником за ширмами.
– Вы должны были увидеть здесь вашего кузена Гордона.
– Вы забываете, что я его не знаю. Впрочем, в комнате, когда я вошел, никого не было. Несколько позднее я услышал какое-то жужжание, похожее на шепот. Однако я не подслушивал, как это делают на сцене люди, прячась за ширмами.
Это была правда. Даже если бы Гордон и Дэнверс разговаривали громко, Кенелм был настолько погружен в свои мысли, что не расслышал бы ни слова.
– Вы должны познакомиться с молодым Гордоном, он очень умный малый и метит в парламент. Надеюсь, что старая семейная ссора между его грубияном отцом и милым сэром Питером не помешает вам познакомиться с ним.
– Сэр Питер готов всякого простить, но он не простят мне, если я откажусь познакомиться с кузеном, который никогда его не оскорблял.
– Прекрасно сказано! Приезжайте ко мне завтра к десяти утра, и я вас познакомлю с Гордоном. Я все еще на старой квартире.
Пока родственники разговаривали, леди Гленэлвон присела на кушетку возле Кенелма и стала спокойно рассматривать его. Потом она заговорила!
– Любезный мистер Майверс, у вас будет много случаев побеседовать с Кенелмом, не лишайте же меня теперь пятиминутного разговора с ним.
– Оставляю вас здесь, миледи, в келье отшельника. Как все мужчины на этом вечере позавидуют ему!







