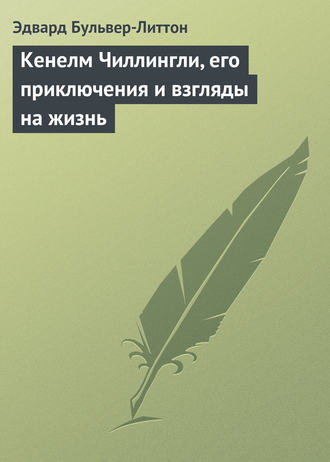
Эдвард Бульвер-Литтон
Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь
Глава II
– Я рада, что опять вижу вас в свете, – сказала леди Гленэлвон, – и надеюсь, что вы приготовились теперь играть в нем роль, которая не будет незначительной, если вы отдадите должное своему дарованию и характеру.
Кенелм. Когда вы бываете в театре и видите модную пьесу, кем предпочли бы вы быть, актрисой или зрительницей?
Леди Гленэлвон. Мой милый юный друг, ваш вопрос огорчает меня. (После некоторого молчания.) Но хотя я воспользовалась языком сцены, когда выразила надежду, что вы «сыграете в свете не последнюю роль», свет – не театр. Жизнь не признает зрителей. Говорите со мной откровенно, как бывало. Ваше лицо сохранило прежнее меланхолическое выражение. Разве вы несчастливы?
Кенелм. Я должен быть счастлив, насколько могут быть счастливы смертные. Не считаю, что я несчастлив. Если мой характер меланхоличен, то меланхолия заключает в себе свое особое счастье. Мильтон доказывает, что в жизни можно найти столько же приятного на стороне «Penseroso»[150], как и на стороне «Allegro»[151][152].
Леди Гленэлвон. Кенелм, вы спасли жизнь моему бедному сыну, а когда позднее небо взяло его от меня, мне казалось, что он завещал мне заботиться о вас. Когда шестнадцати лет, в возрасте мальчика и с сердцем мужчины, вы приехали в Лондон, не старалась ли я заменить вам мать? И разве вы не говорили, что могли бы поверить мне тайны своего сердца скорее, чем другим?
– Вы были для меня, – с волнением сказал Кенелм, – тем неоценимым добрым гением, какого юноша может найти на пороге жизни, – женщиной кроткой и благоразумной, ласковой и сочувствующей, ограждающей его зрелищем ее собственной чистоты от всяких грубых заблуждений, удаляющей его от всяких низких наклонностей и целей невыразимой возвышенностью души, отличающей только самых благородных женщин. Послушайте, я опять открою вам сердце. Я боюсь, что оно еще капризнее прежнего. Оно все еще чуждается общества и интересов, естественных для моих лет и моего положения. Однако я старался укрепить и закалить себя для практических целей путешествиями и приключениями, по большей части среди более простых людей, чем те, которых мы встречаем в гостиных. Теперь, повинуясь желанию моего, милого отца, я вернулся к обществу, в которое под вашим покровительством вступил в юности и которое даже тогда показалось мне таким пустым и неискренним. Вы желаете, чтобы я играл роль в этих кругах. Мой ответ будет краток. Я прилагал все силы, чтобы развить в себе «движущую силу», и мне это не удалось. Я не вижу, во имя чего мне стоило бы бороться, чего стоило бы достигнуть. Время, в которое мы живем, для меня, как и для Гамлета, вывихнутое[153], но я не родился Гамлетом, чтобы его вправить. Ах! Если бы я мог смотреть на общество сквозь розовые очки, в которые бедный идальго в «Жиль Бласе» смотрел на свой скудный обед, – те очки, сквозь которые вишня кажется величиной с персик, а синица – величиной с индейку. Воображение, которое необходимо для честолюбия, все преувеличивает.
– Я знала многих людей, теперь знаменитых и очень деятельных, которые в ваши лета чувствовали такое же отчуждение от практических целей, свойственных всем остальным людям.
– А что же примирило этих людей с подобными целями?
– Меньшее противопоставление себя как отдельной личности другим, то бессознательное слияние своего существа с другим, которое связано с домашним очагом и Ираком.
– Против домашнего очага я не возражаю, но я против брака.
– Поверьте, для мужчин нет домашнего очага там, где нет женщины.
– Очень мило сказано, в таком случае я отказываюсь от домашнего очага.
– Неужели вы серьезно хотите сказать, что никогда не встречали женщины, которую могли бы полюбить настолько, чтобы сделать ее своей женой, что никогда не вступали в дом, который покидали бы с завистью, увидев счастье супружеской жизни?
– Я говорю серьезно: я никогда не встречал такой женщины, и я никогда не вступал в такой дом.
– Если так, запаситесь терпением, ваше время придет, и, надеюсь, оно не за горами. Выслушайте меня. Не далее, как вчера я почувствовала неизъяснимое желание увидеть вас опять и узнать адрес, чтобы написать вам. Потому что вчера, когда одна молодая девица покинула мой дом после недельного визита, я сказала себе, что из этой девушки выйдет превосходная жена, а главное настоящая жена для Кенелма Чиллингли.
– Кенелм Чиллингли очень рад слышать, что эта молодая девица оставила ваш дом.
– Но она не уехала из Лондона. Сегодня она еще здесь. Она гостила у меня до тех пор, пока не приехал ее отец и не освободился дом, который он нанял на этот сезон; это случилось вчера.
– Счастливое событие для меня: оно позволяет мне навестить вас без опасений.
– Не испытываете ли вы по крайней мере любопытства узнать, кто это молодая девушка, которая кажется мне такой подходящей женой для вас?
– Я испытываю не любопытство, а лишь смутную тревогу.
– Я не могу беседовать с вами, пока вы находитесь в таком раздражении. Да, кстати, не пора ли прекратить это отшельничество. Пойдемте, здесь много лиц, с которыми вам надо возобновить знакомство, а с некоторыми я желаю вас познакомить.
– Я готов следовать за леди Гленэлвон повсюду, куда она удостоит вести меня, только не к алтарю.
Глава III
Комнаты были теперь полны – не переполнены, но полны. Даже в этом доме случалось редко, чтобы в нем собралось столько замечательных лиц. Молодой человек, которого такая знатная дама, как леди Гленэлвон, удостоила подобной чести, не мог не быть дружелюбно принят всеми, кому она его представляла: министрами, парламентскими лидерами, людьми, прославленными своими балами, модными красавицами, даже писателями и художниками. В свою очередь, в Кенелме Чиллингли, в его фигуре, чертах его лица, в спокойной непринужденности обращения, понятной при его равнодушии к производимому им впечатлению, было что-то, способное оправдать милость, оказываемую ему блистательной дамой, и сделать его предметом всеобщего интереса.
Первый вечер нового вступления Кенелма в светский мир ознаменовался таким успехом, какого редко достигают молодые люди его лет.
Когда комнаты начали пустеть, леди Гленэлвон шепнула Кенелму:
– Пойдемте, я должна вновь представить вас одной особе; вы потом поблагодарите меня.
Кенелм пошел за маркизой и очутился лицом к лицу… с Сесилией Трэверс. Она шла под руку с отцом и была очень хороша. Красота ее еще больше выигрывала от румянца, разлившегося по ее щекам, когда увидела Кенелма Чиллингли.
Трэверс приветствовал его с большой сердечностью. Леди Гленэлвон попросила сквайра проводить ее в буфет, и Кенелму ничего более не оставалось, как предложить руку Сесилии.
Кенелм был несколько смущен.
– Давно вы в Лондоне, мисс Трэверс?
– Немного больше недели, но только вчера мы переехали в наш дом.
– А! стало быть, вы та самая молодая девица, которая…
Он замолчал, и лицо его приняло более мягкое и серьезное выражение.
– Молодая девица, которая… что? – с улыбкой спросила Сесилия.
– Которая гостила у леди Гленэлвон.
– Она говорила вам обо мне?
– Нет, она не назвала вашего имени, но так хвалила молодую девицу, что мне следовало бы угадать.
Сесилия ответила что-то не слишком внятное. Когда они вошли в буфетную, ее окружили другие молодые люди. Леди Гленэлвон и Кенелм одни хранили молчание среди общего светского разговора.
Трэверс, разумеется, пригласил Кенелма к себе и уехал с Сесилией. Кенелм задумчиво обратился к леди Гленэлвон:
– Так вот молодая девица, в которой должен я видеть свою судьбу! Вы знали, что мы уже встречались?
– Да, она сказала мне, когда и где. А потом не прошло еще и двух лет, как вы мне писали из дома ее отца. Вы забыли?
– Ах, – произнес Кенелм таким отрешенным тоном, словно говорил во сне, – никто с открытыми глазами не бросается навстречу своей судьбе. Тот же, кто делает это, лишается зрения. Любовь слепа. Говорят, слепые очень счастливы, но я еще не встречал слепца, который не был бы рад вернуть себе зрение.
Глава IV
Мистер Майверс Чиллингли никогда не давал обедов в своей квартире. Если он делал это, то в Гринвиче или Ричмонде. Но он часто приглашал гостей на завтрак, а такие приемы охотно посещались. У него была красивая холостяцкая квартира на Гровнор-стрит, изящно меблированная и содержавшаяся в строгом порядке. Неплохая библиотека изобиловала справочными изданиями и книгами в роскошных переплетах, подаренными современными авторами. Хотя эта комната служила кабинетом литератору, в ней не было того неприятного хлама, который вообще отличает кабинеты людей, по своей профессии имеющих дело с книгами я бумагами. Даже письменные принадлежности не лежали на виду, кроме тех случаев, когда в них возникала надобность. Они были спрятаны в большом полированном бюро французской работы. Это бюро имело многочисленные отделения; потайные ящики и углубления с особыми секретными замками. В одном углублении лежали статьи и корректуры, предназначенные для «Лондонца». Другие отделения служили для обыкновенной корреспонденции, а потайные ящики – для доверенной переписки и черновиков биографий знаменитых людей, пока еще живых. Эти биографии следовало опубликовать немедленно после смерти знаменитостей.
Никто не писал некрологов более живым пером, чем Майверс Чиллингли, а обширный и разнообразный круг знакомых позволял ему узнавать через надежных людей или по личным наблюдениям о признаках смертельной болезни у знаменитых друзей, чьи обеды он посещал и чей слабый пульс чувствовал, отвечая на пожатие их рук. Таким образом, уже за несколько дней, недель, даже месяцев до того, как весть о печальной участи той или иной знаменитости поражала публику, Майверс дописывал последние строки своих некрологов. Его бюро вполне соответствовало той таинственности, которой этот замечательный человек окружал произведения своего ума. В литературной жизни Майверса не было «я»: вы знали только вечно непроницаемое, таинственное «мы». Он был «я» только тогда, когда его встречали в свете и называли Майверсом.
К библиотеке с одной стороны примыкала небольшая столовая, или, лучше оказать, комната для завтрака, увешанная драгоценными картинами – подарками знакомых живописцев. Многие из них были сурово раскритикованы Майверсом там, где он называл себя «мы», – и не всегда в «Лондонце». Самые хлесткие критические статьи часто печатались в других журналах, редактируемых членами той же самой компании. И живописцы, встречаясь с Майверсом, не подозревали, как презрительно обошлось с ними таинственное «мы»; его «я» так осыпало их похвалами, что они охотно приносили ему дань своей признательности.
С другой стороны к библиотеке примыкала гостиная, изобиловавшая дружескими приношениями по большей части – из прекрасных рук: вышитыми подушками, скатертями, статуэтками, вещицами из севрского и челсийского фарфора, изящными безделушками разного сорта. Особенно благоволили Майверсу модные писательницы, но, за время его холостой жизни у него было немало и других поклонниц.
Майверс уже вернулся со своей обычной ранней прогулки в парке и сидел за бюро с человеком кротким на вид и в то же время одним из самых безжалостных сотрудников «Лондонца». Он был довольно важным советником в олигархии корпорации, известного как союз «интеллектуалов».
– Я, знаете ли, даже не могу дочитать эту книгу, – томно произнес Майверс, – она скучна, как деревня в ноябре. Но раз вы говорите, что писатель принадлежит к «интеллектуалам», союз поступил бы неразумно, не поддержав своего члена. Просмотрите книгу и постарайтесь изобразить ее скучную манеру как особое достоинство. Напишите так: «Рядовому читателю эта великолепная книга может показаться менее блистательной, чем щеголеватая болтовня!..» – назовите какого хотите автора, – «но для высокообразованных и умных людей каждая строка полна…», – и так далее и тому подобное. Кстати, когда мы станем делать обзор выставки в Берлингтон-хаус[154], там надо будет во что бы то ни стало разделать под орех одного художника. Я сам не видал его картин, но он новичок, и наш приятель видевший его, страшно завидует. Он говорит, что если знатоки сразу же не уничтожат его, то пошлый вкус публики превознесет его как чудо. Живет он, я слышал, бедно. Вот имя этого человека и сюжет картин. Присмотрите за этим, когда придет время, а пока насмешками над автором подготовьте почву для разгрома.
Тут Майверс вынул из бюро письмо завистливого соперника и подал его своему «кроткому» собрату. Потом, поднявшись, он сказал:
– Остальные дела нам, пожалуй, придется отложить до завтра: я ожидаю к завтраку двух молодых родственников.
Как только посетитель удалился, Майверс подошел к окну гостиной и любезно предложил кусочек сахару канарейке, присланной ему накануне в подарок. Она сидела в позолоченной клетке, входившей в состав подарка, и, подозрительно посмотрев на нового хозяина, от сахара отказалась.
Время щадило Майверса Чиллингли. Вряд ли он выглядел хоть одним днем старше, чем тогда, когда в первый раз был представлен читателям в связи с рождением Кенелма. Майверс пожинал плоды своих мудрых правил. Так как он не носил бакенбард и надевал хороший парик, у него не было и намека на седину и никто бы не обнаружил ни малейшего следа краски для волос. Стоя выше страстей, отрекаясь от горя, допуская скромные развлечения, но избегая излишеств, он сумел обойтись без морщинок у глаз, сохранил гибкость стана и прекрасный цвет лица, подобающий джентльмену.
Дверь отворилась, и хорошо одетый камердинер, так долго живший у Майверса, что сделался похожим на него, доложил о мистере Гордоне Чиллингли.
– Доброе утро, – сказал Майверс. – Я с удовольствием заметил, что вы запросто разговаривали с Дэнверсом. Разумеется, это заметили и другие. Вот еще шаг на пути к вашей карьере. Очень полезно, чтобы вас видели в гостиной за частным разговором с Кем-нибудь (с большой буквы). Могу я поинтересоваться, благоприятен ли был результат вашей беседы?
– То-то и оно, что нет: Дэнверс облил меня холодной водой, когда я заговорил с ним насчет Сэксборо, и даже не заикнулся о том, что его партия будет содействовать мне в подыскании какого-нибудь другого места.
– В распоряжении партии сейчас мало мест для молодых людей. Просвещение, все распространяясь, уничтожило школы для государственных людей, так же как и школы для актеров. Это – зло и зло, имеющее гораздо более серьезные последствия для судеб нации, чем те выгоды, которые может принести новая система народного образования. Но бесполезно бранить то, чему нельзя помочь. На вашем месте я временно отказался бы от всяких притязаний на парламентскую деятельность и стал бы готовиться к карьере адвоката.
– Ваш совет разумен, но он мне так не по вкусу, что я не могу его принять. Я решил во что бы то ни стало добиться места в палате, а там, где есть воля, есть и возможность.
– Я в этом не уверен.
– А я уверен.
– Судя по тому, что ваши сверстники в университете говорили мне о ваших речах в Обществе дебатов, вы не были тогда ультрарадикалом. А только ультрарадикал может рассчитывать на место от Сэксборо.
– Я в политике не фанатик. Многое можно сказать и за и против обеих сторон – caeteris paribus[155]. Но я предпочитаю сторону победителей: один успех ведет за собой другой.
– Да, но в политике всегда возможна реакция. Сторона, побеждающая сегодня, может стать побежденной завтра. Побежденная сторона представляет меньшинство, а в меньшинстве всегда больше умных людей, чем в большинстве. Со временем ум пробьет себе дорогу, привлечет на свою сторону большинство, а потом, в свою очередь, лишится его, потому что, завоевав большинство, он поглупеет.
– Кузен Майверс, разве мировая история не показывает вам, что один человек может опровергнуть все теории о сравнительной мудрости немногих или многих. Возьмите самых мудрых людей, каких можете найти, и один гениальный человек, и в десятую долю не столь мудрый, разобьет их в прах. Но этот гениальный человек, хотя и презирает большинство, должен опираться на него. Только тогда он будет им управлять. Разве вы не видите, что в свободных странах политическая судьба зависит от одного человека? На общих выборах избиратели группируются вокруг одного имени. Кандидат может распространяться сколько хочет о своих политических принципах, но все его красноречие не даст ему нужных голосов, если он не скажет: «Я держу сторону мистера А., министра, или мистера Z., главы оппозиции». Это не тори победили вигов, когда Питт распустил парламент. Это Питт победил Фокса, с которым в общих политических вопросах – о торговле рабами, о правах католической церкви, о парламентской реформе – он соглашался гораздо более чем с кем бы то ни было в своем же министерстве.
– Берегитесь, юноша, – испуганно воскликнул Майверс, – не выдавайте себя за гения. Гениальность – самое худшее качество для общественного деятеля: никто с ней не считается, и все ей завидуют.
– Извините меня, вы ошибаетесь. Мое замечание было чисто объективным и высказано в ответ на ваши доводы. В настоящее время я предпочитаю идти с большинством, потому что это – сторона победителей. Если нам потом понадобится гений, чтобы удержать победу, подчинив этому человеку нашу волю, он непременно явится. Меньшинство само пригонит его к нам, потому что меньшинство – всегда враг одного гения. Это оно ему не доверяет, это оно ему завидует, а не большинство. Ваше суждение, обычно столь логичное, несколько затуманено вашим опытом критика. Критики – это меньшинство. Их культура несравненно выше, чем у большинства. Но когда является человек действительно гениальный, критики редко бывают такими справедливыми судьями, как большинство. Если он не принадлежит к их олигархическому союзу, они или ругают его, или унижают, или оставляют без внимания, пока наконец не наступит время, когда он привлечет на свою сторону большинство, и тогда критики признают его. Но разница между человеком действия и автором состоит в том, что автору редко отдают должное при жизни, а человеку действия необходимо признание, пока он еще жив. Однако довольно отвлеченных рассуждений. Вы пригласили меня познакомиться с Кенелмом – что же, его не будет?
– Он будет. Но я пригласил его прийти в десять часов, а вас – в половине десятого, потому что хотел услышать о Дэнверсе и Сэксборо, а также и несколько подготовить вас к знакомству с кузеном. Я должен сделать это в кратких словах, потому что остается всего пять минут, а он, должно быть, человек пунктуальный. Кенелм во всех отношениях – ваша противоположность, Я не знаю, умнее он или глупее вас, для ума точной меры не существует. Но ад совсем не честолюбив, и поэтому не исключено, что он окажет поддержку вашему честолюбию. Он может из сэра Питера веревки вить. А если вспомнить, как ваш отец – человек достойный, но сварливый – в свое время мучил сэра Питера и надоедал ему из-за того, что между поместьем и вами стал Кенелм, легко предположить, что сэр Питер думает дурно и о вас, хотя Кенелм и уверяет, что он на это не способен. Хорошо, если бы вам удалось отвратить от себя злобу отца, заслужив расположение сына.
– Я был бы рад такому обороту дел; но есть ли у Кенелма какое-нибудь слабое место – скачки, охота, женщины, поэзия? Снискать расположение человека можно, только зная его слабую струнку.
– Тише, я вижу его в окно! Слабым местом Кенелма, когда я знал его несколько лет назад, было и, кажется, сохранилось…
– Скорее, я слышу, как он звонит у вашей двери!
– …страстное стремление найти идеальную истину в действительной жизни.
– А! – сказал Гордон. – Я так и думал: он всего лишь мечтатель.
Глава V
Кенелм вошел в комнату. Молодые кузены были взаимно представлены, обменялись рукопожатием, отступили на шаг и взглянули друг на друга.
Невозможно было вообразить больший контраст в наружности обоих представителей молодого поколения Чиллингли. Каждый из них был поражен ощущением этого контраста. Каждый почувствовал, что такой контраст предвещает антагонизм и что если они встретятся на одном поприще, то должны будут сражаться как соперники. И все-таки по какому-то таинственному инстинкту оба почувствовали друг к другу некоторое уважение, каждый угадал в другом силу, которую он не мог верно оценить, но против которой его собственной силе бороться будет тяжело. Так могли смотреть друг на друга чистокровная борзая и мастиф-полукровка. Зритель легко угадал бы более благородное животное, но поколебался бы, на которое из них ставить, если б они вступили в смертный бой.
Пока чистокровная борзая и мастиф-полукровка ограничились тем, что в знак приветствия обнюхали друг друга. Гордон заговорил первый.
– Я давно желал познакомиться с вами, – оказал он, вложив в свой голос и в свое обращение ту легкую почтительность, которой младший сын хорошей фамилии обязан главе дома. – Не могу понять, как я разминулся с вами вчера у леди Бомануар, где вас видел Майверс. Впрочем, я уехал рано.
Тут Майверс повел их в столовую, где хозяин взял на себя роль главного оратора, с веселой бойкостью рассуждая о злобах дня – о последней сплетне, о книжной новинке, о реформе в армии, о реорганизаций скакового спорта, о критическом состоянии Испании и о дебюте итальянской певицы. Он казался живым воплощением газеты, включая передовую статью, судебную хронику, иностранные известия и придворные новости, вплоть до рождений, смертей и браков. Гордон время от времени перебивал этот поток красноречия краткими меткими замечаниями, обнаружившими знание предметов, о которых шла речь, и привычку смотреть на все, что относится к целям и делам человеческим, с некоей высоты и сквозь то синее стекло, которое придает летним ландшафтам зимний вид. Кенелм говорил мало, но слушал внимательно.
Разговор уже не перескакивал с предмета на предмет, а Коснулся самого знаменитого по репутации и званию политического деятеля той партии, к которой Майверс хотя и не принадлежал – он принадлежал только себе самому, но был близок. Майверс говорил об этом вожде с большим недоверием и вообще порицал его. Гордон, соглашаясь и с недоверием и порицанием, прибавил:
– Но он хозяин положения, и, разумеется, его пока надо поддерживать всеми силами.
– Да, пока придется, – сказал Майверс, – иначе нельзя. Но в конце сезона вы увидите в «Лондонце» несколько умно написанных статей, которые сильно повредят ему, расхваливая его некстати, и увеличат опасения особенно влиятельных его сторонников; эти опасения проявляются уже и теперь, но в скрытом виде.
Тут Кенелм смиренно спросил, почему Гордон считает, что министра, которого он признает столь недостойным доверия и даже опасным, следует поддерживать всеми силами.
– Потому, что теперь член кабинета, избранный для того, чтоб поддерживать этого министра, потеряет свое место, если не будет выполнять наказ. Когда дьявол правит, приходится ехать.
Кенелм. Когда дьявол правит, я предпочел бы покинуть свое место в экипаже: может быть, принесешь пользу, если выйдешь из экипажа и схватишься за колесо.
Майверс. Умно сказано, Кенелм! Но, отбросив метафоры, признаем, что Гордон прав: молодой политик должен идти заодно со своей партией. Такой старый журналист, как я, более независим в сравнении с ним. Пока журналист бранит всех, у него всегда будет достаточно читателей.
Кенелм ничего не ответил, а Гордон перевел разговор с личностей на мероприятия. Он заговорил о парламентских биллях, показывая большое знание предмета и остроту критики, объясняя недостатки этих биллей и отмечая опасность их отдаленных последствий.
Кенелм был поражен силой этого холодного, ясного ума и молча признал, что нижняя палата – самое лучшее место для его развития.
– Но, – сказал Майверс, – не должны ли вы будете защищать эти билли, если сделаетесь депутатом от Сэксборо?
– Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, ответьте и вы на мой: как ни опасны билли, но ведь они неизбежно пройдут? Так решило общественное мнение?
– В этом нет никаких сомнений.
– Стало быть, у депутата Сэксборо нет достаточных сил, чтобы идти против общественного мнения.
– Прогресс века! – задумчиво произнес Кенелм. – Как вы думаете, долго еще сохранится в Англии класс джентльменов?
– Что вы называете джентльменами? Аристократов по происхождению? Дворян?
– Я полагаю, что никакие законы на свете не могут отнять у человека его предков, и класс людей хорошего происхождения уничтожен быть не может. Но подобный класс, если он не несет никаких обязанностей и никакой ответственности и не сознает, что хорошее происхождение требует преданности отечеству и поддержания личной чести, не принесет пользы нации. Государственные люди демократического направления должны признать тот достойный сожаления факт, что класс людей хорошего происхождения уничтожить нельзя, он должен остаться, как остался в Риме и остается во Франции после всех усилий уничтожить его, как класс граждан, самый опасный, когда вы лишите его положительных атрибутов. Я говорю не об этом классе, а о том, свойственном Англии, неопределенном разряде людей, чья этика, без сомнения, первоначально возникла из идеального представления о том, что дворяне обязаны поддерживать понятия чести и правдивости, но которые больше не нуждаются в родословных и поместьях, чтобы произвести их в джентльмены. И когда я слышу, как «джентльмен» говорит: «Мне не остается другого выбора, как думать одно, а говорить другое, как бы это ни было опасно для отечества», – мне начинает казаться, что в прогрессе века класс джентльменов будет заменён какой-нибудь лучшей их разновидностью.
Кенелм встал и хотел уйти, но Гордон схватил его за руку и удержал.
– Дорогой кузен, если вы разрешите вас так назвать, – начал он со свойственной ему откровенной манерой, которая так шла к смелому выражению его лица и к чистому звуку голоса, – я принадлежу к числу тех, кто из отвращения к лицемерию и сентиментальности часто, заставляет людей, не коротко их знающих, думать об их принципах хуже, чем они, того заслуживают. Вполне может случиться, что человеку, следующему за своей партией, не нравятся меры, которые он чувствует себя обязанным поддерживать, и он говорит об этом среди друзей и родных, однако, этого человека все же нельзя считать лишенным добросовестности и чести. И я надеюсь, что, когда вы лучше узнаете меня, то не станете думать, что я унижу тот класс джентльменов, к которому мы оба принадлежим.
– Извините меня за грубость, – ответил Кенелм, – и припишите мои слова неведению того, чего требует общественная деятельность. Мне кажется, что политик не должен поддерживать то, что находит дурным. Но, наверно, я заблуждаюсь.
– Глубоко заблуждаетесь, – сказал Майверс, – и вот по какой причине: прежде в политике был прямой выбор между хорошим и дурным. Теперь это бывает редко. Люди высокого, образования должны или принять, или отвергнуть меру, навязываемую им совокупностью избирателей, людей низкого образования. Поэтому им надо взвесить зло против зла – зло принятия и зло отклонения. И если они решатся на первое, то потому, что это зло будет меньшим.
– Ваше определение превосходно, – сказал Гордон, – и я воспользуюсь им, чтобы оправдать мою кажущуюся неискренность перед кузеном.
– Полагаю, что это и есть реальная жизнь, – сказал Кенелм с печальной улыбкой.
– Разумеется, – подтвердил, Майверс.
– Каждый прожитый мной день, – со вздохом сказал Кенелм, – все более подтверждает мое убеждение, что реальная жизнь – самое фантастическое притворство. Какая нелепость со стороны философов отвергать существование привидений: какими привидениями мы, живые люди, должны казаться призракам!
…Над нами духи мудрецов[156]
На небесах смеются.







