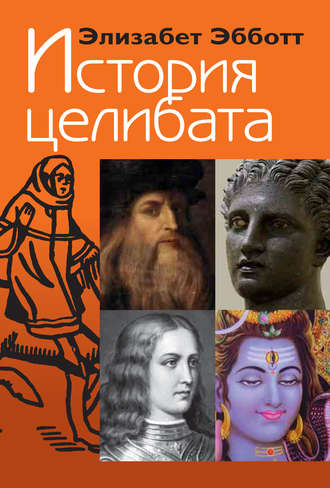
Элизабет Эбботт
История целибата
Западные монастыри
На Западе за египетским экспериментом с монастырями следили с неослабевающим интересом, несмотря на то что большинство египетских монахов знатностью происхождения не отличались. Как ни странно, эти аскеты являли собой живые ответы на вопрос, который задавали знатные и ученые люди Запада своим врачам: можно ли достичь состояния постоянного целибата, и если да, то как? Большую популярность приобрели жизнеописания монахов. Ученые мужи изучали египетских монахов, жили вместе с ними, наблюдали за их повседневной деятельностью. Они собрали и опубликовали «Изречения святых отцов», пользовавшиеся большим успехом у читателей, высоко ценивших высказанные в них великие истины.
К концу V в. Запад перенес на свою почву и изменил восточный аскетизм пустынников настолько, что в VI в. монастыри возникли и там. Как и в их восточных аналогах, жизнь там была подчинена определенным правилам. Родоначальником западного монашества считают святого Бенедикта[272], автора «Устава» монашеской жизни, содержащего семьдесят три главы.
Идеалом монастыря, по мнению Бенедикта, было одно здание с выборным настоятелем, братия которого отказывалась от всей частной собственности, клялась в вечной бедности, целомудрии и соблюдении правил их общины. Но в отличие от подобных восточных общин, Бенедикт считал, что монастыри должны стать полигоном для подготовки христианских солдат. «Нам нужно создать scola <группы ополчения> для служения Господу», – писал он[273].
Цель Бенедикта, состоявшая в том, чтобы «создать школу божественной службы, в которой… не будет ничего трудного или сурового»[274], по сути дела, сводила на нет то, что на Западе считалось чрезмерным восточным аскетизмом. (Спустя столетия бенедиктинцы продолжали придерживаться этого тезиса, принижавшего значение аскетизма, выступая против критиков, утверждавших, что их благоустроенные и удобные для жизни монастыри противоречат апостольской бедности, которой следовало придерживаться монахам. Конечно, это не так, утверждали они. Как можно было требовать от монаха в современном мире прочно утвердившегося христианства, чтобы он терпел такие же лишения, как в эпоху преследований язычников?)
Несмотря на очевидные черты сходства – целибат, молчание, смирение и покорность, – предложенная Бенедиктом версия монашества радикально отличалась от его антицерковного восточного аналога. Бенедикт приспособил его к условиям своего времени и Европы, перестав уделять основное внимание сердцу и телу каждого человека как главному мерилу духовности. Вместо этого монастыри объединились с Церковью, что привело к усилению роли папства, а также к разрастанию и развитию земельных владений и другого имущества монастырей. Вскоре многие из них деградировали, уподобившись клоакам, где бурлили политические интриги, отмывались грязные деньги, закулисно решались вопросы о власти, и превратившись в прямую противоположность причине возникновения монашества: монастыри стали очагами разврата и сексуальных скандалов, разгоравшихся там настолько часто, что это трудно себе представить.
Сравнение их с восточными монастырями, где монахи иногда поддавались искушению с деревенскими женщинами, смазливыми мальчиками и друг с другом, здесь просто невозможно. Там монахи страдали и мучились, замаливая свои прегрешения, каялись и пытались следовать своим принципам. На Западе же такие случаи стали настолько обыденным явлением, что их рассматривали уже не как прегрешения, а как образ жизни целых общин. В некоторых монастырях настоятелями становились не служители Церкви, а миряне, бравшие с собой в монастырь всех своих чад и домочадцев: жен, детей, солдат, даже охотничьих собак, и все эти люди жили там среди монахов. Не было ничего удивительного в том, что вторгавшееся в монастырскую жизнь обмирщение и сексуальная разнузданность оказывали влияние на монахов, которые следовали примеру своего руководства – как отрицательному, так и положительному. Было время, когда монахи монастыря Фарфы в Италии открыто признавали, что содержат сожительниц. Во Франции почти все монахи в Тросли были женаты, а каждый монах в Сен-Жильдас-де-Рюи «содержал себя и своих сожительниц, а также своих сыновей и дочерей», писал служитель аббатства Пьер Абеляр. Самого Абеляра оскопили люди, подкупленные каноником собора Парижской Богоматери Фульбером – влиятельным священнослужителем, чью племянницу Элоизу Абеляр учил, соблазнил, она от него забеременела, и позже они сочетались браком[275].
Кроме того, в этих рассадниках похоти и сластолюбия, где о целибате в лучшем случае изредка вспоминали, а в худшем вообще забывали, буйно расцветал гомосексуализм. В «Уставе» Бенедикта была сделана попытка воспротивиться его распространению путем запрета очевидных искушений. Двум монахам запрещалось спать в одной постели. Всю ночь должен был гореть свет, и монахам следовало спать полностью одетыми. Купание, чреватое соблазном обнаженного тела, не поощрялось, оно разрешалось лишь в форме сложной процедуры, в ходе которой предметы одежды, скрывающие срам, нельзя было снимать все сразу, чтобы определенные части тела не были обнажены даже перед их обладателем и не прельщали его соблазном вида голой и увлажненной плоти.
(Спустя столетия в итальянских духовных семинариях применялись «рожки благочестия» – деревянные лопаточки, похожие на маленькие весла, которые использовались для того, чтобы заправлять рубашки в брюки. Это уменьшало соблазн соприкосновения руки и гениталий, поскольку на деле рубашка заправлялась в брюки рожком, а пальцы оставались подальше от запретных, неприкасаемых, невидимых, но всегда чрезвычайно чувствительных частей тела в промежности.)
Среди всех монахов исключение из правила составлял (хоть это сомнительно) Бернард Клервоский[276]: по свидетельствам современников, он соблюдал целибат и не был подвержен соблазнам, обычно присущим мужчинам. Один маркиз в Бургундии умолял Бернарда вылечить его хворавшего сына. Монах потребовал, чтобы все присутствовавшие оставили его наедине с мальчиком, после чего лег на него. В этой часто пересказываемой истории вопрос заключается не в чудесном исцелении мальчика, а в том, что во время свершения этого подвига у Бернарда не было эрекции. «Он и впрямь был самым несчастным из монахов, – насмехался над ним средневековый поэт-сатирик Уолтер Мэп, – потому что я никогда не слышал о монахе, который лег бы на мальчика и тут же не возбудился»[277].
В значительной степени суть проблемы определялась тем, что слишком во многих монастырях забыли о том, что их главное назначение определяется религиозным содержанием. Получаемое ими богатство, иногда огромное, коррумпировало монашеские общины, заставляя постоянно заботиться о нем и совращая самих монахов. Монастыри становились крупнейшими землевладельцами, обладавшими огромными производственными возможностями и добросовестной бесплатной рабочей силой. Монахи и их родственники из более обеспеченных семей, наряду с другими благочестивыми христианами, оставляли монастырям в наследство целые состояния и большие земельные владения. В отличие от светских земель, эти угодья оставались нерасчлененными, они не подлежали разделу между несколькими наследниками. Аббаты этих империй должны были быть святыми – и некоторые из них были таковыми, – чтобы противостоять искушению и соблазну роскоши, с избытком обеспечивавшихся их положением. Но если настоятель приносил духовность и мудрость в жертву сметливости и цинизму, души его монахов оказывались беззащитными от козней дьявола.
В 813 г. собравшийся в Туре синод епископов осудил упадок и порочность нравов в большинстве монастырей. Реформисты пытались остановить эту деградацию во всем христианском мире. Король Людовик I Благочестивый обязал соблюдать «Устав» Бенедикта во всех монастырях на территории Франкской империи, но после его смерти междоусобная борьба его сыновей привела к обмирщению монастырской жизни. Это происходило повсеместно: монастыри становились огромными богатейшими корпорациями, временно лишенными защиты, а потому феодальная знать и короли стали охотиться на их имущество, нападать на них, запугивать, разрушать и грабить.
Начиная с VIII в. монастыри были вынуждены вступать в феодальные отношения гражданского и военного характера с королями и представителями правившей знати. Аббаты становились их вассалами и брали на себя политические, юридические и военные обязательства. Один нормандский герцог всегда мог рассчитывать на девять союзных монастырей, посылавших ему сорок рыцарей для непрестанных войн, которые он вел. Особенно рьяно к своим военным обязательствам относились аббаты германских земель. Так, например, в 981 г. они отправили в войско Оттона II на несколько сотен больше рыцарей, чем его светские вассалы.
На политическом и дипломатическом уровнях аббаты и монахи были наиболее доверенными, а потому и наиболее могущественными советниками своих монархов: монах Алкуин при Карле Великом; Бенедикт Анианский при Людовике Благочестивом; фульдский аббат при Генрихе IV германском; архиепископ Кентерберийский Ланфранк и его последователь – аббат Бекского монастыря, а позже архиепископ Кентерберийский Ансельм при Вильгельме Завоевателе и при его сыне Генрихе I.
Истинное положение вещей заключалось в том, что если монастыри хотели выжить, им приходилось вступать в союзы со светскими правителями. Возможно, им не следовало это делать, поскольку, выживая путем компромисса, а не за счет мало кому доставлявшего удовольствие аскетизма, они превращались в пародию на то, на что некогда претендовали. Они даже стали владеть церквями, что свидетельствовало об их стремлении приноровиться к произошедшим в Церкви изменениям, отражавшим все большее ее приспособленчество и усиливавшиеся среди церковников распри. Стремясь их избежать, святые отцы изначально стремились уединиться в пустыне[278].
Извращенное историческое развитие монастырей и Церкви отвращало христианских монахов от идеала целибата и свойственного ему образа жизни. Возродить эти традиции была призвана реформа достойного сожаления беспорядочного и хаотичного сообщества, представлявшего собой средневековое монашество. В 1073 г. Папой Григорием VII стал монах-бенедиктинец Гильдебранд, который начал проводить в жизнь среди своей увеличившейся паствы собственную программу преобразований, состоявшую в том, чтобы распространить целибат на всех христиан.
Гильдебранд, будущий Папа Григорий VII, был выходцем из монастыря Клюни, где бенедиктинский «Устав» был существенно ужесточен. Клюни подчинялся исключительно власти Папы, а не светским правителям, и в своих проповедях монахи-клюнийцы утверждали, что христианство означает не отказ монахов от мира, а принятие идеалов монашества всеми христианами. Эта исходная позиция, отстаивавшаяся ими в разгар бесконтрольной погони многих монахов за наслаждениями, оказалась притягательной для такого большого числа людей, что количество монастырей, разделявших позицию Клюни, быстро множилось, а сам монастырь вскоре стал наиболее важным религиозным центром Запада.
Поразительный успех Клюни приводил к аналогичным изменениям во многих земельных владениях. Чем больше аскетизм и миссионерская деятельность привлекали людей, тем больше Церковь отдалялась от того самого апостольского аскетизма, к которому призывала. Недовольство этим явным противоречием стало одной из главных причин проведения григорианской реформы. Ее цель состояла в возврате к исходной чистоте Клюни и соблюдению бенедиктинского «Устава». Кроме того, григорианцы выступали за развитие Церкви святых, священнослужители которой должны были строго соблюдать целибат.
Вполне возможно, что значение григорианской реформы XI в. было столь же революционным, как возникновение протестантизма в XVI в., либерализма – в XVIII в. и коммунистических революций – в XX в. Задача григорианской реформы ни много ни мало сводилась к разрушению старого порядка вещей и замене его новыми отношениями, с приоритетом власти папского престола, освобождения христианского мира от светских правителей и передачи его под руку римских пап. Этот новый порядок – Christianitas – представлял собой картину аскетического христианского мира отречения и монашества, как ее видел Григорий VII, а у кормила правления там стоит единственный рулевой – Папа Римский.
Пять десятилетий борьбы, смятения, репрессий и кризисов привели к однозначному итогу: григорианская реформа провалилась. Вместо бенедиктинцев ведущая роль в отстаивании чистоты религиозных принципов перешла к цистерцианским монастырям, которые, как некогда их древние египетские аналоги, стремились уйти от мирской суеты. К числу тех, кто выступал за сохранение чистоты и непорочности церковной жизни, относился суровый, вспыльчивый, не поддававшийся соблазнам Бернард Клервоский, тем не менее никогда не противившийся призыву Григория к созданию нового мирового порядка – Christianitas. Но по здравом размышлении Бернард не мог не понимать, насколько он должен был казаться несовместимым с действительностью всем, кроме его единомышленников.
О чем еще могут думать занятые мирской суетой люди, глядя на то, что мы делаем, кроме того, что мы играем, когда бежим от того, к чему они сильнее всего стремятся на земле, а мы желаем того, от чего они бегут? Мы как шуты и паяцы, у которых головы опущены вниз, а ноги задраны вверх, и потому к нам прикованы все взгляды… Игра наша веселая, достойная, серьезная и прекрасная услаждает взгляды тех, кто наблюдает с небес[279].
Веселая это была игра или нет, но григорианцы ее проиграли. Christianitas почил в бозе, но принцип целибата выжил не только в цистерцианских монастырях и некоторых других конгрегациях, но и во всем мире. Его продолжали придерживаться многие миряне. Других, полагавших, что у них из этого ничего не получится, утешало учение Церкви о допустимости сексуальных отношений в браке, если они поддерживались исключительно ради продолжения рода человеческого.
Спустя столетия после того, как монашество оказалось коррумпированным богатствами и развращающими мирскими ценностями, монастыри вновь вернулись к аскетизму, изначально помогавшему монахам, стремившимся к достижению как плотского, так и духовного целибата.
Мартин Лютер о ночных семяизвержениях
В XVI в. в одном немецком монастыре настоятель попытался обязать монахов соблюдать суровое правило целибата. Любые действия сексуального характера там были строго-настрого запрещены, причем в его толковании это положение также включало непроизвольные ночные поллюции. Монахи изо всех сил стремились подавлять возбуждающие соблазн мысли и фантазии, однако иногда по ночам, когда они забывались сном, эти жуткие мечтания закрадывались к ним в голову.
Каждое утро, проснувшись и обнаружив на бедрах влажное свидетельство свершенного в ночи греха, братья покорно отказывались идти служить мессу. Они делали это, будучи глубоко убежденными в необходимости соблюдать правила, введенные в этом отношении в их ордене. Положение существенно осложнилось, когда слишком многие монахи стали пропускать назначенные мессы и публика узнала не только о сложившейся ситуации, но и о ее причинах, что было гораздо хуже. Настоятель, оказавшийся в крайне затруднительном положении, попытался как можно скорее изменить сложившуюся ситуацию. Он «признал, что кто угодно мог и должен был ходить к мессе, даже если у него по ночам происходили непроизвольные семяизвержения»[280].
История с поллюциями произвела большое впечатление на брата Мартина Лютера. Он долго размышлял о природе такого явления и в конце концов пришел к выводу о том, что самопроизвольные семяизвержения представляют собой естественное, а потому приемлемое явление. А семяизвержения, вызываемые искусственно, являются греховными, если только происходят не в браке. Размышления на эту тему заставили его глубже задуматься и над другими аспектами сексуальности. От ночных семяизвержений он перешел к более широким аспектам половых отношений, заявив, что опасно лишать тело естественной, Богом определенной функции. Постепенно, но решительно его взгляды на целибат стали диаметрально противоположны тем, которые стремилась навязать католическая премудрость.
Целибат – один, похоть – ноль
Даже в те времена, когда в кельях было полно мерзавцев, а в монастырях постоянно происходили скандалы, церковные власти, как полагал ирландский праведник Скутин, действовали возмутительно. Мог ли кто-нибудь поверить в распускавшиеся ими слухи о том, что каждую ночь Скутин клал с собой в постель двух сладострастных девиц? Выяснить, было ли это правдой, послали Брендана Мореплавателя[282].
Когда настало время отходить ко сну, в помещении, где остановился Брендан, появились две очаровательные молодые женщины. Войдя в комнату, где он расположился на постели, обе они легли рядом и прижались к нему, заверив его при этом, что именно так они каждый вечер поступали со Скутином. Брендан лежал без сна, никак не мог найти удобное положение и все время вертелся и ерзал, его терзали плотские желания. Через некоторое время женщины стали сетовать на очевидные проблемы, не дававшие Брендану покоя. Когда они ложились вместе со Скутином, жаловались они, тот никогда вообще на них никак не реагировал, хотя время от времени ему приходилось прыгать в бочку с холодной водой. Брендан удивился и понял, что Скутина несправедливо обвиняли в недостойном сексуальном поведении.
Позже Брендан встретился с человеком, в чьем поведении ему было поручено разобраться. Скутин объяснил ему, что спал с полногрудой искусительницей, чтобы подвергнуть себя испытанию. Как и великий старец Варсанофий, он делал это для того, чтобы усилить похоть, которую ему предстояло одолеть. Брендан был им очарован, они стали добрыми друзьями.
Спустя столетия Скутина и Брендана причислили к лику святых. В безнравственный век, когда действия людей не поддавались контролю, Скутин продолжал оставаться праведником, по ночам подвергавшим испытанию свою сексуальность и тем самым – свою духовность. В двадцатом столетии в Индии Махатма Ганди смог бы по достоинству оценить тот факт, что его эксперименты с брахмачарьей представляли собой усложненную индуистскую версию христианских опытов, проводимых с самим собой Скутином.
Вступать в брак или не вступать
В отличие от других ушедших в монастырь или живущих в миру верующих, считавших целибат не обсуждаемым императивом, священники, работавшие с паствой, состоявшей из мирян, пытались решить эту проблему на протяжении веков. Эти мужчины радикально отличались как от отцов-пустынников, так и от монахов, стремившихся к обретению духовности, для которых целибат представлял собой постоянную проверку их приверженности вере. Эти люди посвящали всю свою жизнь собственному спасению.
Но как же надо было поступать с душами всех остальных до пришествия Царствия Божия? Кто должен был учить, направлять, бранить, наказывать и осуждать греховное человечество? Для подавляющего большинства людей были нужны священники.
Но какие именно? Соблюдающие целибат аскеты, подобные монахам? Или священнослужители духовного склада, вдохновленные собственной миссией и стремящиеся служить людям? Первоначально христианское духовенство в профессиональном отношении не было достаточно подготовленным. Тогда это были люди – просто люди, работавшие бок о бок с другими своими единоверцами и поступавшие как все остальные. Священники так же обзаводились семьями, в первые столетия развития христианства они женились и занимались любовью со своими женами, рожавшими им детей.
Основной заботой христианства, как мы видели, было соблюдение целибата на протяжении всей жизни. Подавляющее большинство язычников и иудеи считали это странным и неестественным, пагубным для общества и губительным для рода человеческого. Закон обязывал языческих жрецов жениться, а большинство еврейских священнослужителей делали это добровольно, хотя воздерживались от сексуальных отношений во время некоторых праздников и ритуальных событий, таких как совершение жертвы на алтаре. Но по мере того как развивавшийся в борьбе культ христианства привлекал все больше людей, те, кто направлял это развитие, стали доказывать, что все священнослужители на протяжении всей жизни должны соблюдать целибат.
Эта точка зрения никогда не пользовалась широкой поддержкой, особенно у женатых священников и, как вполне можно предположить, у их жен. Можно себе представить, какой была реакция этих женщин, когда они впервые услышали, что церковные мыслители и иерархи, нередко представленные одними и теми же лицами, выступали за то, чтобы все представители профессии их супругов стали холостяками, даже те из них, кто уже был женат. Как же они должны были быть этим озадачены, в какой гнев это должно было их приводить, особенно если у них уже было по пять-шесть детей.
И по сей день целибат священнослужителей представляет собой наиболее спорную, сложную и изматывающую проблему для Римско-католической церкви – единственной христианской деноминации, которая требует соблюдения безбрачия. В следующем разделе мы увидим, как католические священники и монахини продолжают выходить из все более сокращающихся религиозных общин, некогда насчитывавших большое число молодых людей и девушек – либо призванных Господом, либо принужденных своими семьями нести службу, соблюдая целибат.
Между тем первые согласованные призывы к священнослужителям о соблюдении целибата начались уже в IV в. Еще ранее, к 250 г., некоторые лица духовного звания соблюдали целибат, исходя из собственных убеждений, подкрепленных принимавшимися время от времени канонами, которые одобряли / рекомендовали / требовали соблюдения целибата. Тем не менее многие священники были женаты и не имели никакого желания разводиться.
Эти настроения в полной мере отразились в высказываниях Синезия, епископа Птолемаидского. Господь, закон и «святая длань епископа Феофила» дали ему жену, заявил он, и у него не было намерения ни покидать ее, ни вступать с ней в какие бы то ни было тайные отношения, грозившие сделать из их брака посмешище. Он рассчитывал иметь от нее нескольких детей. Иначе говоря, епископ Синезий категорически отказывался унижать себя хитростями, применявшимися многими его коллегами, уклонявшимися от решения проблемы, стремясь сохранить работу, давая ложные обеты соблюдения целибата, а потом выдумывая недостойные служителя Церкви уловки, чтобы по ночам прокрадываться в постель жены и молиться – если только они осмеливались, – чтобы не родились дети и их ложь о целомудренных супружеских отношениях не стала всем очевидна.
Битва за то, чтобы обязать священнослужителей соблюдать целибат, продолжалась больше тысячи лет и завершилась победой в XIII столетии. Борьба шла по нисходящей – сверху вниз. Сначала она охватывала высших церковных иерархов, а потом постепенно, неторопливо распространялась на более низкие категории священнослужителей вплоть до самых низших.
Проблема целибата также помогла Церкви навсегда сохранить ренту, поскольку среди священнослужителей Запада – по крайней мере, в теории – триумфально возобладал целибат, в то время как на Востоке представители клира открыто не соблюдали безбрачия – как теоретически, так и на практике. Однако до XIII в. среди разобщенных западных служителей Церкви и политиков целибат оставался уделом монахов.
Для нас важны не столько подробности развития этого процесса – время от времени издававшиеся религиозные эдикты, демонстративное неповиновение, компромиссы, отступление, новое наступление, мрачное согласие, скрытое неисполнение, – сколько его теологическая основа и социальные условия его развития. Мы уже знаем о его высшей точке, о великом церковном расколе – протестантской реформации, интегральной частью которой была решительная критика целибата служителей Церкви бывшим монахом Мартином Лютером. «Ничто, – громогласно заявлял Лютер, – не звучит для меня хуже слов “монахиня”, “монах” и “священник”»[284].
Но что же лежит в основе великой битвы, вызванной целибатом? Прежде всего, убеждение в том, что целибат был одной из основных составляющих «хорошего» христианства. Большое влияние на такое восприятие проблемы оказали отцы Церкви за счет охвата широчайшей аудитории, имевшей доступ к их писаниям, проповедям и учениям. Кроме того, они показывали пример своим поведением, поскольку их подавляющее большинство соблюдало безбрачие. На предыдущих страницах, где рассматривались их взгляды, мы видели, что для подтверждения своих аргументов они ссылались на Священное Писание, цитируя слова апостолов и Христа, а также ветхозаветное предание об Адаме и Еве в качестве бесспорного доказательства своей правоты.
Высшие церковные иерархи развивали и распространяли представление о добродетели девственности – как врожденной, так и «восстановленной» (а la Мария Египетская). Они подчеркивали превосходство духовного родства между истинными верующими над кровнородственными связями. Они упорно и настойчиво вбивали в головы предостережения о сладострастном, соблазнительном естестве женщин, морально изменчивых дочерей Евы. Для этих специалистов в богословии вопросы пола были не более чем блудом, к которому подстрекает дьявол.
Ведущие христианские теологи больше внимания должны были уделять радикальным течениям раскольников в рамках собственной религии, как будто увлеченно занятый размножением языческий мир не составлял для них достаточной проблемы. Члены сект энкратитов и гностиков делали неэффективными полумеры господствующей Церкви, изложенные в заявлениях и учениях ее авторитетов. Их мятежные призывы к бойкоту чрева лишь помогали упрочить традиционную линию в защиту целибата.
Время от времени случавшиеся преследования также вносили сумбур в представления простых людей о целибате, включая нестойких недавно обращенных в христианство верующих. Особенно волновала эта проблема женщин, поскольку их преследователи из числа язычников настойчиво искали девственниц и тех из них, кто не отрекался от христианских убеждений, отдавали в публичные дома. Преследования вынуждали некоторых скрываться в свободной от власти владык пустыне, а также укрепляли веру во многих других, включая тех, кто спасся, публично принимая участие в языческих обрядах, но в частной жизни продолжая исповедовать христианство.
Переломный момент наступил в 313 г., когда император-христианин Константин издал эдикт, признававший законность христианства[285]. К тому времени отцы Церкви, не ставя перед собой такой цели сознательно, уже привлекали к себе интерес народа, а их аскетизм и внимание к неукоснительному соблюдению целибата многих восхищали и на многих оказывали влияние. Монашеское движение, получившее развитие на базе скромных небольших поселений, также оказало революционизирующее влияние на христианскую – а в отдельных случаях и языческую – мысль. В частности, это относится к знаменитому учению Августина, епископа Гиппонского, и его «Исповеди», запавшей в сердца многих грешников. Женщинам и некоторым мужчинам фанатичную преданность целибату как основному идеалу христианства внушали героические девственницы Константина и Хелия, а также бывшая блудница Мария Египетская.
Одним из важнейших следствий всех этих теологических, духовных и политических изменений стало то, что жившие в миру христиане все в большей степени начинали соблюдать целибат, в результате чего все больше общин переходило к непорочной духовной жизни, такой, к какой стремились отцы Церкви или Блаженный Августин. Часто они стыдили профессиональных служителей Церкви, а во времена распространения еретических взглядов и вероотступничества в мужских и женских монастырях эти целомудренные и богобоязненные христиане сияли, образно говоря, непорочным светом путеводной звезды.
Клерикальная политика в отношении целибата в те времена чем-то напоминала процесс создания гобелена, когда на провисшей ткани неровными, убогими стежками вышивают кривые, извилистые линии неясного рисунка. В первые несколько веков существования новой религии основная задача политического процесса состояла в периодически принимавшихся постановлениях, даровавших священнослужителям высокий религиозный статус. Позже, в 305 г., на соборе в Эльвире[286] был принят свод правил, в соответствии с которыми всем служителям Церкви – от епископов вплоть до дьяконов – запрещалось вступать в половые отношения с женами или иметь от них детей. Наказанием за нарушение этого постановления служило лишение духовного сана.
Из восьмидесяти одного правила, принятого в Эльвире, почти половина, включая упоминавшееся выше, была связана с сексуальными отношениями, причем за половые контакты налагались более суровые наказания, чем за ереси и другие тяжкие грехи. Поскольку подавляющее большинство священнослужителей были женаты, поборники целибата объявляли вне закона только супружеские сексуальные отношения, но не осмелились запретить брак священников как таковой. Тем не менее они приняли чрезвычайно важное решение: за малейшее нарушение этого правила как служители Церкви, так и миряне рисковали быть навечно отлученными от Святого причастия.
Принятый в Эльвире эдикт был суровым, но, учитывая реалии того времени, опрометчивым, недальновидным и практически невыполнимым. Поэтому не было ничего удивительного в том, что спустя два десятилетия на церковном соборе, проходившем в городе Никея, он был пересмотрен. Египетский мученик Пафнутий, который предпочел потерю одного глаза отказу от христианских убеждений, крайне резко высказывался против целибата священнослужителей на том основании, что для большинства мужчин соблюдать его было слишком трудно. В любом случае, говорил он, брак был уважаемой формой жизни. Пафнутию многих удавалось убедить как силой своих доводов, так и силой характера. Поскольку сам он соблюдал целибат, все высказывания свои он делал из принципа. Другие соборы и синоды подтвердили терпимое отношение к браку. В 345 г. постановление, принятое в Ганграх[287], осуждало верующих, отрицавших действенность причастия, если оно совершается женатым священником.
Однако великий идеал целибата и соблюдающее целибат монашество привели в движение необратимое стремление к установлению безбрачия священнослужителей. Ведь, что ни говори, приводили доводы служители Церкви, выступавшие за введение целибата, чем же тогда будут отличаться священники от обычных смертных, если погрязнут в этом основополагающем занятии, ведущем к продолжению рода? Более того, все большее развитие получало мнение о том, что забота о жене и детях отвлекает священнослужителей от исполнения их обязанностей, в то время как они должны сосредоточивать все внимание на пастырской деятельности и образцовой духовности.



