
Александр Дюма
Три мушкетера
– О, как вы прекрасны! О, как я вас люблю! – воскликнул Бекингем.
– Уезжайте, уезжайте сейчас же, умоляю вас, и возвращайтесь позже! Возвращайтесь послом, возвращайтесь в окружении солдат, которые вас будут защищать, с людьми, которые будут охранять вас, – и тогда я не буду бояться за вашу жизнь и буду счастлива вас видеть.

– О, правду ли вы говорите?
– Да!
– Дайте же мне залог вашей благосклонности, какую-нибудь вашу вещь, которая мне напоминала бы, что это был не сон, что-нибудь такое, что вы носили и что я мог бы также носить, – кольцо, ожерелье, цепь.
– А вы уедете, вы уедете, если я вам дам то, что вы просите?
– Да.
– Тотчас же?
– Да.
– Вы оставите Францию, вы возвратитесь в Англию?
– Да, клянусь вам!
– Так подождите, подождите.
И королева возвратилась в свою комнату и тотчас же вернулась, держа в руках маленький ларчик розового дерева с вензелем королевы, инкрустированный золотом.
– Возьмите это, герцог, возьмите и храните на память обо мне.
Бекингем взял ларчик и бросился на колени.
– Вы обещали мне уехать, – сказала ему королева.
– И я это исполняю. Вашу руку, государыня, вашу руку, и я еду.
Анна Австрийская протянула ему руку, закрыв глаза и опираясь другой рукой на донью Эстефанию, потому что чувствовала, что её оставляют силы.
Бекингем с жаром поцеловал эту руку, потом, поднимаясь, сказал:
– Меньше чем через полгода, если я буду жив, я вас увижу, сударыня, хотя бы для этого мне пришлось перевернуть весь мир.
И, верный своему слову, он стремительно вышел из комнаты.
В коридоре он встретил госпожу Бонасье, которая его ожидала и с теми же предосторожностями и безо всяческих препятствий вывела его из Лувра.
Глава XIII
Господин Бонасье
Во всей этой истории, как читатели могли заметить, участвовал один человек, о котором, несмотря на незавидное его положение, заботились весьма мало. Этот человек был господин Бонасье, почтенный мученик политических и любовных интриг, которые так хитро сплетались между собою в это время, обильное рыцарскими и любовными похождениями.
К счастью, – читатель это, может быть, помнит, а может быть, и нет, – к счастью, мы обещали не терять его из вида.
Арестовавшие его стражники повели его прямо в Бастилию, где он, трепеща, прошёл перед отрядом солдат, заряжавших свои ружья.
Там он оказался в полуподвальном коридоре, причём приведшие его грубо насмехались над ним и обходились с ним весьма жестоко. Сыщики видели, что имеют дело не с дворянином, и обращались с ним как с мошенником.
Около получаса спустя явился секретарь и положил конец его мученьям, но не его тревоге, велев отвести Бонасье в комнату допросов. Обыкновенно заключённых допрашивали в их камерах, но с Бонасье не особенно церемонились.
Двое солдат схватили галантерейщика, провели его через двор, втолкнули в коридор, где было трое караульных, открыли дверь и ввели в комнату с низким потолком, где были только стол, стул и комиссар. Комиссар сидел у стола на стуле и что-то писал.
Солдаты подвели пленника к столу и по знаку комиссара удалились на расстояние, с какого нельзя было услышать его голос.
Комиссар, склонившийся над бумагами, поднял голову, чтобы увидеть, с кем имеет дело. Комиссар этот имел вид неприятный: нос острый, жёлтые, резко очерченные скулы, маленькие, но проницательные и быстрые глазки. Физиономией он походил на куницу и лисицу вместе. Голова его, торчавшая на длинной и подвижной шее, из чёрного широкого платья, качалась, как голова черепахи, появляющаяся из своей брони.
Сначала он спросил у Бонасье имя, фамилию, возраст и место жительства. Тот отвечал, что его зовут Жак-Мишель Бонасье, от роду пятьдесят один год, галантерейщик, оставивший торговлю, живёт на улице Могильщиков, в одиннадцатом доме.
Тогда комиссар, вместо того чтобы продолжать допрос, стал читать Бонасье длинную речь о том, какой опасности подвергается простой человек, вмешиваясь в государственные дела.
Он присоединил к этому повествование о могуществе и славных делах господина кардинала, этого выдающегося человека, министра, затмившего министров прежних и являющего пример министрам будущим, власти и могуществу которого никто не может противиться безнаказанно.
После этой части своей речи он устремил свой ястребиный взгляд на бедного Бонасье и посоветовал подумать о серьёзности его положения.
Бывший торговец, уже всё обдумав, проклинал минуту, когда господин де Ла Порт возымел мысль женить его на своей крестнице, и в особенности минуту, когда эта крестница была принята в штат королевы.
Главной чертой характера Бонасье был глубокий эгоизм в соединении с величайшею скупостью и приправленный крайнею трусостью. Любовь, внушённая ему его молодой женой, была чувством скорее второстепенным и не могла бороться с упомянутыми его качествами.
Бонасье в самом деле обдумал всё то, что ему сказали.
– Но, господин комиссар, – сказал он хладнокровно, – поверьте, я более всякого другого ценю несравненные достоинства его высокопреосвященства, под управлением коего мы имеем честь состоять.
– В самом деле? – спросил комиссар с видом сомнения. – Но если это действительно так, то как же вы попали в Бастилию?

– Каким образом я в неё попал или, вернее, за что я в неё попал, – отвечал Бонасье, – это мне совершенно невозможно вам сказать, потому что я сам этого не знаю. Но уж, во всяком случае, не за то, что действовал, по крайней мере заведомо, против господина кардинала.
– Вы, однако, совершили же какое-либо преступление, потому что обвиняетесь в государственной измене?
– В государственной измене? – вскричал испуганный Бонасье. – В государственной измене? Но как же это может быть, чтобы бедный лавочник, который терпеть не может гугенотов и ненавидит испанцев, был обвинён в государственной измене?! Подумайте сами, это по существу своему совершенно невозможно.
– Господин Бонасье, – сказал комиссар, посмотрев на обвиняемого так, как если бы его маленькие глазки имели способность читать в глубине души, – господин Бонасье, у вас есть жена?
– Да, сударь, – отвечал трепещущий купец, чувствуя, что с этого момента дела его начнут запутываться, – то есть у меня была жена.
– То есть как так у вас была жена? А что вы с ней сделали, если у вас её больше нет?
– У меня её похитили.
– Похитили? – сказал комиссар. – А!
По этому «А!» Бонасье понял, что дело запутывается всё больше.
– У вас её похитили? – повторил комиссар. – А знаете ли вы человека, который её похитил?
– Я полагаю, что знаю его.
– Кто он таков?
– Имейте в виду, что я ничего не утверждаю, господин комиссар, а только подозреваю.
– Кого вы подозреваете? Смотрите, отвечайте откровенно!
Бонасье был в величайшем замешательстве: всё ли сказать или от всего отпереться? Если он станет от всего отпираться, могут думать, что он знает слишком много, чтобы признаться в этом, сказав всё, он докажет свою добрую волю. Он решил сказать всё.
– Я подозреваю высокого смуглого мужчину благородной наружности, имеющего вид вельможи; он несколько раз следил за нами, как мне казалось, когда я поджидал жену у ворот Лувра, чтобы проводить её домой.
Комиссар, казалось, почувствовал некоторое беспокойство.
– А имя его? – сказал он.
– Об имени его я понятия не имею; но если я когда-либо его встречу, то узнаю сию же минуту, ручаюсь вам, среди тысячи людей.
Чело комиссара вновь нахмурилось.
– Вы бы его узнали среди тысячи людей, говорите вы? – переспросил он.
– То есть, – сказал Бонасье, заметив, что он избрал неверный путь, – то есть…
– Вы ответили, что узнали бы его, – сказал комиссар. – Хорошо, на сегодня довольно; прежде чем мы пойдём далее, надобно будет кое-кого предуведомить, что вы знаете похитителя вашей жены.
– Но я вам не говорил, что я его знаю! – вскричал Бонасье в отчаянии. – Наоборот, я вам сказал…
– Уведите арестованного, – обратился комиссар к стражникам.
– А куда отвести его? – спросил секретарь.
– В камеру.
– В какую?
– О боже мой, в любую, лишь бы она накрепко запиралась, – отвечал комиссар с бесстрастием, страшно напугавшим бедного Бонасье.
«Увы! Увы! – сказал он себе. – Несчастье обрушилось на мою голову: жена моя, должно быть, совершила какое-нибудь ужасное преступление, меня считают её сообщником и накажут вместе с ней, она, верно, проговорилась, созналась в том, что всё мне рассказала, – женщины так слабы! Камера! Любая! Всё ясно! Ночь коротка, а завтра на плаху, на виселицу! Бог мой, бог мой, сжалься надо мной!»
Не слушая стенаний Бонасье, стенаний, к которым они, впрочем, давно уже привыкли, караульные подхватили арестанта под руки и увели. Комиссар между тем торопливо писал письмо, которое секретарь ожидал в стороне.
Бонасье не смыкал глаз не потому, что темница была ему слишком неприятна, но потому, что волнение его было слишком велико. Всю ночь он просидел на скамейке, вздрагивая от малейшего шума, а когда первые лучи солнца проникли в его камеру, заря показалась ему зловещей.
Вдруг он услышал, что отодвигают засов, и в ужасе вскочил; он подумал, что за ним пришли, чтобы отвести его на эшафот; и когда, вместо ожидаемого им палача, он увидел перед собой комиссара и секретаря, с которыми имел дело накануне, он чуть не бросился им на шею.
– Со вчерашнего вечера дело ваше очень осложнилось, любезнейший, – сказал ему комиссар, – и я вам советую сказать всю правду; одно ваше раскаяние может смягчить гнев кардинала.
– Но я готов сказать вам всё, что знаю. Спрашивайте, сделайте одолжение.
– Прежде всего: где ваша жена?
– Да я же вам сказал, что её похитили.
– Но в пять часов пополудни она благодаря вам сбежала!
– Жена моя сбежала! – вскричал Бонасье. – О несчастная! Господин комиссар, если она и сбежала, то я в том не виноват, клянусь вам.
– Зачем же вы ходили к д’Артаньяну, вашему соседу, с которым вы в этот день имели продолжительный разговор?
– Ах да, господин комиссар, это правда, и я виноват; я был у господина д’Артаньяна.
– Какова была цель вашего посещения?
– Я просил его помочь мне отыскать мою жену: я полагал, что имею право требовать её назад. По-видимому, я ошибся и прошу извинить меня в том.
– А что вам отвечал господин д’Артаньян?
– Он обещал мне свою помощь; но я вскоре убедился, что он меня обманывал.
– Вы обманываете правосудие! Господин д’Артаньян заключил с вами уговор и в силу этого уговора прогнал полицейских, задержавших вашу жену, и укрыл её от преследования.

– Господин д’Артаньян увёз мою жену? Что такое вы говорите?
– К счастью, д’Артаньян в наших руках и вам дадут очную ставку с ним.
– Честное слово, я не желаю ничего лучшего! – воскликнул Бонасье. – Я буду рад увидеть знакомое лицо.
– Введите д’Артаньяна, – приказал комиссар двум солдатам. Солдаты ввели Атоса.
– Господин д’Артаньян, – обратился комиссар к Атосу, – скажите, что происходило между вами и этим господином.
– Но ведь это же, – вскричал взволнованный Бонасье, – не господин д’Артаньян!
– Как! Это не д’Артаньян? – воскликнул комиссар.
– Совсем нет, – отвечал Бонасье.
– Как зовут этого господина? – спросил комиссар.
– Не могу вам сказать: я его не знаю.
– Как, вы его не знаете?
– Нет.
– Вы его никогда не видали?
– Видел, но не знаю, как его зовут.
– Имя ваше? – спросил комиссар.
– Атос, – отвечал мушкетёр.
– Но это же не человеческое имя, это название горы! – вскричал бедный следователь, начинавший терять голову.
– Это моё имя, – сказал спокойно Атос.
– Но вы же говорили, что вас зовут д’Артаньяном.
– Я?
– Да, вы.
– Позвольте, мне сказали: «Вы господин д’Артаньян?» Я отвечал: «Вы так думаете?» Солдаты закричали, что они знают это наверняка. Я не стал их разубеждать. К тому же я мог и ошибиться.
– Милостивый государь, вы оскорбляете правосудие.
– Нисколько, – сказал спокойно Атос.
– Вы господин д’Артаньян.
– Видите, и вы мне это опять говорите.
– Но, – вскричал Бонасье, – я же вам говорю, господин комиссар, что на этот счёт не может быть никакого сомнения. Господин д’Артаньян – мой жилец, и, следовательно, хоть он и не платит мне за квартиру, или, вернее, именно поэтому-то я и должен его знать. Господин д’Артаньян – молодой человек, лет девятнадцати или двадцати, не более, а этому господину по меньшей мере тридцать. Д’Артаньян служит в гвардейской роте господина Дезессара, а этот господин – мушкетёр господина де Тревиля; посмотрите на мундир, господин комиссар, посмотрите на мундир!
– Вы правы, – проворчал комиссар, – ей-богу правы!
В эту минуту распахнулась дверь и гонец в сопровождении надзирателя предстал перед комиссаром и подал ему письмо.
– О, несчастная! – вскричал комиссар, прочитав письмо.
– Что такое? Что вы говорите? О ком вы говорите? Надеюсь, не о моей жене?
– Именно о ней. Славно идёт ваше дело, нечего сказать!
– Послушайте, – вскричал выведенный из себя лавочник, – скажите мне, ради бога, каким же образом дело моё может ухудшиться от того, что делает моя жена, в то время как я нахожусь в тюрьме?
– Потому что её поступки – следствие вашего совместного чудовищного плана!
– Клянусь вам, господин комиссар, что вы жестоко ошибаетесь. Я ровно ничего не знаю о том, что должна была сделать моя жена, я не имею никакого отношения к тому, что она сделала, и если она наделала глупостей, то я отказываюсь от неё, отвергаю её, проклинаю её!
– Послушайте, – сказал Атос комиссару, – если я вам здесь больше не нужен, то отошлите меня куда-нибудь. Ваш Бонасье ужасно скучен.
– Отведите арестованных в их камеры, – сказал комиссар, указывая на Атоса и Бонасье, – и наблюдайте за ними построже.
– Однако, – сказал Атос с обычным своим хладнокровием, – если у вас есть дело до господина д’Артаньяна, то я не вижу, чем могу заменить его.
– Делайте, что я приказал! – вскричал комиссар. – И чтобы всё было в строгой секретности, слышите?
Атос последовал за стражей, пожимая плечами, а Бонасье стенал так, что разжалобил бы тигра.
Галантерейщика отвели в ту же камеру, где он провёл ночь, и оставили его там на целый день. И целый день Бонасье плакал, как настоящий галантерейщик, поскольку, по его же словам, он был абсолютно лишён воинского духа.
Вечером, около девяти часов, когда он наконец решил улечься, он услышал шаги в коридоре. Шаги эти приблизились к его камере, дверь отворилась, явилась стража.
– Ступайте за мной, – сказал полицейский чиновник, шедший за стражей.
– Идти за вами! – вскричал Бонасье. – Идти за вами в такой час! Куда это, боже мой?
– Куда нам велено вас отвести.
– Но это не ответ.
– Это единственный ответ, который мы можем вам дать.
– Боже мой! Боже мой! – бормотал несчастный лавочник. – На этот раз я погиб!
И он безо всякого сопротивления последовал за пришедшей за ним стражей.
Они пошли по тому же коридору, где уже проходили раньше, прошли через двор, потом через флигель и дошли до ворот переднего двора, где ждала карета, окружённая четырьмя верховыми. Бонасье посадили в эту карету, полицейский сел рядом с ним. Дверцы заперли на ключ, и оба оказались в подвижной тюрьме.
Карета двинулась медленно, как траурная колесница. Сквозь запертую решётку пленник видел дома и мостовую, только и всего; но, как настоящий парижанин, Бонасье узнавал каждую улицу по каменным тумбам, вывескам, фонарям. Когда они подъезжали к церкви Святого Павла, месту казни приговорённых к смерти бастильских узников, он едва не лишился чувств и дважды перекрестился. Он полагал, что карета тут остановится, но карета проехала мимо.

Далее он снова испугался, когда проезжали мимо кладбища Святого Иоанна, где хоронили государственных преступников. Одно только его несколько успокаивало, именно то, что прежде чем хоронить их, им обыкновенно рубили головы, а его голова была ещё на плечах. Но когда он заметил, что карета поворачивает к Гревской площади, увидел острые крыши ратуши и карета въехала под свод, он решил, что для него всё кончилось. Хотел тут же исповедаться полицейскому и на отказ его выслушать стал кричать так отчаянно, что полицейский сказал, что если он не перестанет, то ему заткнут рот.
Эта угроза несколько успокоила Бонасье. Если бы его хотели казнить на Гревской площади, то не стоило труда затыкать ему рот, потому что почти приехали к месту казни. И действительно, ужасную площадь миновали не останавливаясь. Оставалось опасаться Трауарского креста; и в самом деле, карета как раз туда и повернула.
Теперь не было уже никакого сомнения: у Трауарского креста казнили мелких преступников. Бонасье льстил себя пустою надеждою, полагая себя достойным Св. Павла или Гревской площади. Его путешествие и судьба должны были кончиться у Трауарского креста! Он ещё не мог видеть этот несчастный крест, но чувствовал, так сказать, его приближение. Когда к нему подъехали шагов на двадцать, Бонасье услышал шум, и карета остановилась. Этого бедный Бонасье, и без того подавленный пережитыми волнениями, вынести уже не был в силах. Он испустил слабый стон, похожий на вздох умирающего, и лишился чувств.
Глава XIV
Незнакомец из Мёна
Причиной подобного стечения народа было не ожидание человека, которого должны повесить, люди сбежались посмотреть на уже повешенного.
Карета, остановясь на минуту, двинулась дальше и сквозь толпу продолжала путь. Въехала на улицу Сен-Оноре, повернула на улицу Добрых Детей и остановилась у невысокого подъезда.
Дверь открылась. Двое солдат приняли на свои руки Бонасье, поддерживаемого полицейским, толкнули его в проход, провели по лестнице и оставили в передней.
Эти передвижения совершались безо всякого участия Бонасье.
Он шёл как во сне, видел предметы сквозь туман. Уши его слышали звуки, не понимая их. Если бы его в эту минуту казнили, он бы не сделал ни малейшего движения, чтоб защищаться, не проронил бы ни звука, чтобы просить пощады.
Он остался сидеть на скамье, прислонясь спиной к стене, свесив руки, там, где его посадили солдаты.
Но так как, осторожно осматриваясь кругом, он не заметил никаких угрожающих предметов, так как ничто не указывало на опасность, так как скамейка была довольно мягкая, стена покрыта красивою кордуанской кожей, а у окна были занавеси из красивой шёлковой материи, перехваченные золотыми скобами, – то Бонасье мало-помалу понял, что страх его преувеличен, и начал поворачивать голову вправо и влево, вверх и вниз.
После этих движений, которым никто не препятствовал, он приободрился, рискнул переставить одну ногу, потом другую.
Потом, опираясь на руки, он поднялся со скамьи и встал на ноги.
В эту минуту офицер приятной наружности приподнял портьеру, продолжая говорить с кем-то, кто находился в соседней комнате, и потом обратился к пленнику.
– Это вас зовут Бонасье? – спросил он.
– Да, господин офицер, – прошептал лавочник, сам ни жив ни мёртв, – к вашим услугам.
– Войдите, – сказал офицер.

Он пропустил Бонасье вперёд. Галантерейщик повиновался и вошёл в комнату, где, по-видимому, его ожидали.
Это был просторный кабинет. Стены были увешаны всякого рода оружием; воздух в комнате был спёртый и душный, и в камине уже горел огонь, хотя был лишь конец сентября. Посредине комнаты стоял четырёхугольный стол, заваленный книгами и бумагами, поверх которых развёрнут был огромный план города Ла-Рошели.
У камина стоял человек среднего роста, высокомерной и гордой наружности, с проницательными глазами, широким лбом и худощавым лицом, которое казалось ещё длиннее от эспаньолки. Хотя ему было не более тридцати шести – тридцати семи лет, волосы, усы и эспаньолка начинали уже седеть. Хотя он был без шпаги, он был во всём похож на военного, и высокие сапоги его, слегка ещё запылённые, показывали, что в этот день он ездил верхом.
Этот человек был Арман Жан дю Плесси, кардинал де Ришелье, не такой, каким обычно его изображают, не согбенный старик, страдающий, словно мученик, расслабленный, с угасшим голосом, погребённый в глубокое кресло, как в ранний гроб, живущий только силой своего гения и поддерживающий борьбу с Европой только вечным напряжением мысли, но такой, каким он был действительно в это время, то есть ловкий и изящный кавалер, уже тогда слабый телом, но поддерживаемый силой духа, сделавшей из него одного из самых необыкновенных людей, когда-либо существовавших. Этот человек, поддержав герцога Неверского в герцогстве Мантуанском, взяв Ним, Кастр и Юзес, готовился изгнать англичан с острова Ре и начать осаду Ла-Рошели.
При первом взгляде ничто в нём не выдавало кардинала, и тем, кто не знал его в лицо, невозможно было угадать, перед кем они находятся.
Бедный галантерейщик остановился у дверей, а глаза описанного нами человека устремились на него и, казалось, хотели проникнуть в глубину прошлого.
– Это и есть Бонасье? – спросил он после минутного молчания.
– Да, монсеньор, – ответил офицер.
– Хорошо. Дайте мне эти бумаги и оставьте нас.
Офицер взял со стола указанные бумаги, подал их кардиналу, низко поклонился и вышел.
Бонасье догадался, что эти бумаги – протоколы допросов его в Бастилии. Время от времени человек у камина поднимал глаза от бумаг и вонзал их, как два кинжала, в самое сердце бедного лавочника.
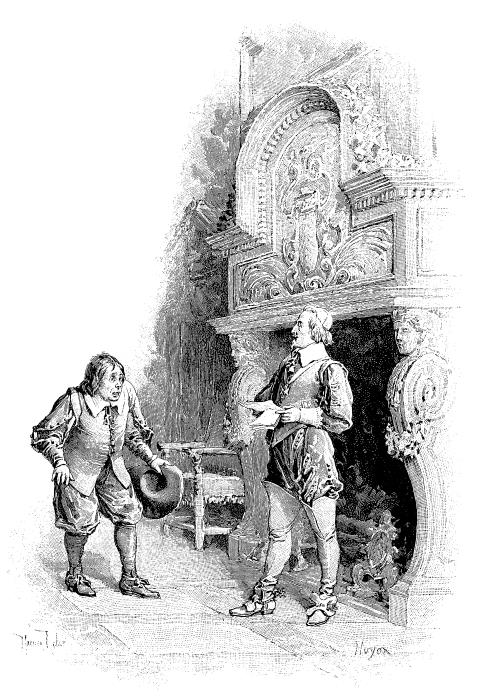
После десятиминутного чтения и десятисекундного обзора кардинал составил своё мнение.
– Эта голова никогда не помышляла о заговорах, – проворчал он. – Но всё равно, посмотрим. Вас обвиняют в государственной измене, – сказал медленно кардинал.
– Мне это уже говорили, монсеньор, – вскричал Бонасье, давая допрашивавшему тот титул, который давал ему офицер, – но клянусь вам, что я ничего об этом не знал!
Кардинал сдержал улыбку.
– Вы были в заговоре с вашей женой, с госпожой де Шеврёз и герцогом Бекингемом.
– Я точно слышал от неё все эти имена, монсеньор, – отвечал купец.
– При каких обстоятельствах?
– Она говорила, что кардинал де Ришелье заманил герцога Бекингема в Париж, чтобы погубить его и с ним королеву.
– Она это говорила?! – гневно вскричал кардинал.
– Да. Но я сказал ей, что она напрасно говорит такие вещи и что его высокопреосвященство не способен…
– Молчите! Вы глупец! – сказал кардинал.
– Это самое мне отвечала и жена моя.
– Знаете ли вы, кто похитил вашу жену?
– Нет.
– Но вы имеете подозрения?
– Да, монсеньор, но эти подозрения, как мне кажется, не понравились господину комиссару, и у меня их больше нет.
– Жена ваша сбежала. Вы это знали?
– Нет, монсеньор. Я узнал об этом уже в тюрьме от господина комиссара, человека очень любезного.
Кардинал опять сдержал улыбку.
– Так вы не знаете, что стало с вашей женой после её бегства?
– Совершенно не знаю. Она, должно быть, вернулась в Лувр.
– В час ночи её там ещё не было.
– Ах, боже мой! Так что же с ней стало?
– Не беспокойтесь, это скоро узнают. От кардинала ничего нельзя скрыть, кардинал знает всё.
– Если так, то полагаете ли вы, монсеньор, что кардинал согласится сообщить мне, что сталось с моей женой?
– Может быть. Но прежде вы должны сознаться во всём, что вам известно об отношениях вашей жены и госпожи де Шеврёз.
– Но я об этом ничего не знаю, монсеньор, я никогда её не видел.
– Когда вы приходили за вашей женой в Лувр, возвращалась ли она прямо домой?
– Почти никогда. Она отправлялась к торговцам полотном, куда я её и водил.
– А сколько было этих торговцев полотном?
– Два, монсеньор.
– Где они живут?
– Один – на улице Вожирар, другой – на улице Лагарп.
– Входили ли вы с ней к ним?
– Никогда, монсеньор. Я ждал её у дверей, на улице.
– А чем она объясняла, что заходит одна?
– Ничем не объясняла. Велела ждать, и я ждал.
– Вы очень снисходительный муж, любезнейший господин Бонасье, – сказал кардинал.
– Он меня назвал «любезнейший господин Бонасье», – проговорил едва слышно лавочник. – Чёрт возьми! Дела, похоже, поправляются!
– Вы бы узнали двери, в которые входила ваша жена?
– Да, монсеньор.
– Помните ли вы номера?
– Номер двадцать пять по улице Вожирар и номер семьдесят пять по улице Лагарп.
– Хорошо, – сказал кардинал.
При этих словах он позвонил в серебряный колокольчик. Вошёл офицер.
– Позовите ко мне Рошфора, – сказал кардинал ему вполголоса. – Пусть он придёт тотчас, если возвратился.
– Граф здесь, – сказал офицер, – и также настоятельно желает переговорить с вашим высокопреосвященством.
– В таком случае пусть зайдёт! – сказал, оживляясь, Ришелье.
Офицер бросился из комнаты с той быстротой, с какой все слуги кардинала исполняли его приказания.
– С вашим высокопреосвященством! – пробормотал Бонасье испуганно.
Не прошло пяти секунд после ухода офицера, как дверь снова открылась и вошёл мужчина.
– Это он! – вскричал Бонасье.
– Кто он? – спросил кардинал.
– Тот, кто похитил мою жену.
Кардинал позвонил вторично. Офицер появился снова.
– Сдайте этого человека на руки солдатам, которые его привели, и пусть он ждёт, пока я его позову опять.
– Нет, монсеньор, нет, это не он! – вскричал Бонасье. – Уверяю вас, я ошибся! Это другой, вовсе на него не похожий. Этот господин, несомненно, честный человек.
– Уведите этого глупца! – приказал кардинал.
Офицер взял Бонасье под руку и повёл в переднюю, где ждали солдаты.
Человек, вошедший к кардиналу, нетерпеливо проводил глазами Бонасье и, лишь только за ним захлопнулась дверь, сказал, приближаясь к кардиналу:
– Они виделись.
– Кто? – спросил Ришелье.
– Она и он.
– Королева с герцогом! – воскликнул кардинал.
– Да!
– И где же?
– В Лувре.
– Вы уверены в том?
– Совершенно уверен.
– Откуда вам это известно?

– От госпожи де Ланнуа, всецело преданной вашему высокопреосвященству, как вы изволите знать.
– Почему же она не сообщила об этом раньше?
– Случайно или из недоверия королева велела ей ночевать в своей спальне и не отпускала её весь день.
– Ну что ж, на этот раз мы побеждены. Постараемся отыграться.
– Я приложу все силы, монсеньор, будьте уверены.
– Как это произошло?
– В половине первого королева была со своими дамами…
– Где?
– В своей спальне…
– Хорошо.
– Вдруг ей подали платок от кастелянши…
– И что же?
– Королева разволновалась и, несмотря на румяна, побледнела.
– Продолжайте же!
– Она, однако, встала и сказала изменившимся голосом: «Подождите меня десять минут, я скоро вернусь». Затем открыла дверь алькова и вышла.
– Почему же госпожа де Ланнуа не уведомила вас тотчас же?
– Ничего ещё не было известно наверняка, к тому же королева сказала: «подождите меня», и она не смела ослушаться королевы.
– И сколько времени королева отсутствовала?
– Три четверти часа.
– Кто-нибудь из дам сопровождал её?
– Только донья Эстефания.
– И королева потом вернулась?
– Да, но только чтобы взять маленький ларчик из розового дерева со своей монограммой, и опять вышла.
– А когда она затем вернулась, ларчик был при ней?
– Нет.
– Знает ли госпожа де Ланнуа, что было в этом ларчике?
– Да, алмазные подвески, которые его величество подарил королеве.
– Значит, она возвратилась без ларчика?
– Да.
– И госпожа де Ланнуа полагает, что она его отдала Бекингему?
– Она в этом уверена.
– Почему?
– Сегодня госпожа де Ланнуа, как камерфрейлина её величества, искала этот ларчик, делая вид, что беспокоится, не находя его, и наконец спросила о нём у королевы.
– И что королева?
– Королева покраснела и сказала, что, сломав накануне один подвесок, велела отдать его в починку своему ювелиру.
– Надо сходить и узнать, так ли это.
– Я ходил.
– И что же ювелир?
– Ювелир ничего об этом не знает.
– Прекрасно, Рошфор! Ещё не всё потеряно, и, может быть… может быть, всё к лучшему!
– Я не сомневаюсь, что гений вашего высокопреосвященства…
– …исправит ошибки его поверенного, не правда ли?
– Я именно это хотел сказать, если б ваше высокопреосвященство дозволили мне закончить фразу.
– А знаете ли вы, где скрывались герцогиня де Шеврёз и герцог Бекингем?
– Нет, монсеньор, мои люди не могли сообщить мне ничего определённого на этот счёт.
– А я знаю.
– Вы, монсеньор?
– Да, или по крайней мере догадываюсь. Один из них, или одна, – на улице Вожирар, другой – на улице Лагарп. Адреса мне известны – номер двадцать пять и семьдесят пять.
– Прикажете ли, ваше высокопреосвященство, чтобы я велел задержать обоих?
– Вы опоздали: они, верно, уже уехали.
– Всё равно, можно хотя бы в этом удостовериться.
– Возьмите десять человек из моей стражи и осмотрите оба дома.
– Иду, монсеньор.
И Рошфор стремительно вышел из комнаты.
Кардинал раздумывал о чём-то, оставшись один, и наконец позвонил в третий раз.
Снова явился тот же офицер.
– Приведите арестованного, – сказал кардинал.
Бонасье ввели вновь, и по знаку кардинала офицер удалился.
– Вы меня обманули, – строго сказал кардинал.
– Я! – вскричал Бонасье. – Я обманул ваше высокопреосвященство?!
– Ваша жена ходила на улицы Вожирар и Лагарп не к торговцам полотном.
– А к кому? Боже мой!
– К герцогине де Шеврёз и герцогу Бекингему.
– Да, – сказал Бонасье, углубляясь в воспоминания, – да, ваше высокопреосвященство правы. Я несколько раз говорил жене, что странно, что торговцы полотном живут в таких домах, где нет и вывески, но всякий раз жена моя начинала смеяться. Ах, ваше высокопреосвященство! – продолжал Бонасье, бросаясь к ногам Ришелье. – Вы кардинал, великий кардинал, гений, которому все поклоняются!
Как ни мелко было торжество над существом таким заурядным, как Бонасье, но кардинал наслаждался им минуту. Потом, почти тотчас, как если бы новая мысль озарила его, он улыбнулся и протянул руку лавочнику.
– Встаньте, друг мой, – сказал он ему, – вы честный человек.
– Кардинал взял меня за руку! Я коснулся руки великого человека! – вскричал взволнованный Бонасье. – Великий человек назвал меня своим другом!
– Да, мой друг, да, – сказал кардинал отеческим тоном, который он умел принимать иногда, но который обманывал только тех, кто его не знал, – и так как вас подозревали напрасно, то вас следует вознаградить. Возьмите этот мешочек со ста пистолями и простите меня.
– Мне простить ваше высокопреосвященство! – воскликнул Бонасье, не решаясь взять мешочек и, по-видимому, полагая, что это только шутка. – Но вы же вольны меня арестовать, вы вольны меня подвергнуть пытке, вольны повесить. Ваша власть, и я бы не мог против этого сказать ни слова. Простить ваше высокопреосвященство? Помилуйте, что вы говорите!

– А вы, любезный господин Бонасье, очень великодушны. Я вижу это и благодарю вас. Итак, вы возьмёте деньги и уйдёте не слишком огорчённым?
– Я ухожу в восхищении, монсеньор.
– Прощайте же, или, лучше, до свиданья, потому что я надеюсь, что мы ещё встретимся.
– Когда угодно будет вашему высокопреосвященству: я всегда к вашим услугам.
– Не сомневайтесь, мы будем видеться часто: я нахожу необыкновенное удовольствие в беседе с вами.
– О, ваше высокопреосвященство!
– До свиданья, господин Бонасье, до свиданья!
Кардинал сделал ему знак рукою, на который Бонасье отвечал, кланяясь до земли. Потом он вышел, пятясь, и из передней до кардинала донеслись его громкие крики:







