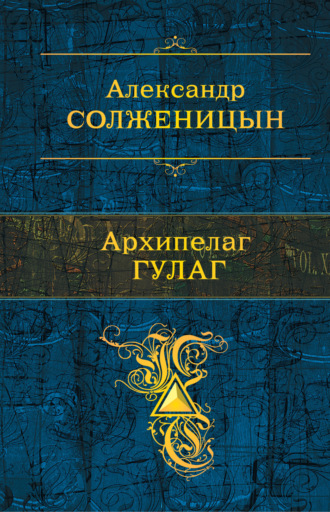
Александр Солженицын
Архипелаг ГУЛАГ
Глава 3
Следствие
Кто б ожидал пыток в XX веке? – Не надо вспоминать.
Следствие – протаскивание через трубу. – Дутые «дела» первых советских лет. – Поиски несуществующих вин. – Не вина, а к какому классу принадлежит. – Оттуда не возвращаются. – Дознание? – Наган на стол. – Ночные допросы. – Жаркие камеры. – Пытки были всегда. – Категории арестантов, подлежащие пыткам. – Группа Ромуальдаса Скирюса. – Личное признание вместо улик, теория Вышинского. – Как внедрялась практика пыток. – Преимущества лёгких приёмов. – Психические приёмы. – Физические. – Их комбинированность. – Безсонница. – Следовательский конвейер. – Клопяной бокс. – Карцеры. – Голод. – Битьё. – Взнуздание.
Неподготовленность к следствию. – Интеллигентские просчёты. – Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, их неведомые статьи. – Как используется одиночество подследственного. – Переполнение следственных камер (1918, 1931, 1937, 1945) и его воздействие. – Некоторые пытки. – Дубинка Рюмина. – За бороду и усы. – Самое страшное. – Камерные уговоры к сдаче. – Аргументы ортодоксов. – Чего сами ортодоксы стоят. – Кто от всего отрёкся. – Бердяев в 1922. – Верующая старушка. – Как держались на следствии прежние русские революционеры. – Сравнение следствия царского и советского.
Моё следствие. – Сажа из лубянских труб.
Органы не ищут доказательств. – Как следователи растягивают следствие. – Допрос у прокурора. – Двести шестая статья. – Подписка о неразглашении.
Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что будет через двадцать – тридцать – сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом[28], опускать человека в ванну с кислотами[29], голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскалённый на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого лёгкого – пытать по неделе безсонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, – ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом.
Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что ещё вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бироне могло быть применено к 10–20 человекам, что совершенно невозможно стало с Екатерины, – то в расцвете великого Двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолёты, появилось звуковое кино и радио, – было совершено не одним злодеем, не в одном потаённом месте, но десятками тысяч специально обученных людей-зверей над беззащитными миллионами жертв.
И только ли ужасен этот взрыв атавизма, теперь увёртливо названный «культом личности»? Или страшно, что в те самые годы мы праздновали пушкинское столетие? Безстыдно ставили эти же самые чеховские пьесы, хотя ответ на них уже был получен? Или страшней ещё то, что и тридцать лет спустя нам говорят: не надо об этом! если вспоминать о страданиях миллионов, это искажает историческую перспективу! если доискиваться до сути наших нравов, это затемняет материальный прогресс! Вспоминайте лучше о задутых домнах, о прокатных станах, о прорытых каналах… нет, о каналах не надо… тогда о колымском золоте, нет, и о нём не надо… Да обо всём можно, но – умеючи, но прославляя…
Непонятно, за что мы клянём инквизицию? Разве, кроме костров, не бывало торжественных богослужений? Непонятно, чем нам уж так не нравится крепостное право? Ведь крестьянину не запрещалось ежедневно трудиться. И он мог колядовать на Рождество, а на Троицу девушки заплетали венки…
* * *
Исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывает 1937 году, видят в создании придуманных вин и в пытках.
Но это неверно, неточно. В разные годы и десятилетия следствие по 58-й статье почти никогда и не было выяснением истины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре: недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека – согнуть, протащить через узкую трубу, где б ему драло бока крючьями арматуры, где б дышать ему было нельзя, так, чтобы взмолился он о другом конце, – а другой-то конец вышвыривал его уже готовым туземцем Архипелага и уже на обетованную землю. (Несмышлёныш вечно упирается, он думает, что из трубы есть выход и назад.)
Чем больше миновало безписьменных лет, тем труднее собрать рассеянные свидетельства уцелевших. А они говорят нам, что создание дутых дел началось ещё в ранние годы Органов, – чтоб ощутима была их постоянная спасительная незаменная деятельность, а то ведь со спадом врагов в час недобрый не пришлось бы Органам отмирать. Как видно из дела Косырева[30], положение ЧК пошатывалось даже в начале 1919. Читая газеты 1918 года, я наткнулся на официальное сообщение о раскрытии страшного заговора группы в 10 человек, которые хотели (только хотели ещё!) втащить на крышу Воспитательного дома (посмотрите, какая там высота) пушки – и оттуда обстреливать Кремль. Их было 10 человек (средь того, может быть, женщины и подростки), неизвестно сколько пушек – и откуда же пушки? калибра какого? и как поднимать их по лестнице на чердак? И как на наклонной крыше устанавливать? – да чтоб не откатывались при стрельбе!.. А между тем эта фантазия, предвосхищающая построения 1937 года, ведь читалась же! и верили!.. Таким же дутым было и «гумилёвское» дело 1921 года[31]. В том же году в Рязанском ЧК вздули ложное дело о «заговоре» местной интеллигенции (но протесты смельчаков ещё смогли достигнуть Москвы, и дело остановили). В том же 1921 был расстрелян весь Сапропелиевый комитет, входивший в Комиссию Содействия Природным Силам. Достаточно зная склад и настроение русских учёных кругов того времени и не загороженные от тех лет дымовой завесой фанатизма, мы, пожалуй, и без раскопок сообразим, какова тому делу цена.
13 ноября 1920 года Дзержинский в письме в ВЧК упоминает, что в ЧК «часто даётся ход клеветническим заявлениям».
Вот вспоминает о 1921 годе Е. Дояренко: лубянская приёмная арестантов, 40–50 топчанов, всю ночь ведут и ведут женщин. Никто не знает своей вины, общее ощущение: хватают ни за что. Во всей камере одна-единственная знает – эсерка. Первый вопрос Ягоды: «Итак, за что вы сюда попали?» – то есть сам скажи, помоги накручивать! И абсолютно то же рассказывают о Рязанском ГПУ 1930 года! Сплошное ощущение, что все сидят ни за что. Настолько не в чем обвинять, что И. Д. Табатерова обвинили… в ложности его фамилии. (И хотя была она самая доподлинная, а врезали ему по ОСО 58–10, 3 года.) Не зная, к чему бы придраться, следователь спрашивал: «Кем работали?» – «Плановиком». – «Пишите объяснительную записку: Планирование на заводе и как оно осуществляется. Потом узнаете, за что арестовали». (Он в записке найдёт какой-нибудь конец.)
Да не приучили ли нас за столько десятилетий, что оттуда не возвращаются? Кроме короткого сознательного попятного движения 1939 года, лишь редчайшие одиночные рассказы можно услышать об освобождении человека в результате следствия. Да и то: либо этого человека вскоре посадили снова, либо выпускали для слежки. Так создалась традиция, что у Органов нет брака в работе. А как же тогда с невинными?..
В «Толковом словаре» Даля проводится такое различие: дознание разнится от следствия тем, что делается для предварительного удостоверения, есть ли основание приступить к следствию.
О святая простота! Вот уж Органы никогда не знали никакого дознания! Присланные сверху списки или первое подозрение, донос сексота или даже анонимный донос[32] влекли за собой арест и затем неминуемое обвинение. Отпущенное же для следствия время шло не на распутывание преступления, а в девяноста пяти случаях на то, чтоб утомить, изнурить, обезсилить подследственного, и хотелось бы ему хоть топором отрубить, только бы поскорее конец.
Уже в 1919 главный следовательский приём был: наган на стол.
Так шло не только политическое, так шло и «бытовое» следствие. На процессе Главтопа (1921) подсудимая Махровская пожаловалась, что её на следствии подпаивали кокаином. Обвинитель[33] парирует: «Если бы она заявила, что с ней грубо обращались, грозили расстрелом, всему этому с грехом пополам ещё можно было бы поверить». Наган пугающе лежит, иногда наставляется на тебя, и следователь не утомляет себя придумыванием, в чём ты виноват, но: «рассказывай, сам знаешь!» Так и в 1927 следователь Хайкин требовал от Скрипниковой, так в 1929 требовали от Витковского. Ничто не изменилось и через четверть столетия. В 1952 всё той же Анне Скрипниковой, уже в её пятую посадку, начальник следственного отдела Орджоникидзевского МГБ Сиваков говорит: «Тюремный врач даёт нам сводки, что у тебя давление 240/120. Этого мало, сволочь (ей шестой десяток лет), мы доведём тебя до трёхсот сорока, чтобы ты сдохла, гадина, без всяких синяков, без побоев, без переломов. Нам только спать тебе не давать!» И если Скрипникова после ночи допроса закрывала днём в камере глаза, врывался надзиратель и орал: «Открой глаза, а то стащу за ноги с койки, прикручу к стенке стоймя!»
И ночные допросы были главными в 1921 году. И тогда же наставлялись автомобильные фары в лицо (Рязанское ЧК, Стельмах). И на Лубянке в 1926 (свидетельство Берты Гандаль) использовалось амосовское отопление для подачи в камеру то холодного, то вонючего воздуха. И была пробковая камера, где и так нет воздуха и ещё поджаривают. Кажется, поэт Клюев побывал в такой, сидела и Берта Гандаль. Участ ник Ярославского восстания 1918 Василий Александрович Касьянов рассказывал, что такую камеру раскаляли, пока из пор тела не выступала кровь; увидев это в глазок, клали арестанта на носилки и несли подписывать протокол. Известны «жаркие» (и «солёные») приёмы «золотого» периода. А в Грузии в 1926 подследственным прижигали руки папиросами; в Метехской тюрьме сталкивали их в темноте в бассейн с нечистотами. Такая простая здесь связь: раз надо обвинить во что бы то ни стало – значит, неизбежны угрозы, насилия и пытки, и чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы вынудить признание. И раз дутые дела были всегда – то насилия и пытки тоже были всегда, это не принадлежность 1937 года, это длительный признак общего характера. Вот почему странно сейчас в воспоминаниях бывших зэков иногда прочесть, что «пытки были разрешены с весны 1938 года»[34]. Духовно-нравственных преград, которые могли бы удержать Органы от пыток, не было никогда. В первый послереволюционный год в «Еженедельнике ВЧК», «Красном мече» и «Красном терроре» открыто дискутировалась применимость пыток с точки зрения марксизма. И, судя по последствиям, ответ был извлечён положительный, хотя и не всеобщий.
Вернее сказать о 1938 годе так: если до этого года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела (пусть и получалось оно легко), – то в 1937–38 ввиду чрезвычайной ситуации (заданные миллионные поступления на Архипелаг требовалось в заданный сжатый срок прокрутить через аппарат индивидуального следствия, чего не знали массовые потоки «кулаческий» и национальные) насилия и пытки были разрешены следователям неограниченно, на их усмотрение, как требовала их работа и заданный срок. Не регламентировались при этом и виды пыток, допускалась любая изобретательность.
В 1939 такое всеобщее широкое разрешение было снято, снова требовалось бумажное оформление на пытку (впрочем, простые угрозы, шантаж, обман, выматывание безсонницей и карцером не запрещались никогда). Но уже с конца войны и в послевоенные годы были декретированы определённые категории арестантов, по отношению к которым заранее разрешался широкий диапазон пыток. Сюда попали националисты, особенно – украинцы и литовцы, и особенно в тех случаях, где была или мнилась подпольная цепочка и надо было её всю вымотать, все фамилии добыть из уже арестованных. Например, в группе Ромуальдаса Прано Скирюса было около пятидесяти литовцев. Они обвинялись в 1945 в том, что расклеивали антисоветские листовки. Из-за недостатка в то время тюрем в Литве их отправили в лагерь близ Вельска Архангельской области. Одних там пытали, другие не выдерживали двойного следственно-рабочего режима, но результат таков: все пятьдесят человек до единого признались. Прошло некоторое время, и из Литвы сообщили, что найдены настоящие виновники листовок, а эти все ни при чём! – В 1950 я встретил на Куйбышевской пересылке украинца из Днепропетровска, которого в поисках «связи» и лиц пытали многими способами, включая стоячий карцер с жёрдочкой, просовываемой для опоры (поспать) на 4 часа в сутки. После войны же истязали члена-корреспондента Академии Наук Левину.
И ещё было бы неверно приписывать 37-му году то «открытие», что личное признание обвиняемого важнее всяких доказательств и фактов. Это уже в 20-х годах сложилось. А к 1937 лишь приспело блистательное учение Вышинского. Впрочем, оно было тогда низвещено только следователям и прокурорам для их моральной твёрдости, мы же, все прочие, узнали о нём ещё двадцатью годами позже – узнали, когда оно стало обругиваться в придаточных предложениях и второстепенных абзацах газетных статей как широко и давно всем известное.
Оказывается, в тот грознопамятный год в своём докладе, ставшем в специальных кругах знаменитым, Андрей Януарьевич (так и хочется обмолвиться Ягуарьевич) Вышинский в духе гибчайшей диалектики (которой мы не разрешаем ни государственным подданным, ни теперь электронным машинам, ибо для них да есть да, а нет есть нет) напомнил, что для человечества никогда не возможно установить абсолютную истину, а лишь относительную. И отсюда он сделал шаг, на который юристы не решались две тысячи лет: что, стало быть, и истина, устанавливаемая следствием и судом, не может быть абсолютной, а лишь относительной. Поэтому, подписывая приговор о расстреле, мы всё равно никогда не можем быть абсолютно уверены, что казним виновного, а лишь с некоторой степенью приближения, в некоторых предположениях, в известном смысле. (Может быть, сам Вышинский не меньше своих слушателей нуждался тогда в этом диалектическом утешении. Крича с прокурорской трибуны «всех расстрелять как бешеных собак!» – он-то, злой и умный, понимал, что подсудимые невиновны. С тем большей страстью, вероятно, он и такой кит марксистской диалектики, как Бухарин, предавались диалектическим украшениям вокруг судебной лжи: Бухарину слишком глупо и безпомощно было погибать совсем невиновному – он даже нуждался найти свою вину! – а Вышинскому приятнее было ощущать себя логистом, чем неприкрытым подлецом.)
Отсюда – самый деловой вывод: что напрасной тратой времени были бы поиски абсолютных улик (улики все относительны), несомненных свидетелей (они могут и разноречить). Доказательства же виновности относительные, приблизительные, следователь может найти и без улик и без свидетелей, не выходя из кабинета, «опираясь не только на свой ум, но и на своё партийное чутьё, свои нравственные силы» (то есть на преимущества выспавшегося, сытого и неизбиваемого человека) «и на свой характер» (то есть волю к жестокости)!
Конечно, это оформление было куда изящнее, чем инструкция Лациса. Но суть та же.
И только в одном Вышинский не дотянул, отступил от диалектической логики: почему-то пулю он оставил абсолютной…
Так, развиваясь по спирали, выводы передовой юриспруденции вернулись к доантичным или средневековым взглядам. Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании её подследственным[35].
Однако простодушное Средневековье, чтобы вынудить желаемое признание, шло на драматические картинные средства: дыбу, колесо, жаровню, ерша, посадку на кол. В Двадцатом же веке, используя и развитую медицину, и немалый тюремный опыт (кто-ни будь пресерьёзно защитил на этом диссертации), признали такое сгущение сильных средств излишним, при массовом применении – громоздким. И кроме того…
И кроме того, очевидно, ещё было одно обстоятельство: как всегда, Сталин не выговаривал последнего слова, подчинённые сами должны были догадаться, а он оставлял себе шакалью лазейку отступить и написать «Головокружение от успехов». Планомерное истязание миллионов предпринималось всё-таки впервые в человеческой истории, и при всей силе своей власти Сталин не мог быть абсолютно уверен в успехе. На огромном материале опыт мог пройти иначе, чем на малом. Во всех случаях Сталин должен был остаться в ангельски-чистых ризах. (Но в циркулярах ЦК 1937 и 1939 годов указание о «физическом воздействии» было.)
Поэтому, надо думать, не существовало такого перечня пыток и издевательств, который в типографски отпечатанном виде вручался бы следователям. А просто требовалось, чтобы каждый следственный отдел в заданный срок поставлял Трибуналу заданное число во всём сознавшихся кроликов. А просто говорилось (устно, но часто), что все меры и средства хороши, раз они направлены к высокой цели; что никто не спросит со следователя за смерть подследственного; что тюремный врач должен как можно меньше вмешиваться в ход следствия. Вероятно, устраивали товарищеский обмен опытом, «учились у передовых»; ну и объявлялась «материальная заинтересованность» – повышенная оплата за ночные часы, премиальные за сжатие сроков следствия; ну и предупреждалось, что следователи, которые с заданием не справятся… А теперь если бы в каком-нибудь облНКВД произошёл бы провал, то и его начальник был бы чист перед Сталиным: он не давал прямых указаний пытать! И вместе с тем обезпечил пытки!
Понимая, что старшие страхуются, часть рядовых следователей (не те, кто остервенело упиваются) тоже старались начинать с методов более слабых, а в наращивании избегать тех, которые оставляют слишком явные следы: выбитый глаз, оторванное ухо, перебитый позвоночник, да даже и сплошную синь тела.
Вот почему в 1937 году мы не наблюдаем – кроме безсонницы – сплошного единства приёмов в разных областных управлениях, у разных следователей одного управления. Есть молва, что отличались жестокостью пыток Ростов-на-Дону и Краснодар. В Краснодаре что придумали оригинальное: вынуждали подписывать пустые листы бумаги, а затем уже сами заполняли ложью. Впрочем, зачем пытки: в 1937 там не было дезинфекций, тиф, трупы в людской тесноте лежали по пять дней, кто в камерах сходил с ума – тех в коридоре добивали палками.
Общее было всё же то, что преимущество отдавалось средствам, так сказать, лёгким (мы сейчас их увидим), и это был путь безошибочный. Ведь истинные пределы человеческого равновесия очень узки, и совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым.
Попробуем перечесть некоторые простейшие приёмы, которые сламывают волю и личность арестанта, не оставляя следов на его теле.
Начнём с методов психических. Для кроликов, никогда не уготовлявших себя к тюремным страданиям, – это методы огромной и даже разрушительной силы. Да будь хоть ты и убеждён, так тоже нелегко.
1. Начнём с самих ночей. Почему это ночью происходит всё главное обламывание душ? Почему это с ранних своих лет Органы выбрали ночь? Потому что ночью, вырванный изо сна (даже ещё не истязаемый безсонницей), арестант не может быть уравновешен и трезв по-дневному, он податливей.
2. Убеждение в искреннем тоне. Самое простое. Зачем игра в кошки-мышки? Посидев немного среди других подследственных, арестант ведь уже усвоил общее положение. И следователь говорит ему лениво-дружественно: «Видишь сам, срок ты получишь всё равно. Но если будешь сопротивляться, то здесь, в тюрьме, дойдёшь, потеряешь здоровье. А поедешь в лагерь – увидишь воздух, свет… Так что лучше подписывай сразу». Очень логично. И трезвы те, кто соглашаются и подписывают, если… Если речь идёт только о них самих! Но – редко так. И борьба неизбежна.
Другой вариант убеждения – для партийца. «Если в стране недостатки и даже голод, то как большевик вы должны для себя решить: можете ли вы допустить, что в этом виновата вся партия? или советская власть?» – «Нет конечно!» – спешит ответить директор льноцентра. – «Тогда имейте мужество и возьмите вину на себя!» И он берёт!
3. Грубая брань. Нехитрый приём, но на людей воспитанных, изнеженных, тонкого устройства, может действовать отлично. Мне известны два случая со священниками, когда они уступали простой брани. У одного из них (Бутырки, 1944) следствие вела женщина. Сперва он в камере не мог нахвалиться, какая она вежливая. Но однажды пришёл удручённый и долго не соглашался повторить, как изощрённо она стала загибать, заложив колено за колено. (Жалею, что не могу привести здесь одну её фразочку.)
4. Удар психологическим контрастом. Внезапные переходы: целый допрос или часть его быть крайне любезным, называть по имени-отчеству, обещать все блага. Потом вдруг размахнуться пресс-папье: «У, гадина! Девять грамм в затылок!» – и, вытянув руки, как для того, чтобы вцепиться в волосы, будто ногти ещё иголками кончаются, надвигаться (против женщин приём этот очень хорош).
В виде варианта: меняются два следователя, один рвёт и терзает, другой симпатичен, почти задушевен. Подследственный, входя в кабинет, каждый раз дрожит – какого увидит? По контрасту хочется второму всё подписать и признать, даже чего не было.
5. Унижение предварительное. В знаменитых подвалах Ростовского ГПУ («Тридцать третьего номера») под толстыми стёклами уличного тротуара (бывшее складское помещение) заключённых в ожидании допроса клали на несколько часов ничком в общем коридоре на пол с запретом приподнимать голову, издавать звуки. Они лежали так, как молящиеся магометане, пока выводной не трогал их за плечо и не вёл на допрос. – А. О-ва не давала на Лубянке нужных показаний. Её перевели в Лефортово. Там на приёме надзирательница велела ей раздеться, якобы для процедуры унесла одежду, а её в боксе заперла голой. Тут пришли надзиратели мужчины, стали заглядывать в глазок, смеяться и обсуждать её стати. – Опрося, наверно много ещё можно собрать примеров. А цель одна: создать подавленное состояние.
6. Любой приём, приводящий подследственного в смятение. Вот как допрашивался Ф. И. В. из Красногорска Московской области (сообщил И. А. Пупышев). Следовательница в ходе допроса сама обнажалась перед ним в несколько приёмов (стриптиз!), но всё время продолжала допрос как ни в чём не бывало, ходила по комнате и к нему подходила и добивалась уступить в показаниях. Может быть, это была её личная потребность, а может быть, и хладнокровный расчёт: у подследственного мутится разум, и он подпишет! А грозить ей ничего не грозило: есть пистолет, звонок.
7. Запугивание. Самый применяемый и очень разно образный метод. Часто в соединении с заманиванием, обещанием – разумеется, лживым. 1924 год: «Не сознаётесь? Придётся вам проехаться в Соловки. А кто сознаётся, тех выпускаем». 1944 год: «От меня зависит, какой ты лагерь получишь. Лагерь лагерю рознь. У нас теперь и каторжные есть. Будешь искренен – пойдёшь в лёгкое место, будешь запираться – двадцать пять лет в наручниках на подземных работах!» – Запугивание другой, худшею тюрьмой: «Будешь запираться, перешлём тебя в Лефортово (если ты на Лубянке), в Сухановку (если ты в Лефортово), там с тобой не так будут разговаривать». А ты уже привык: в этой тюрьме как будто режим и ничего, а что за пытки ждут тебя там? да переезд… Уступить?..
Запугивание великолепно действует на тех, кто ещё не арестован, а вызван в Большой Дом пока по повестке. Ему (ей) ещё много чего терять, он (она) всего боится – боится, что сегодня не выпустят, боится конфискации вещей, квартиры. Он готов на многие показания и уступки, чтобы избежать этих опасностей. Она, конечно, не знает Уголовного кодекса, и уж как самое малое в начале допроса подсовывается ей листок с подложной выдержкой из Кодекса: «Я предупреждена, что за дачу ложных показаний… 5 (пять) лет заключения» (на самом деле – статья 95 – до двух лет)… за отказ от дачи показаний – 5 (пять) лет… (на самом деле статья 92 – до трёх месяцев, и то – исправительно-трудовых работ, а не заключения). Здесь уже вошёл и всё время будет входить ещё один следовательский метод:
8. Ложь. Лгать нельзя нам, ягнятам, а следователь лжёт всё время, и к нему эти все статьи не относятся. Мы даже потеряли мерку спросить: а что ему за ложь? Он сколько угодно может класть перед нами протоколы с подделанными подписями наших родных и друзей – и это только изящный следовательский приём.
Запугивание с заманиванием и ложью – основной приём воздействия на родственников арестованного, вызванных для свидетельских показаний. «Если вы не дадите таких (какие требуются) показаний, ему будет хуже… Вы его совсем погубите… (каково это слышать матери?). Только подписанием этой (подсунутой) бумаги вы можете его спасти» (погубить)[36].
9. Игра на привязанности к близким – прекрасно работает и с подследственным. Это даже самое действенное из запугиваний, на привязанности к близким можно сломить безстрашного человека (о, как это провидено: «враги человеку домашние его»!). Помните того татарина, который всё выдержал – и свои муки, и женины, а муки дочернии не выдержал?.. В 1930 следовательница Рималис угрожала так: «Арестуем вашу дочь и посадим в камеру с сифилитичками!»
Угрожают посадить всех, кого вы любите. Иногда со звуковым сопровождением: твоя жена уже посажена, но дальнейшая её судьба зависит от твоей искренности. Вот её допрашивают в соседней комнате, слушай! И действительно, за стеной женский плач и визг (а ведь они все похожи друг на друга, да ещё через стену, да и ты-то взвинчен, ты же не в состоянии эксперта; иногда это просто проигрывают пластинку с голосом «типовой жены» – сопрано или контральто, чьё-то рацпредложение). Но вот уже без подделки тебе показывают через стеклянную дверь, как она идёт безмолвная, горестно опустив голову, – да! твоя жена! по коридорам госбезопасности! ты погубил её своим упрямством! она уже арестована! (А её просто вызвали по повестке для какой-то пустячной процедуры, в уговоренную минуту пустили по коридору, но велели: головы не подымайте, иначе отсюда не выйдете!) – А то дают читать тебе её письмо, точно её почерком: я отказываюсь от тебя! после того мерзкого, что мне о тебе рассказали, ты мне не нужен! (А так как и жёны такие, и письма такие в нашей стране отчего ж невозможны, то остаётся тебе сверяться только с душой: такова ли и твоя жена?)
От В. А. Корнеевой следователь Гольдман (1944) вымогал показания на других людей угрозами: «дом конфискуем, а твоих старух выкинем на улицу». Убеждённая и твёрдая в вере Корнеева нисколько не боялась за себя, она готова была страдать. Но угрозы Гольдмана были вполне реальны для наших законов, и она терзалась за близких. Когда к утру после ночи отвергнутых и изорванных протоколов Гольдман начинал писать какой-нибудь четвёртый вариант, где обвинялась только уже одна она, Корнеева подписывала с радостью и ощущением душевной победы. Уж простого человеческого инстинкта – оправдаться и отбиться от ложных обвинений – мы себе не уберегаем, где там! Мы рады, когда удаётся всю вину принять на себя[37].
Как никакая классификация в природе не имеет жёстких перегородок, так и тут нам не удастся чётко отделить методы психические от физических. Куда, например, отнести такую забаву:
10. Звуковой способ. Посадить подследственного метров за шесть, за восемь и заставлять всё громко говорить и повторять. Уже измотанному человеку это нелегко.
Или сделать два рупора из картона и вместе с пришедшим товарищем следователем, подступя к арестанту вплотную, кричать ему в оба уха: «Сознавайся, гад!» Арестант оглушается, иногда теряет слух. Но это неэкономичный способ, просто следователям в однообразной работе тоже хочется позабавиться, вот и придумывают кто во что горазд.
11. Щекотка. Тоже забава. Привязывают или придавливают руки и ноги и щекочут в носу птичьим пером. Арестант взвивается, у него ощущение, будто сверлят в мозг.
12. Гасить папиросу о кожу подследственного (уже названо выше).
13. Световой способ. Резкий круглосуточный электрический свет в камере или боксе, где содержится арестант, непомерно яркая лампочка для малого помещения и белых стен (электричество, сэкономленное школьниками и домохозяйками!). Воспаляются веки, это очень больно. А в следственном кабинете на него снова направляют комнатные прожектора.
14. Такая придумка. Чеботарёва в ночь под 1 мая 1933 в Хабаровском ГПУ всю ночь, двенадцать часов, – не допрашивали, нет: водили на допрос! Такой-то – руки назад! Вывели из камеры, быстро вверх по лестнице, в кабинет к следователю. Выводной ушёл. Но следователь, не только не задав ни единого вопроса, а иногда не дав Чеботарёву и присесть, берёт телефонную трубку: заберите из 107-го! Его берут, приводят в камеру. Только он лёг на нары, гремит замок: Чеботарёв! На допрос! Руки назад! А там: заберите из 107-го!
Да вообще, методы воздействия могут начинаться задолго до следственного кабинета.
15. Тюрьма начинается с бокса, то есть ящика или шкафа. Человека, только что схваченного с воли, ещё в лёте его внутреннего движения, готового выяснять, спорить, бороться, – на первом же тюремном шаге захлопывают в коробку, иногда с лампочкой и где он может сидеть, иногда тёмную и такую, что он может только стоять, ещё и придавленный дверью. И держат его здесь несколько часов, полсуток, сутки. Часы полной неизвестности! – может, он замурован здесь на всю жизнь? Он никогда ничего подобного в жизни не встречал, он не может догадаться! Идут эти первые часы, когда всё в нём ещё горит от неостановленного душевного вихря. Одни падают духом – и вот тут-то делать им первый допрос! Другие озлобляются – тем лучше, они сейчас оскорбят следователя, допустят неосторожность – и легче намотать им дело.
16. Когда не хватало боксов, делали ещё и так. Елену Струтинскую в Новочеркасском НКВД посадили на шесть суток в коридоре на табуретку – так, чтоб она ни к чему не прислонялась, не спала, не падала и не вставала. Это на шесть суток! А вы попробуйте просидите шесть часов.
Опять-таки в виде варианта можно сажать заключённого на высокий стул, вроде лабораторного, так чтоб ноги его не доставали до пола, они хорошо тогда затекают. Дать посидеть ему часов восемь-десять.
А то во время допроса, когда арестант весь на виду, посадить его на обыкновенный стул, но вот как: на самый кончик, на рёбрышко сиденья (ещё вперёд! ещё вперёд!), чтоб он только не сваливался, но чтоб ребро больно давило его весь допрос. И не разрешать ему несколько часов шевелиться. Только и всего? Да, только и всего. Испытайте.







