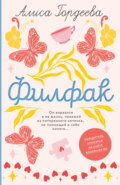Алиса Гордеева
Простые слова
– Нана ничего не помнит, – вмешивается Ветров, отчаянно выискивая момент всё рассказать. Вот только папе ни до кого нет дела.
Наверно, я впервые вижу отца таким потерянным и беспомощным. Срываюсь с места и спешу к нему. Хочу обнять, попросить защиты для Савы и, наверно, извиниться, но замираю в полушаге от него, задыхаясь под тяжестью испуганного взгляда. Не моргая, папа смотрит на меня, будто видит впервые в жизни. Не слушает Ветрова, позабыл про полицию – просто смотрит. А потом протягивает ладонь к моей щеке. Отчего-то его прикосновения отзываются едкими пощипываниями, словно по коже прошлись грубой мочалкой.
– Ай, – невольно вырывается тонкий стон.
– Сава, – не прекращая разглядывать меня, надтреснутым и тихим голосом отец обращается к Ветрову. – Что именно не помнит моя дочь?
– Не переживайте. То, что вы видите, – самое страшное.
– Не переживать? – вновь взрывается отец, резко убрав ладонь с моего лица. – Марьяну избили, а ты предлагаешь не переживать?
Ветров хмыкает, но вовремя прикусывает язык.
Я же понимаю, что должна заступиться за Саву, но сама пребываю в растерянности.
– Избили? Меня? Кто? Булатов? – хватаюсь за лицо и, правда, прикосновения отзываются жгучей болью. Разворачиваюсь на пятках и бегу к зеркальной двери шкафа-купе, чтобы оценить размер бедствия.
– Игорь Александрович, можем мы с вами поговорить наедине? – настойчиво требует Ветров, пока я схожу с ума от алеющих ссадин на своей щеке. – Хватит с Марьяны потрясений. Я всё объясню. Если сочтёте нужным сдать меня полиции – дело ваше.
– Я тоже имею право знать! – дрожащим голосом вставляю свои пять копеек, продолжая ужасаться отражению в зеркале. И почему Сава сразу мне не сказал, что всё настолько плохо?
– Пошли! – громыхает отец, хватая Ветрова под локоть. – А ты, Марьяна, сидишь здесь. Поняла?
– Но, папа! – семеню за ними, хотя и знаю, что слово отца – закон.
– Никаких «но»! – хлопает дверью перед моим носом старик, оставляя и дальше изнывать в неизвестности. Неужели отцу невдомёк, что
сидеть без дела и изводить себя догадками – выше моих сил.
Нет, первые минут пять пролетают незаметно, пока любуюсь отвратительными отметинами на своей щеке. Вкупе с зарёванным лицом и спутанными волосами они создают яркий образ жертвы насилия. Единственное, что хоть как-то не даёт упасть духом – чёрная толстовка, доходящая длиной почти до колен. Пропитанная Ветровым, она согревает и дарит надежду, что всё образуется.
Ветров… От мыслей о нём голова идёт кру́гом. Раз сто подбегаю к двери с безумным намерением нарушить волю отца, чтобы быть рядом с Савой. Но ровно столько же отхожу назад: боюсь, что своим появлением только усугублю положение парня.
Позабыв про маникюр, раздражённо грызу ногти и неприкаянно хожу из угла в угол. А потом всё же сдаюсь.
На цыпочках, вымеряя каждый шаг, крадусь к лестнице и жадно прислушиваюсь к едва различимым голосам из гостиной.
– Свидетели утверждают, что удары вы наносили с особой жестокостью, – чужой скрипучий голос пропитан безразличием и скукой. – И даже, когда вас просили остановиться, вы продолжали бить потерпевшего, пока тот не перестал подавать признаков жизни.
– Неправда, – волнение Савы передаётся и мне. – Булатов был в сознании, когда я ушёл.
– Савелий! – а вот и папа. Как всегда, жёсткий и строгий. – Мой сын отвечать на ваши вопросы будет только в присутствии адвоката.
Впервые его суровый нрав приходится мне по душе, а брошенное, как в порядке вещей, слово «сын» и вовсе вызывает улыбку.
– Не хотите с нами по-хорошему, – гнусавит очередной страж порядка. – Значит, гражданин Ветров, проедет с нами. Адвоката в отделение присылайте.
– Какое ещё отделение? Что вы меня за дурака держите! – повышает голос папа. – Савелий несовершеннолетний!
– И что? Вот постановление, ознакомьтесь, – усмехается первый полицейский и шуршит бумагами. – Сколько у тебя приводов в полицию было, а, парень? По тебе давно колония плачет. А за то, что сына губернатора на больничную койку уложил, никаких поблажек не жди. Считай, собственноручно подписал себе приговор.
– Ах, вот оно, откуда руки растут! – голос отца эхом отдаётся от стен. – Ну так, на пару с сыночком губернатора и сядет. Или думаете, я спущу этому уроду с рук попытку изнасилования моей дочери?
– Какого ещё изнасилования? – говорит в нос один из полицейских.
– Где доказательства? – пренебрежительно усмехается другой.
– Будут вам доказательства! – вздрагиваю от отцовского баса. – За это не переживайте! Лучше Алексея Михайловича предупредите, что если на тормозах побои своего щенка не спустит, то жизнь парню сильно подпортит, как и свою репутацию – не отмоется!
– Если у вас есть что предъявить пострадавшему, пожалуйста, пишите заявление – разберёмся. А пока это просто слова, гражданин Ветров отправится с нами.
– Савелий, сядь обратно! – командует папа, а я мысленно умоляю Ветрова не перечить. Хватит, показал уже свой характер! – Я повторяю: мой сын не покинет стен этого дома. И ваши писульки мне по барабану.
– Это не проблема, Игорь Александрович, – нахальный смешок слетает с губ полицейского. – Мы и вас заберём. За воспрепятствование следствию. Статья 294…
– Ты мне, что ли, угрожать вздумал? – вскипает папа. – Ну давай, попробуй – забери!
Не знаю, что там происходит, но помимо ругани слышу какой-то грохот.
– Не надо, Игорь Александрович, пожалуйста, – вступается за отца Сава. – Мне не впервой. Всё нормально. А вы здесь Нане нужнее.
– Парень дело говорит, – скрипит гнусавый голос. – Поехали, Ветров.
– Нет! Постойте! – верещу не своим голосом и ватными ногами перебираю ступени. – Я была там. Я свидетель!
– Марьяна! – сквозь зубы рычит отец. – Я тебе что велел?
– Папа, – вместо слов выходит неразборчивый писк. – Сава ни в чём не виноват.
Меня колотит, когда возле прихожей замечаю Ветрова, понуро опустившего голову. В окружении двух здоровенных лбов в форме Сава кажется безмерно одиноким и беззащитным. Как и отец. Тот тоже выглядит потерянным и беспомощным. Зато уверенные в своей правоте невменяемые рожи полицейских полны решимости арестовать ни в чём не повинного парня. И даже мой внешний вид не трогает их душ. Впрочем, я не уверена, что они у них есть.
– Я знаю, милая! – запустив пятерню в поредевшие и местами поседевшие волосы, отец подходит ближе и прижимает меня к себе.
– Сава просто за меня заступился, – чёрт, как же сложно кричать в пустоту. – Если бы не он…
Нервное напряжение даёт о себе знать ручьями горьких слёз, бесцеремонно стекающим по щекам. Я так хочу помочь, но по равнодушным глазам церберов вижу, что бесполезно.
– Тише, дочь, тише! – отец размашисто водит широкой ладонью по моей спине. И если поначалу мне кажется, что он пытается меня успокоить, то уже в скором времени понимаю: нет! Таким образом папа просто удерживает меня на месте. Чувствует, как я рвусь к Ветрову, и не даёт сделать ни шагу.
– Свою версию, гражданочка, будете озвучивать, когда вас об этом попросят, – самодовольно хмыкает один из незнакомцев, попутно хлопая Саву по плечу. – Ветров, живее одевайся, а то босиком побежишь!
– Папа, сделай что-нибудь! – только сейчас понимаю, что спустилась зря: вместо того, чтобы биться за Саву, теперь отец защищает меня.
– Не волнуйся, Нана! – на мгновение повернувшись ко мне, просит Ветров. – В отделении во всём разберутся, вот увидишь.
В любимых глазах не замечаю страха, лишь лёгкое беспокойство. Мне бы его уверенность! Чувствую себя виноватой и совершенно бесполезной: что бы я сейчас ни сказала – всё мимо. Меня не послушают. Не услышат. Саву всё равно заберут.
– Я люблю тебя, – шепчу, глотая слёзы, и продолжаю тонуть в бездне его отчаянных глаз. В эту секунду, разделяющую нашу жизнь на «до» и «после», это единственное, что имеет для меня значение.
– И я тебя, Нана, – улыбается краешком разбитой губы Сава. – Очень.
– Ветров! Живее! – как бездомного щенка, блюститель порядка хватает парня за шиворот и выталкивает из квартиры.
– Папа! – истошный визг срывается в неразборчивый хрип, а истерика накрывает меня с головой. – Сделай что-нибудь, папа!
Смутно помню, как на мои крики выбежала мама, как губ касалась вода с привкусом перечной мяты и пустырника. Сквозь пелену беспрестанных слёз никак не могла разглядеть отцовского лица, да и не хотела. Он отступил, сдался, предал! Я что-то кричала , наплевав на приличия, обвиняла во всём себя, Булатова, отца, а потом тихо скулила и умоляла помочь Саве, не бросать его одного. Оглушаемая бешеным биением собственного сердца, я почти не слышала слов, а потом провалилась в какую-то вязкую темноту, уснув на руках мамы, как когда-то давно.
Не знаю, как долго я спала, но прихожу в себя всё там же, в гостиной. В воздухе витает аромат свежесваренного кофе и удушающий запах табака. Неловко сажусь, кутаясь в плед, и осматриваюсь: в комнате идеальный порядок, на кухне в деловом костюме и при полном параде сидит отец и, уперевшись взглядом в экран смартфона, спокойно завтракает. А мама, как обычно, суетится, нарезая ветчину и помешивая шкворчащий на сковороде бекон. Всё как всегда. Только Ветрова до дрожи не хватает.
– Где Сава? – осипшим голосом разрываю привычную тишину семейного утра.
– Проснулась? – исподлобья смотрит на меня отец. Взгляд замученный, уставший, но незлой. – Вот и хорошо. Сейчас поедем.
– К Ветрову? – босыми ногами неуклюже шлёпаю в столовую. Голова гудит, тело ломит, но всё это мелочи по сравнению с едкой солью воспоминаний.
– Нет, – качает головой папа и отпивает из чашки кофе. – В больницу.
– Зачем? – сажусь напротив и тянусь за кусочком сыра.
– Положи на место! – грозно рыкает папа, а потом чуть мягче добавляет: – Сначала сдашь анализы.
– Какие анализы?
– Савелий сказал, что щенок губернаторский подмешал тебе в напиток какую-то дрянь, – отец сжимает чашку так, костяшки пальцев на его руке белеют на глазах. – По уму сразу нужно было к медикам, но Ирина уговорила меня, дать тебе выспаться.
Перевожу взгляд на маму. Она всё так же режет ветчину: господи, куда нам столько?
– А что с Ветровым?
– Адвокат работает, – отец снова концентрирует внимание на смартфоне. – Савелий перестарался. Избежать наказания не получится.
– Как же так? – в уголках глаз моментально собираются слёзы, а нарезанной ветчины становится всё больше и больше. – Он же меня спасал, папа!
– У Булатова сотрясение, переломаны рёбра и нос, множественные ушибы и ссадины – парень похож на отбивную, – вздыхает папа. – А Ветрову грозит срок, Марьяна. Реальный срок.
– И что? Ничего нельзя сделать? – нервно натягиваю рукава Савиной толстовки до упора, не желая верить словам отца.
– Не знаю, дочка! – отодвинув от себя чашку, папа ставит локти на стол и подбородком упирается в сложенные в замок ладони. – Адвокат попытается доказать, что у Савелия были мотивы, что иначе в той ситуации он поступить не мог, но всё это займёт много времени, а результат нам никто гарантировать не может.
Мама наконец перестаёт кромсать ветчину и, составив сковороду с пригоревшим беконом в раковину, поспешно уходит.
– Неужели всё настолько безнадёжно, папа?
– У нас только один выход, Марьяна, – заставить Булатова забрать заявление.
– Антон не заберёт, – обречённо качаю головой. – Ты его плохо знаешь! Этот урод сделает всё, чтобы отомстить Саве.
– А при чём здесь Антон, Марьяна? – расплывается в усталой улыбке папа. – Я говорил о его отце.
– И как мы заставим губернатора это сделать?
– Не мы – ты.
– Я ничего не понимаю, папа.
– Прямо сейчас мы поедем в больницу и попытаемся найти в твоей крови что-нибудь запрещённое, а за одним засвидетельствуем побои. Ну а потом, если всё ещё не раздумаешь спасать Ветрова, тебе придётся написать встречное заявление в полицию и пообщаться с прессой.
– С прессой? – чуть не падаю со стула. – Это обязательно?
– Иначе твоё заявление затеряется где-нибудь в архиве, дочка.
Лучше бы отец снова терзал взглядом смартфон, а не пристально следил за моим смятением.
– Но тогда каждая собака в городе будет знать о пережитом позоре. Разве не этого ты всегда боялся?
– А ты? Ты не боишься?
К горлу подкатывает противная тошнота то ли от голода, то ли от пугающей перспективы стать посмешищем не только в классе, но и во всём городе.
– Боюсь, – отвечаю честно и, шмыгая носом, разрываю зрительный контакт с отцом. Чёрт, я стала его точной копией: такая же жалкая и трусливая.
– Что ж, Марьяна, это твой выбор, – усмехается папа и встаёт из-за стола. – Тогда остаётся надеяться на адвоката.
Глава 22. Жестокая правда
Марьяна.
Тяжёлые шаги отца назойливым гулом отдаются в ушах. Понурый и растерянный папа бессмысленно ходит по кухне, то и дело поглядывая на смартфон. Смотрит ли он на время или ждёт звонка – не знаю, но точно так же не нахожу себе места.
– Папа, – осторожно зову его, устремляя взгляд к приоткрытому окну.
Золотая осень во дворе играет яркими красками. Солнечными, тёплыми, радостными. Только на душе беспробудная слякоть.
– Нам в любом случае нужно в больницу, дочь, – суетливо отзывается отец и хватает с подоконника наполовину пустую пачку сигарет. А потом оборачивается. Смотрит на меня как-то странно, с толикой разочарования, что ли. Нет, я привыкла! Никогда раньше в глазах отца я не видела гордости или одобрения, но сейчас от его немого взгляда по коже бежит холодок.
– Конечно, – отвечаю с готовностью. Спасти Саву – единственное, что сейчас хочу, и цена не имеет значения. Но под пристальным вниманием отца теряюсь, никак не могу подобрать нужных слов.
– Не знала, что ты куришь, – ляпаю первое, что приходит на ум. Говорить на отвлечённые темы всегда проще, чем открывать душу. С последним, надо сказать, у меня всегда были проблемы.
Впрочем, отец тоже не спешит к откровениям, хотя вижу: его что-то гложет. Волнение за Саву, осознание, что едва не потерял меня, шаткое положение собственного имени – неважно! Таким подавленным и беспомощным я раньше никогда его не видела. Или видела?
В памяти рваными фрагментами всплывают картинки из прошлого: та проклятая ночь, салон отцовского авто, привкус дыма в воздухе и папа, отрешённый, потерянный, напряжённый. Гоню ненужные воспоминания прочь: сейчас главное – это Сава!
Со скрипом отодвигаю стул и робко подхожу ближе к поблёкнувшей фигуре отца. Выворачиваю пальцы на руках. Не чувствуя боли, кусаю губы и мысленно умоляю папу со мной поговорить.
– Закуришь тут, – заметив моё приближение, он отрешённо ведёт плечом, продолжая стоять ко мне вполоборота. Голова опущена, спина колесом. Отец напоминает сейчас побитого пса. Впрочем, я не лучше.
– Во всём, что случилось, моя вина́, папа, – не знаю, с чего начать, как объяснить, что несмотря на страх, я выбираю Саву. Старик лишь хмыкает, давая понять, что не воспринимает меня всерьёз.
– Всё было бы сейчас по-другому, – не оставляю попыток достучаться. – Ветров наспех позавтракав, убежал бы на тренировку. Мама снова завела бы разговор о моём возвращении на лёд. А ты… ты бы строго на меня посмотрел, улыбнулся и поспешил отправиться по своим делам.
Глупые слёзы щекочут горло, сбивают в пену и без того спутанные мысли.
– Папа, – шмыгаю носом, но отец продолжает смотреть мимо меня. Пускай! Закрываю глаза и вновь даю волю словам: – Всё, абсолютно всё могло быть иначе, не испугайся я на дурацкой физике сесть рядом с Савой, но я струсила. Понимаешь? Ветров впустил меня в свой мир, а я его предала, пошла на поводу дурацких страхов. Я слабачка!
Не спешу открывать глаза: так проще, так можно не бояться, что тебя осудят.
– Ты бы не закурил, папа.
Слышу, как отец отходит от подоконника.
– Ветров не оказался бы сейчас за решёткой, а я не стояла перед тобой с разбитым лицом и сердцем.
Корю себя за слабость, за чёртову зависимость от мнения окружающих. К чему всё это меня привело?
– Иди ко мне, – отец раскрывает объятия, такие нужные, до дрожи необходимые в этот трудный для нас обоих момент, и притягивает меня к своей груди. – Не вини себя, дочь. Людям свойственно выбирать неверный путь. Ошибаться. Раскаиваться. Пытаться всё исправить, а потом снова наступать на те же грабли. Это жизнь.
– Я очень боюсь, что на меня начнут показывать пальцем, – носом тычусь в пропахший дорогим табаком пиджак отца. – Не выдержу издевательских смешков в спину. Сомневаюсь, что сдюжу противостоять наглости Булатова. Сломаюсь. Опозорю себя, тебя, маму и самое страшное, что впустую.
Голос дрожит и срывается в шёпот. Непослушными пальцами цепляясь за мощные плечи, надеюсь найти ответы.
– Я тебя понимаю, дочь, – колючим подбородком отец спутывает мои волосы. – Как и не могу пообещать, что будет иначе. Поэтому и ни на чём не настаиваю.
– Но если я снова пойду на поводу своих страхов, то потеряю Ветрова навсегда.
– Первая любовь редко бывает счастливой, дочка, – усмехается отец. – Ты так и так его потеряешь.
– Я не об этом, – еле сдерживаю себя, чтобы не начать спор. Это всё потом. Сейчас важнее другое. – Если я промолчу, Саву отправят в колонию.
– В любом случае я сделаю всё, чтобы этого не случилось, – уверенно отрезает старик, а я до одури хочу ему верить. А ещё понимаю, что и сама готова на всё. Пусть дрожат коленки, а будущее кажется непроглядно мерзким, все вместе мы справимся. Обязательно!
– Я тоже, пап, – всё сильнее прижимаюсь к родному теплу. Выбор сделан, но как же сложно его озвучить. – Я согласна. Пресса, медики, Булатов – что угодно.
– Я в тебе не сомневался, – моего лба касаются тёплые губы, а в отцовском голосе слышны нотки облегчения. Неужели судьба Савы заботит папу сильнее моей, да что там, сильнее собственной репутации?
– А если у нас не получится? – осторожно забегаю вперёд.
– Всё может быть, Марьяна, – отец отстраняется и тяжело вздыхает. – Есть вещи, которые от нас не зависят. Но поверь, я приложу максимум усилий, подниму на ноги всех, кого знаю, чтобы Савелий вернулся к нормальной жизни.
– Зачем тебе это? – отец никогда не был сентиментальным, да и Сава нам даже не родственник – так обычный детдомовец.
Папа хмурится и снова направляется к окну. Молчит. Достаёт очередную сигарету и нервно щёлкает зажигалкой.
– Почему вы с мамой забрали Саву из интерната только сейчас? – в голове ураганом проносятся вопросы. Мне не показалось: отец переживает за Ветрова больше, чем когда-либо беспокоился за меня.
– Раньше мы не подозревали, что он там, – кольца едкого дыма бесследно растворяются в воздухе, отравляя своей вонью всё вокруг. – Ирина случайно нашла Савелия в детском доме.
– Хочешь сказать, что ты не знал о пожаре, о смерти его родителей? Вы же были друзьями, как такое возможно?
– Знал, – глухо отвечает отец, выпуская новую порцию яда в воздух.
– Тогда почему ты не озаботился судьбой парня сразу? – голова идёт кру́гом. Понимаю, что сейчас не время для разговоров, что на счету каждая секунда, но неуёмное любопытство раздирает душу, а внезапно озарившее разум прозрение рвётся на волю: – Папа, если бы Сава попал к нам в свои двенадцать, сейчас ничего этого не случилось. Он был бы нормальным, папа!
– Не выдумывай, дочь, – рявкает отец, словно я наступила ему на любимую мозоль. – Савелий и так нормальный.
Отец яростно тушит окурок и, опустив голову вниз, неподвижно рассматривает собственные тапки.
– Как можно быть настолько слепым? – смахиваю надоевшие слёзы. – Ветров же весь переломанный. Никому не верит. Никого к себе не подпускает. Он как ёжик колючий прячется от этого мира под маской жестокости и равнодушия, под бронёй из своих татуировок. Эта чёртова жизнь прошлась по нему вагоном, доверху гружённым металлом. Саве больно! Ему постоянно больно! А ты говоришь «нормальный»?
– Я не знал, Марьяна! – гремит отец.
Широкой ладонью он раздражённо трёт лоб. Глаза зажмурены. Каждая мышца на лице напряжена.
– Не знал!
– Можно было догадаться! – позволяю себе повысить голос. Сейчас мы оба на нервах, но в отличие от меня отец знает правду. – Ты мог навести справки. В конце концов, связаться с его бабушкой. Но ты даже не попытался его найти! Пять лет ада – вот цена твоего равнодушия!
– Хватит, Марьяна! – разъярённым львом подлетает ко мне отец. Взгляд обезумевший, волосы на голове стоят дыбом. Ещё мгновение, и новая пощёчина не заставит себя долго ждать. Плевать! Теперь знаю, что душа болит куда сильнее тела.
– Я был уверен, что Савелий погиб в ту ночь вместе с родителями, понимаешь? – едва сдерживая свой пыл, дребезжит отец. – Мне сказали, что в пожаре никто не выжил. Никто!
– Ветрова в ту ночь не было дома, – качаю головой, невольно окунаясь в воспоминания пятилетней давности. Кто бы мог подумать, что детская игра и нелепое стечение обстоятельств спасут Саве жизнь.
– Теперь я знаю, поэтому парень здесь, поэтому я в ответе за него, – поджав губы, отец пристально смотрит на мою разбитую щеку. – И за тебя тоже.
– Ладно, – несмело киваю. – Прости.
– Если вопросов больше нет, то нам пора ехать, – моментально берёт себя в руки папа и подталкивает меня к прихожей.
– Ладно, – снова киваю и, сунув голые пятки в кроссовки, послушно отправляюсь в больницу.
Неудобные вопросы. Неприятные процедуры.
Несколько часов под пристальным надзором отца, шурша бахилами, хожу из одного кабинета больницы в другой. Анализы, осмотры, протоколы, фотоснимки. Стараюсь не замечать сочувствующих взглядов врачей и вздохов медсестёр.
«Ты глянь, какая молоденькая».
«Слава богу, этот негодяй ничего не успел».
«Вот подонок! Руки бы ему оторвать».
Интересно, узнай они, что опоил меня и избил губернаторский сынок, на чью сторону перебежали бы? Судя по обречённому взгляду отца, не на мою.
Папа ходит за мной как тень, постоянно с кем-то созваниваясь или общаясь в мессенджере. Вид уставший и недовольный. А я боюсь спросить о главном. Жить с верой в чудо куда проще, чем под глыбой суровой реальности.
– Марьяна Игоревна, пойдёмте со мной, – молоденькая сестричка с толстенной русой косой до пояса, едва уловимо касается моей спины, подталкивая к кушетке. – Сейчас, Аристарх Карлович, обработает ссадины, и мы вас отпустим.
– Выглядит жутко, – склоняется надо мной пожилой мужчина в белом халате. – Но на самом деле, ерунда. День-два и краснота спадёт, а если не станете лениться и своевременно будете наносить на место удара мазь, то и следа не останется.
Киваю, натягивая на лицо измученную улыбку. Я устала. Здесь, в больничных стенах, отчего-то особенно остро ощущаются последствия бессонной ночи.
– Вот и все! – потирает ладони старик и шустро возвращается к своему столу.
– Спасибо! – спрыгиваю с кушетки и подхожу к отцу.
– Как быстро будут готовы результаты анализов? – не отрываясь от экрана смартфона, гремит он. Голос глухой. На лице залегли глубокие тени.
– Полагаю, завтра, – смотрит из-под густых бровей врач. – Ближе к вечеру.
– Поздно, – заключает папа и не прощаясь тащит меня за собой к выходу. – Они нужны мне сегодня!
– До свидания, – на бегу виновато пожимаю плечами, сгорая со стыда от отцовского невежества.
Коридоры клиники кажутся бесконечными. Однообразные. Мрачные. Бездушные. Пропитанные человеческой болью и сдобренные щепоткой надежды. Мне приходится в три ноги бежать по ним за отцом, позволяя себе изредка морщить нос от резких больничных запахов или безотрадного вида некоторых пациентов. Глядя на последних, благодарю Бога, что ночь с Булатовым отпечаталась только на моей щеке. Сейчас понимаю: мне несказанно повезло!
Не знаю, как отцу удаётся не заплутать в больничных лабиринтах и в считаные минуты найти выход к парковке. Как малый ребенок, радуюсь ветру и наслаждаюсь возможностью вдохнуть осеннюю прохладу полной грудью. Самое страшное позади, верно? На долю секунды поднимаю голову к небу. Голубому и чистому. И в тысячный раз шепчу «спасибо».
– Марьяна! – рычит отец. – Живее!
Пока я рассыпаюсь в благодарностях, папа успевает дойти до своего авто и даже завести его.
– Сейчас куда? – как можно скорее занимаю место рядом и, закинув медицинские выписки на приборную панель, пристегиваюсь.
– В участок.
– К Саве?
– Нет, – горько усмехается отец, потирая лоб, и выезжает с парковки.
Молчу. Жду, когда папа соизволит мне что-нибудь объяснить, но тщетно. Отец чертовски сосредоточен на дороге и собственных мыслях и совершенно не замечает меня.
– Папа, – от волнения заламываю пальцы на руках. – Его же отпустят? Правда?
И снова смешок. Там, в больнице, мне не показалось: отец чем-то серьёзно расстроен.
– Что-то не так, пап? – не уверена, что готова услышать правду, но не спросить не могу.
– Не отвлекай, Марьяна! – шипит отец, не желая со мной говорить.
– Просто скажи и я заткнусь!
Неужели ему невдомёк, что я тоже волнуюсь, наверно, даже больше, чем кто-либо. Для папы Сава лишь сын погибших друзей, для меня – целый мир!
– Ты мне мешаешь! – цедит старик и в подтверждение своих слов непривычно резко заходит в поворот. Не успеваю схватиться за ремень, как внезапно загоревшийся красный вынуждает отца отчаянно затормозить. И снова меня бросает в сторону.
– Я имею право знать! – требую объяснений, пока алые цифры на светофоре ведут обратный отсчёт. – Что случилось?
– Ты! – разочарованно выдыхает отец. – Ты случилась! Непутёвая! Проблемная! Бестолковая!
– Папа? – испуганно бормочу, ни черта не понимая.
– Что «папа»? – могучий бас заполняет салон, а я всем телом вжимаюсь в кресло, поторапливая секунды бежать быстрее.
– Скажи мне, что я предъявлю Булатову? Это? – в лицо летят бумаги с приборной панели. – Или, может, твою размазанную тушь? Или лёгкое покраснение, которое уже завтра сойдёт на нет. Ни одной существенной травмы! Ни черта!
На миг перестаю дышать. Хмурясь отказываюсь верить в услышанное.
– Ну извини, что я здорова! – сердце уходит в пятки, пока взглядом скольжу по напряжённым чертам отцовского лица. Неужели он говорит серьёзно? – Ты был бы счастлив, если Антон сделал из меня инвалида?
– Не неси чушь, Марьяна! – огрызается он и резво стартует на зелёный. – У Булатовского щенка переломаны кости и череп всё больше напоминает куб. Тебе не кажется, что он заплатил слишком высокую цену за одну только пощёчину?
– Нет! – слёзы наворачиваются на глаза. – По мне, и этого мало!
– А судье, которого интересуют только факты, более чем достаточно, чтобы обеспечить Савелию небо в клеточку!
– Но…, – пытаюсь возразить, но пугающая перспектива голодным псом разрывает сердце на части.
– Нас с этими бумажками даже слушать никто не станет, – сжимая руль, продолжает отец. – Особенно если ещё и анализы твои будут чистыми. Мы слишком долго ехали в больницу, а Сава чересчур жестоко избил этого урода, понимаешь?
Понимаю, но мерзкая горечь лишает голоса. Отворачиваюсь к окну и даю волю слезам. Вот он мой настоящий отец. Расчётливый и бездушный. Другой бы на его месте благодарил Всевышнего, что с дочерью всё нормально, но моему до меня всё так же нет никакого дела.
– Когда будешь разговаривать с прессой, постарайся пустить слезу, – отец словно не замечает, что я и так вся зарёванная. – И вообще, будь поубедительнее. Поняла? Никаких «не помню», ясно?
– Да, – рукавом толстовки смахиваю солёные разводы с щёк.
Мой персональный ад начинается спустя час в кабинете следователя. Рядом отец всё с тем же неприступным выражением лица и адвокат. Из раза в раз я повторяю одно и то же. Там, где не помню, вру! Не из-за отца, а чтобы помочь Саве. Стараюсь быть убедительной и жалкой, но от дотошных расспросов схожу с ума, а под пристальным вниманием следователя теряюсь. Мне кажется, он видит меня насквозь, отчётливо чувствует ложь и совершенно не настроен мне помогать.
Из отделения выхожу, как выжатый лимон. Пожалуй, больничные коридоры – ничто, по сравнению с серостью полицейского участка. И только въедливая мысль, что Ветрову сейчас ещё хуже, не даёт опустить руки.
На встречу с журналистами я приезжаю совершенно без сил. Мне даже не приходится притворяться: страшная, побитая, потерявшая интерес к событиям вокруг. Я монотонно пересказываю всё, что знаю, и как обещала, реву. Стараюсь не замечать фотовспышек и не думать, что завтра о моём позоре узнаёт весь город.
Домой я возвращаюсь под вечер. Голодная. Измождённая. Одинокая. Мне трудно смотреть на отца. Ещё сложнее с ним заговорить. Сейчас я его ненавижу! Он мог помочь мне пройти этот путь не в одиночку, быть рядом не только территориально, но и как настоящий отец. Увы, таковым он никогда и не был.
Игнорирую расспросы матери. Гоню от себя аппетитные ароматы приготовленного ею ужина и, наплевав на урчание в желудке, поднимаюсь к себе. Дверь закрываю на ключ и подпираю стулом. А потом прямо так, в несвежей толстовке Савы, ложусь на кровать. Колени прижимаю к груди, руками обнимаю подушку и тихо плачу, незаметно растворяясь в глубоком сне.
Я просыпаюсь слишком рано. На улице ещё темно, а сердце, не успев восстановиться, всё так же ноет. Но как бы я ни пыталась, снова заснуть не удаётся. Усевшись по-турецки, смотрю в пустоту. Кутаюсь в толстовку, будто в объятия Ветрова. И опять реву.
Когда за высотками на краю города появляются первые отблески зари, решаюсь спуститься. Я голодна, да и губы растрескались от дикой жажды. Не включая свет, мягкой поступью перебираю ступени и плетусь на кухню. Но когда прохожу гостиную, замечаю неяркое мерцание лампы в отцовском кабинете. Позабыв про еду, крадусь ближе. Дверь слегка приоткрыта. Не сильно. Но щёлки хватает, чтобы всё рассмотреть.
Отец сидит за дубовым столом и курит. Снова. Рядом початая бутылка с какой-то гадостью. Куча бумаг. Включённый ноутбук и не перестающий пиликать смартфон. На отце всё тот же деловой костюм, что ещё с утра пропах табаком. Несвежий. Помятый. Галстука нет. Верхние пуговицы сорочки небрежно расстёгнуты. Мне даже становиться немного жаль старика. Ему больно. Смертельно больно. Правда, не за меня. За Саву. И вроде я разделяю его боль, но где-то глубоко внутри гадкий червяк маленькими кусочками пожирает душу: за меня отец ни разу так не волновался.
Обвожу взглядом его взлохмаченные волосы, подёрнутые сединой, и вмиг постаревшее лицо, а сама никак не пойму, когда Ветров успел занять столько места в сердце моего отца. Оказывается, то всё же у старика имеется. Уже хочу отойти от двери и продолжить путешествие на кухню, как тишина спящего дома нарушается тихим голосом мамы:
– Что ты здесь делаешь, Нана?
От неожиданности вздрагиваю и отскакиваю от двери. Благо, папа ничего не слышит: так глубоко он увяз в своих мыслях. И это к лучшему. Отец терпеть не может, когда без спроса нарушают его личное пространство. А гадостей в свой адрес я сегодня услышала достаточно.
– Хотела попить, увидела свет, – сумбурно пытаюсь объяснить, почему подглядывала за отцом, но чувствую: всё не то. Да и мама не особо слушает мои банальные оправдания, с лёгким намёком на осуждение качая головой.