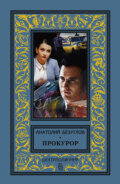Анатолий Безуглов
Черная вдова
– Смотри, и дубленка моя здесь, – показал на вешалку в прихожей Глеб. – Наверное, фасон не понравился, – мрачно сострил он.
– Ты еще шутишь, – вздохнула Лена.
– Что же теперь – вешаться? – усмехнулся муж. – Но как они вошли? – Он осмотрел входную дверь, замки. – Вроде все цело.
– Что гадать? – сказала Лена и, неожиданно для себя, решительно произнесла: – Вот что, Глеб, звони-ка Игнату Прохоровичу! Срочно!
– Погоди, – отмахнулся он.
– Так время!.. Понимаешь? Время дорого! Воры успеют скрыться!
– Не волнуйся, – осклабился Глеб, – уже скрылись.
– Ну, знаешь! – возмутилась Лена.
– Ради бога! Пожалуйста! – Глеб направился в комнату, снова начиная злиться. – Сейчас примчится куча милиционеров, начнутся вопросы, допросы. – Он снял трубку. – Только я хотел бы знать, как к этому отнесется Антон Викентьевич?
– А как? – удивленно спросила Лена. – Я думаю, папа поступил бы именно так.
– Ты уверена? – Глеб, играя трубкой, внимательно смотрел на жену.
И Лена вдруг почувствовала, что твердой уверенности на этот счет у нее нет.
Она почему-то представила себе не отца, а бабушку. Бабу Лику, Леокадию Модестовну. Властную, надменную старуху, которая в свои восемьдесят лет ходила прямо, гордо неся красивую седую голову. И этот вензель на футлярах – Леокадия Гоголева – ассоциировался у Лены с чопорностью и загадочностью матери отца.
Баба Лика занимала отдельную комнату – самую светлую в квартире. Лену приучили входить к бабушке только с ее разрешения. Но Лену туда и не тянуло, хотя у Леокадии Модестовны было множество диковинных, красивых вещей. Ширма, обтянутая шелком, разрисованная хризантемами; фарфоровый божок с монгольским лицом, который долго качался, если его тронуть; веер из черных пушистых перьев; негритенок в чалме, атласных шароварах и с серебряной саблей в руке; альбом семейных дагерротипов в красном сафьяновом переплете.
Баба Лика редко выходила из своего обиталища. Она словно презирала мир настоящего, оставаясь в своем прошлом.
В дни бабушкиных именин (не рождения, а именин!) отец с утра просил Лену одеться понаряднее и навестить Леокадию Модестовну с поздравлением. Старуха сидела у окна в кресле в торжественном темном платье из кастильских кружев. Она, касаясь холодными сухими губами лба девочки, говорила:
– Спасибо, моя милая… – и закрывала глаза, словно засыпала.
Лена, боясь нарушить малейшим звуком ее забытье, тихо удалялась.
Месяца за три до смерти – Лене тогда было пятнадцать лет – баба Лика неожиданно сама пригласила ее в свое логово (так про себя называла девочка комнату старухи). Усадив внучку на старенькое канапе, она достала резной, инкрустированный перламутром и серебром ларец, открыла его ключом, висевшим на шнурке на шее.
– Елена, – торжественно проговорила Леокадия Модестовна, – это все достанется тебе…
Негнущимися, малопослушными пальцами она разложила на диванчике красивые футляры с золоченой монограммой.
– Что это? – наивно спросила девочка.
– Посмотри…
На лице бабушки, пожалуй, впервые промелькнуло что-то наподобие улыбки.
Лена осторожно открыла длинный футляр. И замерла, очарованная красотой золотого колье и перстня, усыпанных драгоценными камнями.
– Шпинель, – дотронулась до самого крупного из них искривленным ревматизмом пальцем старуха. Камень таинственно чуть желтовато искрился лучиками, исходившими из его глубины. – А это – бриллианты… Бразильские…
Они венчиком окружали шпинель.
В других коробочках были сережки, тоже с бриллиантами; еще один перстень из платины с изумрудом; золотой кулон в виде сердечка, выложенного по краям кроваво-красными рубинами и крупным бриллиантом посередине, а также – что больше всего понравилось Лене – браслет из золота с голубой эмалью и александритами.
Дав насладиться девочке этой завораживающей красотой, старуха сложила драгоценности в ларец, заперла его и сказала:
– Когда я умру, а это будет скоро…
– Что вы, бабушка! – запротестовала было Лена, но та остановила ее властным жестом.
– Я знаю… Я чувствую… Так вот, после моей смерти все это достанется тебе. Храни до конца дней своих. – Она указала на портрет своего отца в рамке из красного дерева, стоявший на столе. – Его подарки.
Через день или два, Лена не помнит точно, отец привез в дом нотариуса.
После этого баба Лика уже не выходила из своей комнаты. Умерла она через три месяца.
В завещании, которое прочитал Лене отец, была выражена последняя воля Леокадии Модестовны: все свои сбережения и имущество она оставляла сыну, Антону Викентьевичу Гоголеву, за исключением драгоценностей, которые переходили по наследству к ее внучке, Елене Антоновне Гоголевой, по достижении восемнадцати лет. Список драгоценностей приводился полностью и с дотошным описанием камней.
Тогда еще Лена не придавала значения наследству и не имела понятия о его стоимости. Да еще была обижена за мать, которую свекровь, будучи даже на смертном одре, не простила за что-то.
– Подумаешь – завещание! – сказала Лена матери. – Предрассудки! Носи что хочешь!
– Нет, Леночка, – наотрез отказалась мать. – Ни за что! Душу будут жечь.
Она тоже не могла забыть и простить. Что именно, Лена так и не узнала.
Отец вручил (пустая формальность, конечно, коробочки с вензелем как лежали в шкафу, так и остались там лежать) фамильные драгоценности дочери в тот день, когда Лене исполнилось восемнадцать. Но надеть их ей в общем-то так ни разу и не удалось. По настоятельной просьбе Антона Викентьевича.
– Прошу тебя, доченька, – сказал он, – не дразни гусей. Люди завистливы, и при моем положении могут подумать бог знает что.
И теперь, когда надо было решать, стоит ли заявлять в милицию о похищении драгоценностей, Лена засомневалась.
– Давай посмотрим на вещи трезво, – сказала она.
– Если смотреть на вещи трезво, то голова пойдет кругом, – заметил Глеб.
– Может, позвонить папе? – неуверенно предложила Лена. – Посоветоваться…
– Хочешь, чтобы его хватила кондрашка? – усмехнулся муж.
– Не дай бог! – замахала она руками. – Как же быть? Что я скажу, где драгоценности?
– С чего это он вдруг заинтересуется ими?
– А если все-таки спросит?
– Будем надеяться, что в ближайшее время не спросит. Словом, как-нибудь выкрутимся.
– Как?
– Закажем у ювелира.
– Это же безумные деньги!
– На золото найдем. А уж камни придется вставить поддельные. В дальнейшем же…
– Нет! – решительно отказалась Лена.
Бабушкино наследство было ее единственной надеждой. Вдруг Глеб уйдет от нее? Что тогда?
– Значит… – вопросительно посмотрел на нее муж.
– Звони Копыловым!
– Неудобно! – поежился Глеб. – Пользоваться добрым его отношением… – Видя недовольство жены, он добавил: – Я позвоню дяде Гоше завтра на работу. А сейчас – дежурному по городу.
Глеб набрал 02.
Дежурный по горуправлению внутренних дел принял сообщение от Ярцева в двадцать два часа семь минут. Через три минуты из ворот горуправления милиции вылетела спецмашина с оперативной группой в составе следователя Воеводина, эксперта-криминалиста Баранчикова, оперуполномоченного уголовного розыска Богданова и кинолога Васильева со служебно-разыскной собакой по кличке Король.
В двадцать два часа двадцать пять минут они уже звонили в квартиру потерпевших.
Открывшая дверь хозяйка ахнула: так быстро работников милиции не ждали.
– Я думала, что подобная оперативность существует только в кино, – слабо улыбнулась Лена.
В прихожей сразу стало тесно: помимо сотрудников милиции зашли еще дворник и соседка по лестничной площадке – в качестве понятых.
Следователь Воеводин попросил рассказать о случившемся. Лена повела работников милиции в спальню и поведала о пропаже.
– Когда вы видели ваши ценности в последний раз? – спросил Воеводин.
– Сегодня. В половине седьмого. Понимаете, собиралась на концерт Антонова. Из бабушкиных драгоценностей я надела лишь перстень. Остальное лежало в футлярах.
Эксперт-криминалист занялся фотографированием и снятием отпечатков пальцев на футлярах, трельяже, ручках дверей – входной и той, что вела в спальню.
– Кто помимо вас был еще в квартире? – продолжал спрашивать следователь.
– Никого. Муж, – показала Лена на Глеба, стоявшего в коридоре, – ждал меня внизу, в машине.
– Кто закрывал дверь?
– Я.
– На сколько замков?
– На два, – ответила Лена. – Как всегда. Верхний – «аблоу», нижний – нашего производства.
– Хорошая машина, – заметил Баранчиков, внимательно осматривая верхний замок. – Финны умеют делать.
– Капризный, – заметил Глеб. – Чуть перекос – заклинивает.
– Есть такое, – согласился эксперт-криминалист, щелкая фотоаппаратом со вспышкой.
– Когда вы обнаружили пропажу? – спросил Воеводин.
– Когда вернулись. Без двадцати пяти десять, – ответила Лена.
– Откуда такая точность?
– Муж включил телевизор. Заканчивалась программа «Время». Погоду говорили.
– Сколько у вас ключей от входной двери? – продолжал вести допрос следователь. – Я имею в виду – комплектов?
– Два, – ответила Лена. – У меня и у мужа. – Она зачем-то открыла сумочку, показала связку.
– Хорошо, – кивнул Воеводин. – Вспомните, вы когда-нибудь давали ключи посторонним? – Он посмотрел на Лену, потом на Глеба.
– Вроде нет, – ответила Лена.
– А точнее?
– Нет, – твердо сказала Лена.
– Я тоже, – сказал Глеб.
– Что еще пропало, помимо драгоценностей?
– Ничего! Ни иголки! – заверила Лена. – Мы с мужем проверили. Сразу!
Воеводин заглянул в открытый платяной шкаф, потом прошел в большую комнату, огляделся, вышел в коридор и сделал знак Васильеву.
Кинолог поднял сидевшую до сих пор спокойно собаку. Король обнюхал трельяж, ткнулся носом в предложенные ему футляры с монограммой и грозно направился к Лене.
– Фу! – коротко приказал Васильев.
– Поработайте еще, – сказал Воеводин и продолжил допрос потерпевших: – Кто знал о наличии у вас драгоценностей?
Этот вопрос поставил Лену в затруднение: она и впрямь не помнила, кому говорила или показывала бабушкино наследство. Разве что той, давней подруге, с которой не виделась со времен окончания университета – она сразу уехала в другой город. Лена решила, что ее приплетать не стоит.
– Никто, – ответила она.
– Что, не надевали? – несколько удивился следователь.
– Только перстень. Да и то раза три, не больше, – уточнила Лена.
Наказ отца она выполняла строго.
– А вы что скажете? – обратился Воеводин к Глебу.
Тот пожал плечами:
– Меня ее украшения не интересуют.
– Может, все-таки говорили кому-нибудь? – настаивал следователь.
– Нет, – ответил Глеб.
Воеводин попросил описать похищенные вещи. Лена не только их описала, но и нарисовала по памяти, попутно рассказав, как они к ней попали.
– И во сколько вы оцениваете пропажу? – спросил следователь.
– Точно сказать не могу. Папа считает, что сейчас это стоит тысяч шестьдесят, не меньше. А ему можно верить.
– Он что, ювелир?
– Директор универмага.
Воеводин кивнул. Лене показалось, что он усмехнулся. И вероятно, историю с завещанием поставил под сомнение.
«Ох, надо ли было вызывать милицию? – подумала она. – Наверное, будут допрашивать папу, наводить справки и так далее, и тому подобное. А у него давление».
– Следов взлома не обнаружено, – доложил следователю эксперт-криминалист. – Скорее всего, дверь открывали ключами.
– Но откуда у воров наши ключи? – удивилась Лена.
– Не знаем, не знаем, – задумчиво протянул Воеводин.
Лене опять показалось, что он ей не верит. И снова пожалела, что заварила всю эту кашу.
– Когда вы вернулись с концерта, в каком виде нашли квартиру? – задал еще один вопрос Воеводин. – Может, заметили что-нибудь подозрительное?
– Ничего подозрительного мы не заметили, – сказала Лена. – Все было на своих местах.
Следователь принялся составлять протокол осмотра места происшествия, набросал схему квартиры.
Раздался звонок в дверь – это вернулся оперуполномоченный уголовного розыска Богданов. По его лицу следователь понял, что вернулся он с пустыми руками.
На прощание Воеводин протянул хозяевам листок бумаги:
– Вот мой служебный телефон. Если что припомните – звоните.
– Конечно, конечно! – пообещала Лена.
– А когда у меня появятся вопросы, я приглашу вас к себе.
Оставшись вдвоем, Ярцевы долго молчали. Лена вдруг почувствовала невероятную усталость. Она свалилась в кресло и обхватила голову руками.
Глеб стоял у окна, глядя вниз на отъезжающий рафик с мигалкой на крыше. Жена почувствовала в его позе укор себе. И расплакалась – это была разрядка нервного перенапряжения. Ей стало нестерпимо жалко себя, отца. Отца даже больше.
– Пропади они пропадом, эти бриллианты! – всхлипывая, проговорила Лена.
Муж сел в кресло напротив, положив подбородок на сцепленные кисти рук. Он словно говорил: ведь предупреждал…
Часы показывали четверть третьего ночи.
А в машине, возвращавшейся в горуправление внутренних дел, Богданов рассказывал следователю о том, что ему удалось выяснить у соседей. Никто из них не видел, чтобы к Ярцевым заходили посторонние, когда хозяева были на концерте. И вообще не заметили подозрительных людей ни возле дома, ни в подъезде.
– И Король оплошал, – вздохнул Воеводин. – След не взял.
Васильев сконфуженно хмыкнул.
– Не думаю, чтобы эта Леночка не похвасталась перед кем-нибудь своими драгоценностями, – сказал эксперт-криминалист. – Такого не бывает. Женщина есть женщина.
Вы верите, что действительно наследство? – спросил он у следователя.
– А зачем ей врать? – ответил Воеводин. – Проверить не трудно. Меня сейчас занимает другое. Я почти уверен, что похититель знал о существовании драгоценностей. Вероятно, тщательно готовился к краже.
– Похоже, что так, – согласился Баранчиков. – Ключи… Потом, ему было известно, что в этот вечер Ярцевы поедут на концерт.
– Обратите внимание, – сказал оперуполномоченный уголовного розыска, – он больше ничего не взял из квартиры. А там было чем поживиться. Хотя бы радиоаппаратура.
– Тысяч на десять, не меньше, – подтвердил эксперт-криминалист.
– Больше! – сказал следователь.
– И откуда столько добра? – покачал головой кинолог Васильев. – Ведь они совсем молодые. Мой пацан давно просит хотя бы самый дешевый магнитофон, а я не могу себе позволить.
– Ты же не директор универмага, – усмехнулся Баранчиков.
– Ярцев, Ярцев, – вспомнил Богданов. – Не папаша ли этого Глеба? Ну, начальник облсельхозтехники? – спросил он у Воеводина.
Тот пожал плечами и задумчиво произнес:
– Ох, чует мое сердце, придется поломать голову с этим делом.
Глеб проснулся в начале одиннадцатого. Он даже не слышал, как ушла жена. Сон у Глеба был чуткий. Его всегда раздражал по утрам скрип дверей, возня Лены у трельяжа. А тут – не помнит ни звука.
Легли они в четыре часа, и Глеб словно провалился в бездну.
В спальню лился яркий солнечный свет. В комнате стоял запах французской туалетной воды.
Глеб босиком прошел в ванную комнату. Привычка ходить по дому босиком осталась с детства.
Чувствовал он себя разбитым после кошмарной ночи. Полез под душ, пуская попеременно то горячую, то холодную воду – это всегда отлично помогало.
Действительно, контрастный душ взбодрил тело. Но на сердце было скверно. Он вспомнил объяснение с работниками милиции. Ощущение – словно тебя увидели голым…
Глеб сварил крепчайший кофе, с трудом проглотил холодную котлету без хлеба и с удовольствием убрался из квартиры – тянуло скорее на люди.
Выйдя на улицу, он зажмурился от ослепительного сверкающего снега. Дорога – словно каток. Глеб решил не выводить машину – гололедица, еще вмажут по его новенькой «Ладе».
В университет он поехал на городском транспорте. И сразу пошел в библиотеку.
Люся Шестопалова за столом выдачи зарумянилась при виде Глеба, заулыбалась (он уже привык к обожанию) и протянула ему книгу и две тоненькие брошюрки.
– Вчера весь день пролежали, – с укоризной сказала библиотекарша. – Сделали заказ, а не пришли.
– Эх, знал бы, что на выдаче вы, обязательно пришел бы! – одарил ее улыбкой Ярцев и вручил японский календарик с лукаво подмигивающей девицей: Люся коллекционировала карманные календари.
Она смутилась еще больше, горячо и бессвязно поблагодарила за подарок.
Он нашел свободный столик в читальном зале, углубился в чтение, но сосредоточиться не мог – все время прокручивал в голове ночное событие. Обрадовался, когда на его плечо легла чья-то рука.
– Покурим?
Это был Аркадий Буримович, аспирант кафедры философии.
– Айда, – поднялся Ярцев.
В курительной комнате стояла холодина: форточка была открыта настежь. Глеб достал «Космос», и Аркадий тут же полез за сигаретой. Он, как персонаж из пьесы Островского «Без вины виноватые», курил один лишь сорт – чужие…
– Ну что, румяный мой философ? – шутливо спросил Глеб.
– Да так как-то все, братец историк, – в тон ответил Буримович словами из «Ревизора».
Он был небольшого роста, кругленький, с распадавшейся посередине головы пышной шевелюрой и розовыми пухлыми щечками. По его виду нельзя было подумать, что он занимается такой серьезной наукой. Разве что умные пытливые глаза за сильными линзами очков.
Болтать с ним – одно удовольствие. Аркадий чуть ли не каждый день делал очередное открытие – гениальное, как он выражался. Однако оно жило недолго: его или быстро опровергали, или же выяснялось, что подобная идея давно была высказана кем-то другим.
Если этого толстяка что-нибудь увлекало, то он непременно стремился зажечь кого-нибудь еще. Кто попадется под руку.
Сегодня это был Ярцев.
– Слушай, старик, это грандиозно! – теребя Глеба за рукав пиджака, горячо начал Аркадий. – Я понял…
– С какого конца есть сваренные всмятку яйца? – сыронизировал Глеб.
– Не скалься! – не обиделся Буримович. – Ну вот скажи мне, почему неистребим шабашник?
– Проще пареной репы. Налево больше платят.
– Фу! – поморщился Аркадий. – Рассуждаешь как обыватель. А тут политэкономия! Целая научная система!
Глеб улыбнулся.
Приняв улыбку Глеба на свой счет, Буримович покачал головой:
– Я серьезно, старик.
– Давай, давай, я слушаю, – сказал Ярцев.
– Понимаешь, шабашничать экономически выгодно, – стал развивать свою мысль Аркадий. – Смотри. – Он начал загибать пальцы. – Строитель какого-нибудь СМУ из каждой заработанной десятки отдает государству в виде налога и других удержаний – на содержание управленческого аппарата, армии, милиции, на здравоохранение, образование и прочее – определенную сумму. Скажем, рубля три…
– Ну а как же иначе?
– Верно, все это надо, – согласился Буримович. – И что же? В результате, работая в государственной системе, строитель получает на руки, допустим, семь рублей из десяти. А шабашник? Армию он не содержит, милицию – тоже, больницы, школы… В больницу же ходит, как и мы, детей своих учит бесплатно! Заметь, на мои и твои деньги! Выходит, что десятка, которую он получает у частника, остается целехонькой. Да плюс еще те рубли, которые он должен был отдать врачу и учителям своих детей. То есть он получил все тринадцать целковых за тот же труд, который потратил бы на государство.
– Ты хочешь сказать, эти три рубля он украл из общественного фонда? – проявил знание предмета Глеб.
– Скажем – воспользовался, – пoпрaвил Аркадий. – А я хочу сказать насчет этого общественного фонда потребления. Видишь ли, старик, по моему глубокому убеждению, тут у нас перегиб. Так сказать, забегание вперед. За счет общественных фондов выплаты и льготы населению выросли с тысяча девятьсот сорокового года почти в двадцать раз. С двадцати четырех рублей до четырехсот семидесяти пяти на душу населения. Вникни!
– Это же хорошо, – сказал Глеб.
– Сам рост – да, – кивнул Буримович. – Но вот как происходит распределение? И потом, нужно ли продолжать этот курс? Не забывай, что основной принцип социализма – каждому по труду. Однако принцип этот, увы, соблюдается далеко не всегда. Например, построили дом, как сейчас говорят, с улучшенной планировкой. Очередь в исполкоме подошла для академика и шофера. Оба получили одинаковые квартиры. Справедливо?
– Демократия…
– Погоди! – остановил собеседника жестом Буримович. – Общественная значимость, вклад обоих разве равен?
– Нет, – согласился Глеб.
– Вот именно! Принцип – каждому по труду – нарушен! Более того, уменьшается степень непосредственного стимулирования. Зачем какому-нибудь изобретателю ломать голову, не спать по ночам, проталкивать на нервах свою идею, если он за свои муки получит такую же квартиру, путевку в такой же дом отдыха, что и безынициативный коллега? Горишь ты на работе или делаешь ее тяп-ляп, все равно получаешь те же блага из общественного фонда потребления.
– Ну и что же ты предлагаешь? – спросил Глеб.
– Сократить общественные фонды потребления! – рубанул воздух рукой Аркадий.
– Позволь, позволь, – возразил Ярцев, – это одно из важнейших достижений нашего общества! Бесплатное лечение – а значит, доступное всем, понимаешь! А жилье? Копейки…
– А зачем? – с вызовом спросил философ. – Объясни, почему за жилье установлена символическая плата?
– Потому что это одна из основных потребностей человека! Как хлеб! Как одежда! Их должны иметь все. Умные и не очень, здоровые и больные, многодетные и одинокие.
– Позволь, позволь! – распалился Аркадий. – Я не спорю, квартиры должны иметь все. Но вот какие – это вопрос!
– Нормальные! Со всеми удобствами!
– Я не о том. Смотри, что получается. У нас в семье шесть человек. Живем в двухкомнатной квартире. Правда, стоим на очереди. А соседка напротив – одна в трехкомнатной! У нее умер муж, а дети давно ушли, получив свою площадь.
– Что же делает соседка одна в трех комнатах?
– Сдает! А вот если бы она платила не символическую плату, а реальную – черта с два занимала бы три комнаты! Переехала бы как миленькая в однокомнатную!
– А ты бы – в ее? – усмехнулся Глеб.
– Почему в ее? Может быть, в пятикомнатную. Или – семи! Словом, такую, какая необходима для нашей семьи.
– Не дадут! И не просите.
– И вообще, почему мы должны просить у кого-то квартиру? Почему? – запальчиво произнес Буримович. – Мать с отцом вкалывают за милую душу. Моя жена… Ну и я не бездельничаю. Так дайте же нам возможность самим выбирать ту или иную услугу, благо…
– Многого хочешь, – раздался насмешливый голос.
Они обернулись.
– Привет, Женя, – поздоровался с высоким худым парнем Глеб.
Это был лаборант с химфака. Буримович молча кивнул ему.
– Я не конкретно о себе, – пояснил философ. – О тебе, о нем… О каждом. Потому что убежден: чрезмерное сокращение принципа возмездности, эквивалентности и оплаты получаемых услуг, ограничение сферы товарно-денежных отношений, замена их прямым административным распределением приносит больше отрицательных, чем положительных результатов. И мы еще удивляемся, откуда берутся так называемые «деловые» люди, разные проныры и прохиндеи! Надо за квартиру брать столько, сколько она стоит в действительности, за путевку в санаторий – тоже. Хочешь иметь дачу – плати за землю не символический налог, а сумму, соответствующую затратам на благоустройство поселка, проведение дорог, электричества, газа и тому подобное. Причем – дифференцировано. Желаешь поближе к городу или, например, у речки – дороже, подальше – дешевле!
– С моей зарплатой я могу рассчитывать на клочок болота за триста километров, – рассмеялся лаборант. – Да и мать, хоть она и доцент, тоже не разгуляется.
– Конечно, все эти меры не могут быть проведены при сохранении теперешних окладов, – сказал Аркадий. – Их нужно увеличить. Как и другие регулярные выплаты – пенсии, стипендии… Пусть каждый получает по труду и платит по потребности! Пора уже снять с плеч государства отдельные функции распределения.
– И будет рай! – воздел руки Женя.
– Порядок будет! – сказал Аркадий. – Исчезнет блат. Многие проблемы самоурегулируются…
Глеб вдруг спохватился – заседание кафедры, на котором он должен сделать сообщение. Глянул на часы – в запасе было минут двадцать. Он оставил Буримовича разворачивать свои идеи перед лаборантом, сдал литературу Люсе и пошел в буфет перехватить чашку кофе.
По пути в буфет Глеб вспомнил, что нужно позвонить Копылову. У телефонов-автоматов толклись студенты. Не объясняться же с генералом при народе… Ярцев зашел на кафедру русского языка и литературы, к знакомой лаборантке. Она собиралась идти обедать и, узнав, что требуется телефон, сказала:
– Звони… Будешь уходить, захлопни дверь на английский замок.
– Непременно, – улыбнулся Глеб, протянув ей пачку иностранной жевательной резинки.
– Ну, Ярцев, ну, душка! – Лаборантка сделала ему ручкой и убежала.
Оставшись один, Глеб набрал номер служебного телефона Игната Прохоровича. Ответил помощник генерала. Соединил он с начальником управления весьма неохотно.
Ярцев поздоровался с Игнатом Прохоровичем деревянным голосом: повод не очень приятный, да и не знал он, о чем просить Копылова.
– Знаю, Глеб, знаю, – сказал генерал. – История, конечно, скверная. Передай Лене, пусть не вешает нос. Следователь опытный. Но и вы должны ему помогать.
– Само собой, Игнат Прохорович. Я звоню почему – просто поставить вас в известность.
– Нет, хорошо, что позвонил, – сказал Копылов, хотя Глеб чувствовал, что этот звонок вряд ли что изменит. – От бати вестей нет?
– Он не любитель писем. Я сам собираюсь в Ольховку. Надо же навестить.
– Добре, добре, – обрадовался чему-то генерал. – Передай большой привет Матвеевичу!
Глеб понял, что Игнат Прохорович занят, и поскорее закончил разговор.
В буфете – не протолкнуться. Глеба окликнул доцент Старостин. Научный руководитель Ярцева устроился в уголке.
– Приятного аппетита, Михаил Емельянович, – поздоровавшись, сказал Глеб.
Тот молча кивнул, указал на стул рядом.
– Куда ты, батенька, запропастился? – спросил доцент, прожевав кусок сосиски. – Интересовался зав…
– В библиотеке, – улыбнулся Глеб, усаживаясь за стол и потягивая теплый кофе. – Яко книжный червь. Знаете, очень любопытные сведения удалось разыскать о Суворове.
– Да? – заинтересовался Старостин.
– Генералиссимус был скромен в еде и не любил давать парадных обедов…
– Знаю, знаю… Прижимист был полководец.
– Совершенно верно. – Глеб рассмеялся. – Особенно к нему набивался в гости Потемкин. Суворов все отшучивался, но был вынужден наконец принять светлейшего князя. Понятное дело, фаворит государыни! Суворов призвал к себе метрдотеля Потемкина, Матоне, заказал роскошный обед и просил не щадить денег. Для себя же Александр Васильевич попросил своего повара сготовить два постных блюда. Настал день приема. Обед получился изумительный! Такие блюда подавали, что даже Потемкин ахал! А уж кто-кто, но этот вельможа привык к роскоши! Как выразился о том обеде Суворов, «река виноградных слез несла на себе пряности обеих Индий». Сам же он, сославшись на нездоровье, клевал приготовленное собственным поваром. Назавтра Матоне прислал ему счет. Генералиссимус ужаснулся – тысяча рублей! Платить он отказался, написав прямо на счете: «Я ничего не ел». И отправил его Потемкину. Светлейший князь посмеялся и оплатил счет, сказав при этом: «Дорого стоит мне Суворов».
Глеб замолчал, заметив вдруг, что Старостин его не слушает.
– Забавно, не правда ли? – на всякий случай спросил он.
– Да, да, – встрепенулся Старостин.
– Что это с вами, Михаил Емельянович?
– Так, ничего… – Доцент отодвинул тарелку с недоеденной сосиской. – Понимаешь, инспектор из Министерства высшего образования пожаловал. Проверять.
– Кого и зачем?
– Очередную кляузу, – кисло поморщился Старостин и вздохнул. – И дернул же меня черт согласиться на участие в приемной комиссии! Лучше бы докторскую закончил! Осталось всего ничего, чепуха…
«Затянул старую песню», – подумал Глеб. Насчет докторской он слышит от патрона уже четыре года. С тех пор, как стал на последнем курсе посещать студенческий научный кружок, которым руководит Михаил Емельянович.
Ярцев ожидал, что патрон опять заведет сказку про белого бычка, то бишь про свою докторскую диссертацию, но Михаил Емельянович заговорил о его, Глеба, делах.
– С тобой надо что-то решать. Сегодня будем утверждать план защит на будущий год.
– Сделайте все, чтобы меня вставили, – зажегся Ярцев.
– Когда, милый? – усмехнулся доцент.
– Ну хотя бы в третьем, в крайнем случае – в четвертом квартале.
– Успеем ли? – покачал головой Старостин. – И потом, публикаций у тебя – раз-два и обчелся. Сам понимаешь: уж если идти, то наверняка!
– Публикацию мне в Москве обещали. Около печатного листа. И в записках нашего университета выйдет в мае лист. Это – во! – провел ладонью над макушкой Глеб, но, видя, что патрон сомневается, хмуро добавил: – По-моему, вы заинтересованы в защите товарища Ярцева не меньше, чем он сам. За два года вы не имеете ни одного кандидата наук из своих подопечных. И потом, срок аспирантуры у меня кончается. Что, в преподаватели подаваться? На сто двадцать рэ в месяц? К тому же существует наш уговор…
Старостин вытер бумажной салфеткой рот и поднялся:
– Ладно.
* * *
Телефон не прозвенел, а прошептал на тумбочке возле кровати. Ставя аппарат около себя на ночь, следователь Воеводин убирал громкость почти до конца, чтобы в случае экстренного вызова не поднимать на ноги весь дом. Сам он уже натренировался просыпаться от этого шепота.
– Разбудил? – раздался в трубке голос оперуполномоченного угрозыска Богданова.
– Разбудил, – тихо ответил Воеводин, засовывая ноги в шлепанцы. – Погоди…
С аппаратом в руках он вышел в коридор – шнур был длинный, хватало до кухни – и, плотно притворив дверь, чтобы не слышала жена, устроился на сиденье под вешалкой.
– Ну, здорово! – сказал следователь уже громче.
– Доброе утро, – с опозданием приветствовал его Богданов. – Понимаешь, Станислав Петрович, надо встретиться.
– Прямо сейчас?
– Часиков в восемь. Чтоб спокойно обмозговать. А то потом будут дергать.
– Сколько сейчас?
– Семь.
– Лады, – ответил Воеводин.
Расспрашивать оперуполномоченного, чем вызвано его желание увидеться до работы, он не стал – причина, значит, была.
Он прошел на кухню, автоматическим движением включил две конфорки электроплиты. На одну поставил чайник, на другую – сковороду для бесхлопотной яичницы. И тут только увидел на столе лист бумаги с одним словом, написанным большими буквами: «ЕЛКА!!!» – с тремя восклицательными знаками.
– Вот незадача! – сказал вслух расстроенный Воеводин.
Это было напоминание дочурки, что отец обещал сегодня купить пушистую красавицу к Новому году. Он хотел пойти на елочный базар в восемь часов, к открытию, – это было рядом, за углом, – а потом уже на работу. Елки привозили поздно вечером, торговать начинали утром, и к обеду оставались лишь самые захудалые с несколькими жалкими ветками на макушке.
Звонок Богданова нарушил планы.
С елкой тянуть дальше было нельзя – на календаре 27 декабря.
Ровно в восемь следователь открыл дверь своего кабинета, где за столом коллеги уже восседал капитан Богданов.