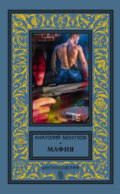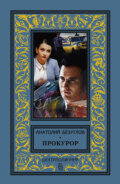Анатолий Безуглов
Конец Хитрова рынка
13
В дежурку вошел Арцыгов, ладный, веселый; скоморошничая, приложил два пальца к папахе.
– Осмелюсь доложить, начальство приказало свистать всех наверх. Совещание.
– Вольно, – махнул рукой Груздь.
Скаля зубы, Арцыгов подмигнул мне:
– Новое начальство – старые речи. Карты прихватил, гимназист? В терц перекинемся. Часа три для начала проговорит.
Но в тот вечер в карты мы не перекинулись. Речь нового начальника, если ее можно назвать речью, продолжалась всего десять минут.
Медведев оглядел комнату, заполненную сотрудниками, и не спеша достал из кармана тужурки газету.
– Мне говорили, что не все работники розыска следят за газетами, поэтому я прочту одно маленькое объявление. Вот оно: «Во время эвакуации Народного комиссариата по иностранным делам из расхищенных в вагонах вещей и документов считать недействительными два фельдшерских свидетельства от Военно-автомобильной школы и одно – запасной автомобильной роты на имя Сергея Павловича Озерова и Петра Николаевича Николаева и другие удостоверения указанных лиц. Просьба к расхитителям, – Медведев на этих словах сделал ударение, – прислать таковые: Москва, Воздвиженка, Ваганьковский, 8, Озерову. Будет выплачено соответствующее вознаграждение». Это исчерпывающая оценка работы уголовной милиции, которая, по существу, является не работой, а саботажем. Да, контрреволюционным саботажем, который наносит неизмеримый ущерб Советской власти. И с ним будет покончено. Как известно, уровень раскрываемости преступлений в бывшем сыскном отделении составлял 45 процентов. Сейчас он равен 15 процентам. Будет он не менее 50 процентов. Кто не в состоянии этого добиться, пусть подаст заявление об уходе.
Второе. В ВЧК поступают сведения о взяточничестве в уголовном розыске и о злоупотреблениях служебным положением. Людям, нарушающим основные принципы революционной законности, не место в наших рядах. Все имеющиеся сведения будут мною тщательно проверены, и на головы виновных упадет карающий меч революционного возмездия. Об организационной перестройке вы узнаете завтра из моего приказа, а новые требования усвоите во время практической работы.
Когда, ошеломленные и растерянные, мы выходили из комнаты, меня взял за плечо Груздь.
– Слыхал? Это тебе не Миловский. Факт. Если рассуждать диалектически, настоящий балтиец.
– Моряк? – заинтересовался Виктор.
– С крейсера «Рюрик». Кремень мужик. Он в нашем хлеву наведет порядочек…
У Груздя была привычка всех людей, которыми он восхищался, превращать в бывших матросов. То он убеждал меня, что Ленин пять лет служил во флоте, то с пеной у рта доказывал, что Свердлов был гальванером на броненосце, а Луначарский – бывший гардемарин. Поэтому к подобным сообщениям я всегда относился критически, но на этот раз он оказался прав. Медведев был человеком тяжелой судьбы. Перед призывом в армию он работал вальцовщиком на судостроительном заводе. Во флот тогда мастеровых брать избегали: боялись революционной заразы, но атлетическая фигура и бравый вид прельстили какого-то военного чиновника, и Медведев после прохождения подготовки на берегу попал гальванером на броненосный крейсер «Рюрик».
На крейсере процветало рукоприкладство. У матросов систематически производили обыски. Во время одного из таких обысков боцман нашел в сундучке Медведева пачку прокламаций. В ответ на удар по щеке Александр Максимович, вспыльчивый по натуре, избил боцмана до потери сознания. Каторгу он отбывал в Либаве на «Грозящем». Когда грянула революция, взбунтовавшиеся «политики» растерзали командира плавучей каторги. Многотысячный флот забурлил. И вот Медведев работает в комендатуре Петроградского военно-революционного комитета. Комендант – человек в солдатской шинели и кожаной фуражке, с труднопроизносимой нерусской фамилией: Дзержинский. Медведев участвовал в штурме Зимнего дворца, служил в ВЧК, теперь партия его направила на работу в уголовный розыск.
Да, новый начальник, член партии с 1904 года, во всем был полной противоположностью Миловскому.
Вместе с Медведевым в уголовный розыск из ВЧК перешло еще несколько человек, среди них пожилой рассудительный Мартынов, служивший до революции вагоновожатым в Уваровском трамвайном парке, и питерский рабочий смешливый Сеня Булаев.
В розыске были созданы боевая дружина, особая группа для борьбы с бандитизмом и летучий отряд, который должен был пресекать карманные кражи.
Начальником особой группы Медведев назначил Мартынова. В группу вошли Груздь, Сеня Булаев, Горев, Савельев, Виктор и еще человек десять – пятнадцать. А через неделю по ходатайству Сухорукова туда включили и меня.
– Эх, парень, парень, – качал лысой головой Мартынов (у начальника группы на голове не было ни одного волоса. Зато Мартынов отпустил себе большую бороду, как он выражался, для равновесия). – Ну что с тобой делать? Нет, обижайся не обижайся, а я буду просить Александра Максимовича о твоем отчислении.
И, не вступись Груздь, Мартынов так бы и поступил.
Если наша группа состояла из работников розыска, то боевая дружина, по существу, была воинской частью, насчитывавшей в своих рядах восемьдесят бойцов. Она находилась на казарменном положении и помимо винтовок была вооружена еще двумя станковыми пулеметами. Правда, через месяц пулеметы отобрали и передали маршевой роте, которая отправлялась на фронт.
Начались горячие дни. Вместе с ВЧК и красногвардейцами мы провели крупную операцию в районе Верхней и Нижней Масловки, ликвидировали крупную шайку, занимавшуюся контрабандной торговлей наркотиками, уничтожили бандитскую группу Водопроводчика в Марьиной роще. Но Медведев не был удовлетворен первыми результатами. Он хотел большего и исподволь подготовлял операцию на Хитровке, которую вполне обоснованно считал центром бандитизма в Москве.
Одновременно он занялся чисткой аппарата. Приказом по уголовному розыску пять бывших полицейских были отстранены от работы и привлечены к уголовной ответственности по обвинению во взяточничестве. Вскоре пронесся слух, что их вина подтвердилась и по постановлению ВЧК они расстреляны. К Медведеву поступило двенадцать заявлений от старых работников с просьбой об увольнении. Кое-кто из подавших заявление чувствовал за собой грешки, но большинство поступило так из чувства солидарности. Однако все двенадцать были уволены, никого из них Медведев не уговаривал остаться на работе.
Приказы об увольнении следовали один за другим.
– С кем прикажете работать? – пожимал плечами Горев. – С мальчишками? С представителями доблестного про-ле-тариата? Ну, понимаю, выгнать Ерохина, Корсунского, но лишиться таких сотрудников, как Иванов и Грузинский? Бессмыслица, преступление, наконец.
Так думал и говорил не только Горев. Мне действия Медведева тоже казались ошибкой. И только потом я понял, насколько он был прав. Действительно, у подавляющего большинства тех, кто остался, не было опыта, но зато у них было то, чего не хватало старым работникам, – энтузиазм. Перед Медведевым было два пути: штопать прогнившее или выбросить его на свалку, заменив новым. Он выбрал второй путь, более рискованный, но зато и более действенный, обновив аппарат розыска почти на три четверти. Развернувшиеся вскоре после этого события подтвердили правильность его решения.
14
Двор уголовного розыска напоминал большую конюшню. Еще с Трубной слышалось ржание лошадей и ругань извозчиков. Теперь давалась разнарядка, и у МУРа круглосуточно дежурило двадцать экипажей, на которых сотрудники выезжали на операции. Вначале лихачи пытались сопротивляться. Кто ссылался на болезнь лошади, кто просто не приезжал. Но после того как Груздь провел с ними «митинг», все стало на свои места. Речь матроса была кратка, но содержательна.
– Кем вы были до революции?! – патетически спрашивал Груздь у лихачей. – Лакеями самодержавия. Кого вы возили? Князей, баронов, проституток, офицеров и прочие язвы на теле трудового народа. Если рассуждать диалектически, революция вас раскрепостила, освободила от эксплуатации. Поэтому вы и должны ей служить верой и правдой. А кто будет саботировать, будем стрелять как тайных агентов буржуазии и заклятых врагов рабочего класса. Вопросы будут?
Неизвестно, что оказало большее влияние, речь или сама грозная внешность свирепого матроса, увешанного бомбами, но больше ни одного случая отлынивания не было.
Ночью я участвовал в облаве на Сухаревке. При Миловском сотрудники, принимавшие участие в ночных операциях, могли являться во вторую половину дня, теперь же каждый должен был быть на своем рабочем месте к восьми утра. Сейчас было только половина восьмого, но в большой комнате, примыкавшей к дежурке, собралось человек десять. Здесь сидели Арцыгов, Груздь, ребята из боевой дружины. Все они плотным кольцом окружили Сеню Булаева, который со вкусом что-то рассказывал. Сеня не говорил, он играл. Голос, мимика и жесты у него были такими, что мог бы позавидовать и актер. Я протолкался поближе к рассказчику.
– А, гимназист! – повернулся ко мне Арцыгов. – Небось тоже любишь цирк?
– А кто его не любит? – развел картинно руками Сеня. – Все любят… Значит, было это на второй день после приезда из Питера. Ну ладно, приходим, суем мандаты – нас в директорскую ложу.
– С Сеней не пропадешь! – подмигнул Арцыгов, скаля белоснежные зубы.
– А ты думаешь! Ну, вначале все как положено: собачки прыгают, лев по бревну, как мы по улице, ходит, гимнасты под самым куполом всякие сногсшибательные фокусы показывают. А потом выходит клоун и начинает жарить куплеты. Что ни куплет, то Советскую власть кроет. Терпел я, терпел, а потом невмоготу стало. Для чего, думаю, революцию делали, свою рабоче-крестьянскую кровь проливали?! Говорю Гофману: «Иосиф, давай его возьмем». Он мне на ухо: «Хорошо. Сразу же после представления пойдем за кулисы». – «Нет, – говорю, – сейчас!» Он меня уговаривать, а я – ни в какую. Не могу терпеть больше подобного безобразия. Вынимаю браунинг и – на арену, Иосиф, натурально, за мной…
– Врешь! – хохотнул кто-то из слушателей.
– Спросишь у Гофмана, – отмахнулся Сеня.
– А он в Москве?
– Нет, в Оренбурге.
Когда смех утих, Сеня выхватил у молоденького красноармейца только что закуренную цигарку и как ни в чем не бывало продолжал:
– Подскакиваю я, значит, к этому клоуну и говорю: «Предъявите документы!» Публика в ладоши бьет, какая-то дамочка даже «браво» кричит. Восторг неописуемый! Откуда, думаю, такая сознательность? А потом дошло: за «рыжих» нас приняли. Но тут, натурально, не до публики. Клоун сначала растерялся, глазами захлопал, а потом смекнул, в чем дело, и колесом за кулисы, драпанул, значит. Мы за ним, Гофману кто-то подножку подставил – он падает и в потолок бабахает. А я жму дальше. Гляжу, клоун на клетку со львом прыгает. «Слазь, – говорю, – стервец, стрелять буду!» Молчит и не слазит. Я смотрю на него, он на меня, а лев на нас обоих. Что тут будешь делать? «Э, – думаю, – где наша не пропадала! Отдам свою молодую, цветущую жизнь во славу революции». Зажимаю браунинг в зубах и начинаю карабкаться на клетку. Гляжу, лев тоже контрреволюцию поддерживает: рычит и хвостом себя по бокам хлещет.
– Ой, не могу, – застонал, захлебываясь смехом, рыжий парнишка из дружины. – Уморил!
– Смешно подлецу, – снисходительно кивнул в его сторону Сеня. – А мне тогда, братцы, не до смеха было. Сами посудите, лев хоть и царь зверей, а животное все-таки неразумное, ему ситуации не разъяснишь: откусит полноги, а потом привлекай его к ответственности! Но на клетку вскарабкался я все-таки благополучно. Стою на четвереньках, оглядываюсь, – Сеня присел и завертел головой, – а клоуна нет: успел уже на другую клетку перескочить и рожи мне оттуда строит…
Дослушать окончание похождений Сени Булаева мне не удалось. Ко мне подошел Виктор и потянул за рукав.
– Пошли, Медведев вызывает.
– Зачем?
– Зайдешь – узнаешь.
В кабинете Медведева было сильно накурено. Махорочный дым щипал глаза. «Всю ночь они, что ли, здесь просидели?» – подумал я, вглядываясь в лица сидящих.
– Продолжайте, Петр Петрович, – бросил Мартынов, когда дверь за нами закрылась.
– Я, собственно говоря, уже кончил, – каким-то лающим голосом ответил Горев. – Мое мнение можно сформулировать в нескольких словах: если господин Медведев желает кончить жизнь самоубийством, то для этого совсем необязательно отправляться на Хитровку. Он может прекраснейшим образом пустить себе пулю в лоб, не покидая этого кабинета.
– Зачем же так, господин Горев? – как будто обиженно сказал Мартынов. – Дело, конечно, рискованное, но не такое уж безнадежное, а вы сразу заупокойную тянете…
Медведев постучал ладонью по столу.
– Внимание, товарищи! Мы не на митинге. Дискуссию открывать не будем. Просто Горева, видимо, неправильно информировали. Вопрос с операцией решен, план ее разработан, так что спорить по этому поводу ни к чему.
– Тогда покорнейше прошу прощения, – наклонил голову Горев.
– Ну, ну, зачем же такое смирение? – добродушно усмехнулся Медведев. – Все равно не поверим. Но ближе к делу. Надежная агентура у вас на Хитровке есть?
– Что вы понимаете под словом «надежная»?
– Видимо, то же самое, что и вы. Нужны две явки. Сможете их обеспечить?
– Только такие, где бы в спину нож не всадили, – вставил Мартынов.
– Думаю, что смогу.
– Думаете или сможете? Как говорят в Одессе, это две большие разницы.
– Смогу.
– Вот и хорошо. Инструктаж Сухорукова и Белецкого возьмете на себя. Ознакомьте их с планом операции.
Из кабинета Медведева мы вышли вместе с Горевым.
– Что за операция?
– Не терпится? – усмехнулся Горев. – Сейчас узнаете. Прошу. – Он открыл дверь комнаты и пропустил нас вперед. – Должен подойти еще Федор Алексеевич, но, я думаю, мы можем начать и без него.
Мы с Виктором уселись на маленький потертый диванчик, стоящий у стены напротив письменного стола.
– Ну так вот, молодые люди, то, чем нам сейчас предстоит заниматься, уравнение со многими неизвестными. Надеюсь, господин Белецкий, вы еще не забыли математику и представляете себе, что это такое? Впрочем, свою точку зрения на эту весьма рискованную затею я уже высказал господину Медведеву, он ее не разделяет. Так что больше говорить по этому вопросу я не собираюсь, в конце концов, это не входит в мои функции. Я исполнитель. Несколько дней назад из Московской чрезвычайной комиссии нам сообщили, что они располагают агентурными данными о том, что на Хитровке готовится нападение на правление Московско-Курской железной дороги. К агентурным данным со стороны я отношусь критически; чаще всего это плоды фантазии того или иного сотрудника, который должен объяснить начальству, куда уходят отпущенные деньги. Ерохин, когда с него требовали отчета, тоже ссылался на агентуру… Поэтому мною было проверено сообщение МЧК. И оно подтвердилось. Действительно, готовится ограбление, и, видимо, в нем примет участие вся головка Хивы: так называемый атаман Хитровки Разумовский, Мишка Рябой и прочие сливки местного общества. В связи с этим я предложил усилить охрану правления, направить туда наших людей и провести ряд целевых облав на Хитровке, но господин Медведев со мной не согласился, он выдвинул свой план: ввести в бандитскую группу под видом уголовника работника розыска.
– Здорово, – сказал Виктор.
Горев иронически на него посмотрел.
– Вы так считаете, потому что слишком мало знаете Хитровку. Наша работа не терпит дилетантов. Здесь одной смелости мало. Вы помните, как погиб Тульке?
– Один погиб, другой останется в живых, – упрямо сказал Виктор.
– Дай бог, дай бог. Мне бы вашу уверенность.
– Кто же пойдет на Хитровку?
– Медведев.
– Шутите? – спросил Виктор.
– Я лично не шучу, что же касается господина Медведева, то можете у него поинтересоваться.
– Дела… – протянул Виктор.
Меня тоже ошеломило сообщение Горева. Так вот почему он тогда говорил о самоубийстве!
Довольный произведенным эффектом, Горев немного помолчал, словно давая нам возможность самим убедиться в абсурдности затеваемого, и уже другим тоном сказал:
– Медведев должен войти в шайку под видом петроградского налетчика Сашки Косого. Его на Хитровке не знают или, во всяком случае, не должны знать. Наша непосредственная задача обеспечить, насколько это возможно, охрану Медведева и поддерживать с ним связь…
Скрипнула дверь, и в комнату вошел Савельев.
– Относительно сегодняшнего разговора?
– Да, – кивнул Горев.
– Любопытное дельце, любопытное. Только уж больно рискованное! Придется потрудиться, ох как придется! Миловский бы на такое никогда в жизни не пошел – не на тех дрожжах замешан…
Горев сердито на него посмотрел и вдруг улыбнулся.
– Зажегся?
– Зажегся, – чуть смущенно признался Савельев.
С его приходом все как-то оживились. Мы приступили к обсуждению деталей предстоящей операции. Она поистине была уравнением со многими неизвестными. Просидели у Горева мы часа три.
15
Я слышал, что при уголовном розыске числится гример, он же костюмер, Леонид Исаакович. Но мне он казался чем-то вроде несуществующего персонажа из прочитанного когда-то в детстве. Поэтому, когда Горев предложил мне загримироваться и переодеться, я растерялся. Петр Петрович это заметил.
– Напоминает игру в казаки-разбойники? – спросил он и объяснил: – Самое идеальное было бы направить на Хитровку людей, которые там еще ни разу не были. Но, к сожалению, в Хиве совершенно не знают только Медведева.
– Но я же там был всего один раз…
– Поэтому вас и направляют. Но один раз – это тоже много. Правда, с Севостьяновой вы, по замыслу, встречаться не должны. Но кто может дать гарантию, что такая встреча не произойдет? А Леонид Исаакович – мастер своего дела.
Гример помещался в клетушке, больше напоминающей чулан. Здесь пахло клеем, пылью, пудрой и еще чем-то паленым. Леонид Исаакович, щуплый, подвижный человек лет сорока, встретил меня радушно.
– Присаживайтесь, молодой человек, присаживайтесь. Кого же из вас сделать? Князя, шулера, коммерсанта, гвардейского офицера? Хотя да, князей и гвардейских офицеров уже нету. Остались только бывшие дворяне и военспецы. «Бывшие» грустно звучит, не правда ли? Бывший человек – сегодняшняя болячка, любил говорить мой старший брат. Очень умный человек был, но всегда делал не то, что требовалось. Когда нужно было кормить семью, он молился Богу, а когда нужно было молиться Богу, чтобы прекратились еврейские погромы, он начал печатать революционные листовки… И даже умер не вовремя – 25 октября 1917 года, когда только нужно было начинать жить…
Леонид Исаакович действительно был мастером своего дела. Когда через пятнадцать минут я стал перед зеркалом, я себя не узнал. На меня смотрела испитая физиономия типичного золоторотца, как часто называли тогда босяков.
– Ну, так как вы себе нравитесь в таком виде? – поинтересовался Леонид Исаакович, довольный делом своих рук. – А теперь разрешите вам предложить соответственный смокинг и штиблеты.
Он вытащил из шкафа опорки, залатанные штаны, засаленную куртку с оборванными пуговицами и помог мне все это натянуть на себя…
– Вот теперь вас и мама не узнает. Хотя нет, мама все-таки узнает, на то она и мама. Мой старший брат говорил, что мама даже в мерзавце узнает своего сына, она не может только разглядеть в своем сыне мерзавца. Очень метко сказано, не правда ли?
Итак, с этой минуты я уже не бывший гимназист, не агент третьего разряда Московской уголовно-розыскной милиции и даже не Александр Белецкий, а новый житель вольного города Хивы, племянник почетного гражданина оного города Николая Яковлевича Баташова, уклоняющийся от призыва в Красную армию и сегодня приехавший в Москву из Тулы. Такова была вкратце «легенда», которой снабдил меня Савельев. Она подтверждалась паспортной книжкой, адресованным мне в Тулу письмом любимого дядюшки и серебряным портсигаром с трогательной надписью: «Котику в день его ангела от родителей».
Вручив мне все эти доказательства того, что я именно тот, за кого себя выдаю, Савельев сказал:
– Напоследок советую вам также запомнить пять заповедей, которых я всегда придерживаюсь. Первая – никогда не считать, что вы имеете дело с людьми глупее вас. Вторая – свято, но не слепо придерживаться полученной инструкции. Третья – всегда и везде быть готовым к неожиданностям. Четвертая – не думать, что храбрость может заменить ум, а смелость – находчивость. И последняя – уметь все замечать и запоминать.
В зиму восемнадцатого года пострадали многие дома. Не хватало дров, поэтому жильцы ломали деревянные балкончики, отдирали плинтусы, рубили ставни. Но особенно досталось Хитровке. После Октябрьской революции большинство нанимателей квартир отсюда сбежали, и хитрованцы, предоставленные сами себе, растащили все, что можно. Обитатели многочисленных ночлежек ломали нары, выворачивали доски пола, ворошили деревянные крыши. А большой навес посредине площади исчез еще в декабре. Рынок выглядел так, словно здесь только вчера прошли орды Чингисхана. Относительно сохранились только Кулаковка, Утюг и Сухой Овраг, расположенные между площадью и Свиньинским переулком.
Хитровка никогда не отличалась чистотой, а теперь, когда подтаял снег и покатились вниз с прилегающих переулков многочисленные грязные ручейки, она походила на громадную выгребную яму.
Рынок по-прежнему был многолюден: что-то клеили, сшивали и латали местные сапожники и портные, канючили покрытые всевозможными болячками нищие. У зловонных куч с отбросами копались ребятишки. Может быть, среди них был и Тузик. Когда мы его принесли с Виктором от Севостьяновой, он пролежал у меня недолго и, немного окрепнув, ушел. Неужто опять к Севостьяновой?
Мне нужно было найти Баташова, одного из немногих наших агентов на Хитровке. Миловский вообще выступал против агентуры, считая ее «наследием проклятого прошлого». «Агент – это предатель, – говорил он. – Агент предает своих товарищей. Полиция, создавая агентуру, тем самым растлевала людей, лишая их чести, совести, товарищества, культивируя психологию индивидуализма, корыстолюбия. Мы должны навсегда избавиться от подобных методов». Теоретически все это было очень благородно и красиво, а фактически дело дошло до того, что уголовный розыск не имел представления о происходящем.
«Новые установки мне ясны. Все ясно, кроме двух маленьких моментов, – говорил Горев, – чем я должен здесь заниматься и за что получать зарплату».
Баташов в недавнем прошлом считался наиболее удачливым «стрелком по письмам», как называли профессиональных нищих, специализирующихся на письменных просьбах о помощи. От своих собратьев по ремеслу он отличался оригинальностью стиля и недюжинным знанием человеческой натуры. Он не перечислял своих несчастий, не жаловался на судьбу, не благословлял заранее благодетеля.
«Милостивый государь! – писал он, например, купцу первой гильдии, известному богачу «с чуднинкой» Палкину. – Хотя я и знаю, что Вы подлец, каких мало, но иного выхода у меня нет. Мне позарез нужны деньги, минимум пять рублей. Указанная скромная сумма мне требуется не на хлеб, без которого по Вашей милости и по милости Вам подобных я уже научился обходиться, а на водку.
В ожидании денег неуважающий Вас, в прошлом такой же мерзавец, как и Вы, а в настоящем житель вольного города Хивы Николай Баташов».
Видимо, ядовитые, наглые строки приятно щекотали заплывшие жиром мозги и нервы. Во всяком случае, резкое письмо Баташова к Палкину не осталось без ответа. Рассказывали, что Палкин даже коллекционировал образчики его писем. Деньги у Баташова не переводились. Но революция подорвала его благосостояние: богатые люди исчезли. Тогда он сам пришел в уголовный розыск и предложил свои услуги: «Готов служить верой и правдой. Не за страх, а за совесть не говорю, ибо последней не имею».
Так ли все это было или не совсем так, судить не берусь. За время работы в уголовном розыске мне пришлось услышать много затейливых историй. Мне рассказывали о поминальнике Сашки Семинариста, куда знаменитый бандит заносил фамилии убиенных, чтобы затем на досуге помолиться за спасение их душ, о поездке Анны Севостьяновой в Париж под видом русской графини, у которой якобы был роман с гвардейским офицером. А в 1927 году налетчик Васька Коршун на допросе «признался мне», что он побочный сын Николая II, и представил в доказательство своих слов связку писем на розовой бумаге. Но, как я потом достоверно узнал, Сашке Семинаристу некогда было заниматься поминальником, Севостьянова никогда не покидала Москвы, а Николай II не принимал участия в появлении на свет в деревне Малицы в семье мельника Оглохомова седьмого по счету сына Васьки. В чем, в чем, а в этом самодержец всея Руси не повинен. Просто люди дна, пытаясь разукрасить свою грязную, бедную событиями и интересами жизнь, создавали по образцам сочинителей бульварных романов «завлекательные истории», обставляя сцену своего незавидного бытия пышной декорацией выдуманных событий и фактов.
В действительности все было проще, грязней и омерзительней.
Впрочем, то, что относится к Баташову, выглядело довольно правдоподобно, с такими, как он, я встречался и позднее.
Судя по манере держаться, разговаривать, Баташов знал лучшие времена. Вряд ли он был отпрыском голландского короля или царского министра Витте, но в прошлом, до того как спиться и оказаться на Хитровке, он, видимо, занимал какое-то место под солнцем и, наверно, получил соответствующее образование. Что же касается его писем, то и в них можно поверить: купечество любило выдумывать себе причуды, которые считались своего рода показателем благосостояния и находились в прямой зависимости от размеров нажитого капитала. Если какой-нибудь купчишка заявлял о себе разбитым зеркалом в ресторане, то Солодовников, например, или Хлудов могли позволить себе что-нибудь пошикарней. Знай наших!
Я подошел к трехэтажному дому, расположенному сразу же за Утюгом, и, кое-как перебравшись через огромную лужу, на которой островками возвышались холмики ржавых жестянок и еще какой-то дряни, остановился у косо висящей на одной петле двери. Здесь я был зимой вместе с Сухоруковым, Савельевым, Горевым. Вон и фонарь, возле которого лежал труп Лесли. Да, Арцыгов отделался ничем. А сейчас что же, дело прошлое…
Я начал подниматься по ступенькам. Главное – не встретиться с Севостьяновой или Тузиком. Правда, узнать меня, по утверждению Леонида Исааковича, могла бы только мать родная, но осторожность прежде всего. До ночлежки я добрался благополучно.
– Где Николай Яковлевич? – спросил я у первого попавшегося мне оборванца.
– А ты кто такой? А, племяш! Ну, давай, сейчас покажу.
Он провел меня в закуток между двумя рядами трехъярусных нар и, нагнувшись, крикнул:
– Вылазь, Яковлевич!
Под нарами послышалось недовольное ворчание и сухой кашель, будто кто-то отщелкивал костяшками на счетах.
– Слышь, сродственник приехал!
Показалась неряшливая седая голова, осыпанная перхотью, блеснуло пенсне. Истощенное узкое лицо, горбатый нос в склеротических жилках, на худой шее сдвинутая набок «бабочка». Да, мой новоявленный дядя ни красотой, ни чистоплотностью не отличался. Ко всему прочему, он еще, кажется, был пьян. Оборванец не уходил, а с соседних нар на меня с любопытством – или мне это только казалось – смотрело несколько пар глаз. Во всяком случае мешкать было нельзя.
– Дядя Коля! – сказал я ненатуральным голосом. – Это я, Костя.
Баташов уставился на меня воспаленными глазами, и, кажется, в них мелькнула искорка разума.
– Костя? Приехал!
Он схватил мою голову и прижал ее к своей груди, дохнув на меня винным перегаром. Так играют встречу родственников в плохих провинциальных театрах. Но оборванец не был избалован талантливым исполнением. Судя по всему, он был удовлетворен и, «сделав мне ручкой», отправился по своим делам. Исчезли головы любопытных и с соседних нар.
Итак, худо ли, хорошо ли, но встреча любящих родственников состоялась.