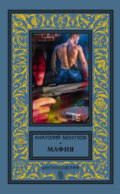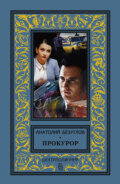Анатолий Безуглов
Конец Хитрова рынка
16
От Баташова требовалось немного. Он должен был представить меня хозяину ночлежки в качестве своего племянника и поместить рядом с собой на нарах, которые находились как раз против двери, ведущей в притон Севостьяновой. Надо признать, что, хотя Баташов был сильно пьян, со своими обязанностями он справился сносно.
Хозяин ночлежки, кудлатый, в суконном картузе, внимательно меня осмотрел и потребовал «пачпорт». Мой паспорт произвел на него благоприятное впечатление.
– Это хорошо, что пачпорт имеешь, – сказал он, – а то всякая сволота тут шныряет. Держи ухо востро! Деньги есть? Ежели есть, лучше мне на сохранность отдай, чтобы честь по чести. Шпаны набилось. Одно беспокойство Николаю Яковлевичу, – посочувствовал он Баташову. – Даже штоф распить не с кем… Худые времена! Надолго?
Я пожал плечами.
– За место все одно вперед уплати, – решил он. – Теперь никому верить нельзя.
Я уплатил вперед и отправился на Солянку звонить в уголовный розыск, что начало положено.
Вечерело, слабо светились окна домов. В нашей ночлежке зажгли три керосиновые лампы. Возле одной из них расположились, поджав под себя ноги, портные, их было человек восемь – десять, у другой – картежники. Большинство ночлежников уже укладывалось на ночь, среди них были и женщины с детьми. Постукивая клюкой, прошел благообразный слепец с седой бородой, впереди него бежала собачонка. В дальний, неосвещенный угол комнаты, переругиваясь, направилась шумная компания беспризорников.
– Ну-с, в объятия к Морфею? – спросил Баташов.
Я молча полез на нары. Здесь пахло заношенной одеждой, потом, сивухой. Устроившиеся рядом подростки били вшей. Молилась Богу старуха в черном платке, плакал ребенок. Где-то под нами переговаривались, видимо, муж с женой.
– Да не жила я с ним, – убеждал высокий женский голос.
– Врешь, стерва, жила.
Баташов вскоре уснул. Спал он с открытым ртом, похрапывая, дергаясь. Горела только одна лампа, вокруг которой мелькали призрачные тени людей. Через несколько человек от нас надрывно кашлял Женька-наборщик, длинный, узкогрудый, с желтым, как воск, лицом, на котором темными ямами чернели запавшие глаза. Женька, в прошлом типографский рабочий, умирал от туберкулеза. Когда хозяин ночлежки показывал мне на место на нарах, Женька попросил закурить.
– Тебе же вредно, – сказал хозяин.
– Мне теперь ничего не вредно, – ответил Женька, скручивая козью ножку. – Мне жизни осталось самую малость. Еще недельку-другую протяну и копыта отброшу. Для чахоточных весна самое время с жизнью счеты сводить. – И, заглядывая мне в глаза, спросил: – Веришь, золоторотец, что Женька лучшим наборщиком в типографии Сартакова был? Не веришь? Восемь лет хозяин в пример всем ставил, а начала жрать чахотка, выгнал, кровосос. «Иди, – говорит, – думаешь, не знал, что прокламации под тихую печатаешь? Знал, но терпел, пока нужен был. А теперь иди, Женька, не работник ты. Иди, подыхай, на революцию свою уже с неба смотреть будешь…» Ошибся хозяин: с земли я ее увидел, с земли… А его, гада, вчерась вперед ногами вынесли. Только кровушку он всю мою уже выпил. Пузатый был, что боров, вот такой. – Женька показал, каким толстым был его хозяин, и закашлялся. Харкнул кровавым сгустком, растер его ногой и, сгорбившись, заковылял к своим нарам.
Сколько здесь вот таких Женек, растоптанных хозяйским сапогом и выброшенных за ненадобностью на свалку жизни – Хитров рынок?!
Но ничего, придет и для них светлое время. Придет, в этом я не сомневался.
Задремал я уже под утро. Разбудила меня какая-то возня.
– Пусти, родненький! Не убивай, родненький! Люди добрые, помогите! – пронзительно кричала молодая женщина, которую таскал за волосы и тыкал лицом в пол озверевший мужчина в толстовке.
К нему подбежали, схватили за руки. Женщина вырвалась и, окровавленная, в разорванном платье, выскочила из ночлежки.
– Пятирублевку затырить хотела, а? Пятирублевку, а? – хлопал себя по бедрам мужчина в толстовке. – Да я ей паскудную голову оторву!
– Ну, ну, развоевался! – свесился с нар Женька-наборщик. – Как бы тебе не оторвали!
– А ты, покойник, молчи! – огрызнулся мужчина. – Одной ногой на том свете, а туда же!
За Женьку вступились. Началась ругань.
Баташова рядом со мной не было, пришел он через час, растрепанный, навеселе.
– Гут морген! Как спалось? Какие сны? – игриво спросил он, взобравшись на нары.
Кашляя и сморкаясь, Баташов стал рассказывать хитровские новости. Среди них была одна весьма неприятная: на рынке опять появился Невроцкий.
– Вы не путаете? – насторожился я.
Но Николай Яковлевич был в этом уверен.
– Баташов никогда не путает, молодой человек. Этого быка в золотых очках, которые идут ему, как корове седло, я еще с 1912 года знаю, когда он здесь куролесил с Сашкой Семинаристом. Я видел его ровно час назад в чайной Кузнецова.
Появление Невроцкого могло сорвать всю операцию. Невроцкий, или, как его почему-то прозвали в преступном мире, Князь Серебряный, вернувшись в конце прошлого года с каторги, праздновал свое возвращение на Хитровке. Он был заядлым картежником и в одну из пьяных ночей проигрался в пух и прах. Срочно нужны были деньги. С двумя револьверами в руках явился в Устинские бани, убил кассиршу и с помощью дружков забрал все белье моющихся, которые остались в чем мать родила.
Дерзкое ограбление проходило среди белого дня. Группа сотрудников уголовного розыска во главе с Груздем, который никак не мог усидеть в своем кабинете, задержала его в трактире, но по пути в розыск Невроцкому удалось соскочить с пролетки и скрыться. Его сообщник Глухой показал на допросе, что Невроцкий в тот же день уехал куда-то на юг. Действительно больше о нем никто ничего не слыхал, и вот он снова здесь.
Безусловно, Невроцкий запомнил Груздя и сразу же его при встрече опознает, а это приведет к провалу всей операции: ведь на Хитровке Груздь – это дружок Сашки Косого… Что же делать? Звонить Мартынову, чтобы тот срочно организовал облаву? Но время не терпит, да и слишком мало шансов, что Невроцкого, который знает на Хитровке все ходы и выходы, удастся найти. Предупредить Груздя или Медведева?
Но где их найдешь? Может, заглянуть в чайную Кузнецова, где должен быть Виктор, возможно, он знает?
Я встал и увидел, как дверь в ночлежку широко распахнулась. Вошли Груздь, Медведев и еще двое. Одного из них, приземистого с крупными рябинами на приплюснутом, широком лице, я узнал по описаниям – это был Мишка Рябой.
Груздь подошел к группе играющих в карты и незаметно мне подмигнул. Я ему ответил тем же и, сделав условный знак, прошел в закуток, где нас никто не смог бы увидеть. Все решалось само собой. Но в следующую секунду я почувствовал за своей спиной чье-то тяжелое дыхание. На человеке, стоявшем за мной, были золотые очки. Он пристально смотрел на Груздя. Невроцкий! Груздь его тоже узнал. И тут Груздь сделал единственное, что он мог сделать, чтобы не провалить Медведева.
– Держи Сашку Косого и Невроцкого! – дико закричал он, приседая и выхватывая наган.
У входа я заметил Сеню Булаева с громадным смит-вессоном в руке.
Дальнейшее произошло с молниеносной быстротой. Пронзительно заверещал милицейский свисток, суматоха, давка. Я видел, как Медведев швырнул табуретку в висячую керосиновую лампу. В темноте лихорадочно захлопали выстрелы. Затем все стихло, только монотонно падали капли, видимо, вытекал керосин из разбитой лампы. Я сорвал с окошка тряпку. В ночлежке посветлело. «О господи, о господи», – бормотала какая-то женщина сидя на полу и часто крестясь. Ее насмешливо утешал басистый мужской голос: «Не вой, маруха, что отстреляли пол-уха, судьба не муха, ликуй, что не полбрюха».
Медведева, Груздя, Невроцкого, Сени Булаева и Мишки Рябого в ночлежке не было. Значит, видимо, никто из них не пострадал. Я вышел на волю. Хитров рынок жил своей обычной жизнью. К выстрелам здесь привыкли. Мимо меня прошел Сеня Булаев, не поворачивая головы, сказал:
– Все в порядке.
Так спутался план операции, тщательно разработанный до мельчайших деталей на ночном совещании у Александра Максимовича. Жизнь внесла свои коррективы.
Новая обстановка, в которой теперь приходилось работать, имела, как выражался Груздь, свои «арифметические плюсы и арифметические минусы».
После всего случившегося Медведев был у уголовников вне подозрения. Но система связи с ним нарушилась: Груздь вынужден был покинуть Хитровку. Сеню Булаева Мартынов тоже снял с рынка, так как его могли заметить во время перестрелки.
Только в эти дни я понял по-настоящему, что такое напряженная работа. Теперь на Хитровке остались лишь Медведев, Сухоруков и я. Мы с Виктором должны были наладить информацию, постоянно поддерживать двустороннюю связь между Медведевым и уголовным розыском и принимать все меры к охране Александра Максимовича. Последнее было особенно трудно, так как Сашка Косой частенько находился в таких местах, куда ход нам, «обычным золоторотцам», был заказан. Поэтому пришлось более широко использовать Баташова. Между тем Николай Яковлевич, напуганный происшедшим, начисто отказался принимать какое-либо участие в операции. Пока удалось его уломать, намучились немало. А события развивались стремительно…
В чайной теперь часто бывали Разумовский, Невроцкий, Мишка Рябой и налетчик Лягушка (его мы безуспешно разыскивали после нескольких налетов, среди которых было и ограбление бывшего универсального магазина фирмы «Мюр и Мерилиз» на Петровке).
Через Баташова Медведев передал, что пришла «ксива» и Разумовский ждет приезда «деловых ребят» из Питера.
Узнав об этом, Горев начал настаивать на необходимости «кончать маскарад и попытаться взять бандитов в чайной». Но Мартынов только качал головой.
– Вы понимаете, что приезд уголовников из Петрограда – это смерть Медведева?
– Понимаю. Но приказания нарушить не могу. Савельев звонил в Петроград, и там обещали их перехватить.
– А если кто-нибудь из них все-таки проскочит?
– «Если» не будет.
На всякий случай решено было усилить наблюдение за чайной Кузнецова. Вскоре я и Виктор туда перебрались, поместившись в каморке. Мы уже знали, что Медведев вместе с Невроцким, Разумовским, Мишкой Рябым и Лягушкой вошли в дело.
Наступила жаркая пора, нервы были напряжены до предела. Неужто в Петрограде не смогут арестовать гастролеров? Но во время одного из докладов Мартынов мне сказал:
– Передай, что все в порядке. Гостей на Хитровке не будет.
Стало известно, что руководят налетом Мишка Рябой и Невроцкий. Невроцкий считал, что самое важное – бесшумно уничтожить охрану правления железной дороги. Здание хорошо охранялось. У подъезда круглосуточно стояли два вахтера, а в дежурной комнате находились шесть сменщиков. Нападение на охрану с улицы неизбежно должно было привести к перестрелке, а следовательно, к неудаче. В течение трех дней дом тщательно обследовался, заходила туда под видом просительницы и Севостьянова. Наконец обнаружили винтовую лестницу на чердак. Двери чердака были заколочены, но открыть их не представляло особой сложности, тем более что на крышу вела пожарная лестница. Мишка Рябой уже дважды лазил на чердак и убедился, что вход полностью безопасен. Группа в шестнадцать человек должна была пробраться через чердак в здание и бесшумно вырезать охрану сначала в комнате, а потом и у подъезда. После этого Невроцкий подавал знак «стремщику», караулившему на улице, и тот вызывал грузовики, которые до этого должны были стоять за углом.
Единственным нерешенным моментом оставалось место сбора перед налетом. Мишка Рябой предлагал собраться на Хитровке в Сухом Овраге, но против этого выступили Невроцкий и Севостьянова: Хитров рынок находился под наблюдением уголовного розыска. Этим обстоятельством и воспользовался Медведев. Он сказал, что год назад, когда он «работал» в Москве, он пользовался для аналогичных целей квартирой в доме Афремова. Квартира эта имела черный ход, через который можно было пройти, минуя глаза любопытных.
Дом, о котором шла речь, пользовался тогда широкой известностью. Выстроенный богатым купцом Афремовым, он был одним из первых восьмиэтажных домов в Москве. Жильцы его, как правило, не знали друг друга и не обращали внимания на появление новых лиц. Дом имел еще и то преимущество, что находился недалеко от правления дороги.
Поэтому мысль Сашки Косого понравилась. На следующий день Севостьянова поехала в Орликов переулок. Она внимательно осмотрела квартиру и одобрила выбор.
В налете должны были участвовать двадцать три человека. Некоторые из них друг друга не знали. Сбор был назначен между десятью и половиной двенадцатого. На всякий случай приходить решили поодиночке. Керосиновая лампа с оранжевым абажуром, выставленная на подоконник второго окна справа, означала, что все спокойно.
К вечеру в квартире, «хозяином» которой был один из работников розыска, собралось двенадцать сотрудников и красноармейцев боевой дружины. Первым взяли Мишку Рябого.
– Фартовый ты парень! – восхищенно говорил Рябой Сашке, поднимаясь вместе с ним по лестнице. – Только прихрял, а тебе все: и дружки, и бабы, и кругляки. Сколько я тебя знаю? Мизер. А люблю.
Его красное рябое лицо и затуманенные кокаином глаза выражали преданность.
– Ты мне скажи, что желаешь? Все отдам!
Медведев крепко стиснул своими железными пальцами кисть его правой руки.
Мишка рванулся, но его ударили сзади по затылку и сбили с ног.
– Затыкайте рот, связывайте и живо в третью комнату, – распорядился Медведев. – Остальных брать в прихожей. Только без шума.
На протяжении часа было задержано пятнадцать человек. Все делалось настолько молниеносно, что никто не успел не только оказать сопротивление, но даже крикнуть. Всех их связывали и складывали в глубине квартиры, где они находились под охраной Сени Булаева и Груздя.
Словоохотливый Сеня Булаев не мог удержаться от маленькой нравоучительной беседы. Вернее, это была не столько беседа, сколько лекция, так как у всех собеседников были заткнуты рты. Сеня уже успел довольно убедительно, к вящему удовольствию Груздя, вскрыть социальные корни бандитизма и обосновать необходимость его уничтожения, когда на лестнице гулко прокатился выстрел. Кое-кто из лежащих бандитов зашевелился и приподнял голову.
– Урок политграмоты прерывается! – объявил Сеня. Его благодушное лицо сразу же стало жестким и настороженным. – Шевелиться не рекомендую. В случае чего перестреляем всех!
Стрелял Невроцкий. Осторожный и хитрый, Князь Серебряный дважды прошелся вокруг дома, пытаясь заглянуть за плотно затянутые шторы, потоптался у входа, присматриваясь, нет ли чего подозрительного, и, наконец, медленно начал подниматься по ступенькам. На лестничной площадке второго этажа он остановился и прислушался: видимо, какой-то шорох показался ему подозрительным. Шло время, а он стоял. Каждую секунду могли подойти остальные участники ограбления. Сотрудник, притаившийся в передней, не выдержал: он быстро распахнул дверь и кинулся на Невроцкого. Тот выстрелил и с удивительной для его лет быстротой помчался вниз, перепрыгивая через ступеньки.
Но улизнуть ему на этот раз не удалось: в подъезде его уже ожидали Сухоруков и двое красноармейцев.
Встревоженные выстрелом, обыватели зашевелились. В окнах замелькал свет. Кто-то даже загремел дверной цепочкой.
– Успокой. Чтобы через секунду все спали, – приказал Медведев Мартынову.
Внушения Мартынова подействовали: вскоре весь дом замер и снова погрузился в темноту.
Остальные участники ограбления, в том числе Разумовский и Лягушка, были взяты без всякого шума.
Так закончилась эта операция, о которой потом долго вспоминали сотрудники розыска. Почти вся преступная верхушка «вольного города Хивы» была арестована.
«Хитровское дело» не только создало новому начальнику непререкаемый авторитет, но и заставило нас поверить в свои силы. В последующие две недели были ликвидированы банды Адвоката, Мартазина, Сынка.
17
Зловещей была весна 1918 года. Свирепствовал брюшной тиф, вспыхнула эпидемия холеры. Когда стаял снег, мимо свалок нечистот можно было пройти, только зажимая нос. Вода в Москве-реке была густой и черной, как деготь. На мелких волнах качались раздувшиеся трупы собак и кошек, обломки бревен. Кругом грязь, запустение. Даже солнце казалось каким-то тусклым, запыленным. И самое страшное – угроза голода. Люди недоедали. Обвисли щеки Груздя, еще больше вытянулось узкое лицо Виктора, чаще рассказывал о петроградских трактирах Сеня Булаев.
В мае я впервые увидел на улице человека, умершего от голода. Это был старик с грязно-седой бородой, в нижнем белье: верхнюю одежду с него успели снять мазурики. Рот умершего был широко открыт, в одной руке он сжимал голову воблы, другая была подогнута под живот. Недалеко от трупа стояло несколько взъерошенных, тощих собак с поджатыми хвостами. Прохожие поспешно проходили мимо. Собаки скалили зубы и все плотней сжимали кольцо вокруг трупа…
От Тузика я узнал о смерти Женьки-наборщика.
– В аккурат двадцать седьмого мая преставился, – сообщил он. – Думал, от чахотки помрет, а помер с голодухи. Да и Баташов Николай Яковлевич – не знал случаем такого? – на ладан дышит…
Голод приближался неотвратимо. Болезни и голод. В газетах по соседству с фронтовыми сводками замелькали сообщения: «Организуется лига борьбы с заразными заболеваниями», «В Москву сегодня прибыло столько-то вагонов с хлебом», «Продотрядовцы с завода Михельсона сообщают…», «Крестьяне шлют хлеб своим братьям…».
– Ну как, займемся огородничеством? – подмигнул мне Сеня Булаев, который в самых трагических ситуациях сохранял способность шутить.
Он протянул мне объявление, явно предназначавшееся на курево.
«Граждане! – писалось в нем. – Мы недоедаем. В двери наших домов стучится голод. Пощады от него не будет никому. Защита от голода и его последствий в наших руках. Перед нами массы пустующих земель. В грозные голодные годы преступно оставлять неиспользованной даже одну пядь земли. Все пустыри и заброшенные земли должны быть разработаны и заняты овощами. Уделяя огородничеству не более двух часов в день, взрослый мужчина или одна взрослая женщина смогут возделать до 300 квадратных саженей огорода.
Центральная огородная комиссия».
Энтузиасты из центральной огородной комиссии все подсчитали, все предусмотрели, забыв только одно: для того чтобы возделывать огороды, надо было иметь что сажать…
– Ну так как, займемся? – повторил свой вопрос Сеня. – Посидел двое суток в засаде, вернулся – картошечку посадил. Пострелял малость в бандитов – огурчиками занялся… – И неожиданно спросил: – Жрать небось хочешь?
– Не особенно.
– Интеллигент паршивый! – выругался Сеня и достал из ящика стола полбуханки ситного хлеба. – Мать из деревни прислала, шамай… Ну, чего глядишь? Шамай, говорят.
– Ну что ты, – смутился я.
– Тяжелый вы народ, интеллигенты, церемонии любите! – Он разломил хлеб на две части, присолил и протянул один кусок мне. – Давай, давай.
Таким был Сеня Булаев, парень, которого я раньше в глубине души считал легкомысленным эгоистом, ничего не замечающим вокруг себя. Жизнь заставила меня изменить оценку и Груздя и Медведева. Черствый и резкий на первый взгляд, Медведев неожиданно оказался исключительно душевным человеком, к которому тянулись сотрудники, чтобы поделиться своими бедами и горестями. А бед в то время было немало: у одного семья оказалась на оккупированной территории, у другого сын лежал при смерти и требовалось раздобыть хорошего врача… И всегда, когда мог, Медведев помогал. Ведь именно он добился освобождения Горева и Корпса, когда они были арестованы, как бывшие офицеры. Но душевность Медведева не бросалась в глаза, а я замечал только то, что было на поверхности. Оно и воспринималось мной как характерное, определяющее.
Боевая дружина уголовного розыска почти в полном составе была отправлена на фронт на подавление чехословацкого мятежа. Работы прибавилось. Больше всего доставалось особой группе. Я никогда раньше не думал, что сон может стать такой недосягаемой мечтой. Какое счастье снять тяжелые, набившие ноги сапоги, размотать портянки, пошевелить голыми пальцами и уснуть…
В довершение ко всему Медведев издал приказ, обязывающий всех сотрудников, свободных в дни занятий от облав и других «служебных мероприятий», посещать кружок политграмоты. Арцыгов, который пропустил первое занятие, был посажен на сутки под арест. Александр Максимович шутить не любил.
Руководитель кружка приходил к нам раз в неделю, по воскресеньям. Это был краснощекий, белокурый студент в лихо заломленной фуражке. Держал он себя с нами запанибрата, глухо хлопал по спинам, рассказывал анекдоты. У студента была длинная, трудно выговариваемая польская фамилия, начинавшаяся с буквы «ч». Ее никто не мог запомнить, и с легкой руки Сени Булаева его назвали просто товарищем Ч.
Хорошо помню первое занятие, которое товарищ Ч посвятил шутливой исповеди Карла Маркса.
– Самым главным достоинством в людях, – говорил он, – Маркс считал простоту. А на вопрос, какое достоинство он больше всего ценит в женщине, великий философ ответил: «Слабость».
– Не согласен! – крикнул с места Груздь.
– С чем не согласен? – поразился товарищ Ч.
– С товарищем Марксом не согласен, – заявил Груздь. – Может, для жен интеллигентов это и подходит, а для наших – никак. Посуди сам. Детей она должна рожать? Должна. По домашнему хозяйству должна управляться? Должна. А слабая будет, какой с нее толк? Нет, не согласен с товарищем Марксом.
Товарищ Ч не совсем удачно начал было говорить о положении женщин при капитализме и коммунизме, о том, что исповедь Маркса носит шутливый характер, что подобные высказывания нельзя понимать так прямолинейно, но Груздь упрямо повторял:
– Говори что хочешь, а у меня с товарищем Марксом по этому вопросу коренные разногласия.
Голова товарища Ч с легкостью вмещала в себя самые разнородные знания, он был, что называется, «ходячей энциклопедией». Но объяснял плохо, перескакивая с одной мысли на другую, совершенно забывая про уровень аудитории. Особенно раздражали многочисленные иностранные слова, которыми он обильно уснащал свою речь. Но Груздю, кажется, именно это больше всего и нравилось. В то время как кое-кто пытался по возможности незаметно вздремнуть, Груздь был весь внимание. Он даже завел себе специальный словарик непонятных слов. Как-то этот словарь попал мне в руки. На первой странице значилось: «Атеизм – религия – опиум для народа. Гегемон – то есть мы. Дуализм – и вашим и нашим. Идеализм – поповщина. Материализм – то, что нужно. Империалисты – спекулянты, буржуи и прочая сволочь».
– Что есть государство? – любил экзаменовать Груздь Сеню Булаева. – Не знаешь? А между тем раз плюнуть. Государство есть орудие принуждения. А кто есть у нас господствующий класс?
– Отстань, христа ради! – просил Сеня.
– Нет, не отстану. Кто есть господствующий класс?
– Матросня? – подмигивал Арцыгов.
– Врешь. По своей политической безграмотности ни бельмеса не понимаешь, – невозмутимо парировал Груздь. – Матросы, солдаты и казаки не класс. Если рассуждать диалектически, то господствующий класс есть пролетариат, то есть рабочие и крестьяне – одним словом, гегемоны. Ясно?
Сеня подтверждал, что ему все ясно. Но избавиться от Груздя было не так-то просто.
– А если ясно, то растолкуй мне, что такое гегемон?
– А что тут растолковывать? Каждому шкету понятно, гегемон он и есть гегемон, – хитрил Сеня.
– Не знаешь, – торжествовал Груздь. – Блох давил, когда товарищ Ч марксистскую концепцию давал. А гегемоны между тем те, кто властвует. А кто властвует? Мы с тобой.
– На пару, значит, властвуете? – вставлял Арцыгов.
– А то как же? Не будем же тебя, недоумка, третьим в компанию брать, – отвечал Груздь.
Экзамен по политграмоте обычно заканчивался тем, что, выйдя из терпения, Сеня делал зверское лицо и кричал:
– Готской программой клянусь, на братоубийство меня толкаешь! Не заставляй грех на душу брать.
Груздь спокойно пережидал, когда смолкнет взрыв хохота, а потом заключал:
– Дурак, он дураком и останется, даже если по исторической случайности в класс гегемонов попадет.
Груздь любил, чтобы последнее слово всегда оставалось за ним.