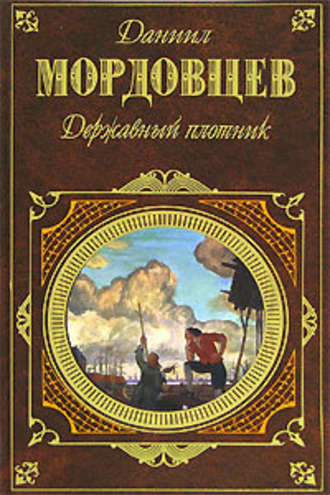
Даниил Мордовцев
Державный плотник
– Мы ли, батюшка, не молимся! Кажись, денно и нощно.
– Мало, без усердия, не с чистым сердцем.
– Да я тебе, отец родной, ладану четверик поставлю росного, жги, кури темьяном-то Божьим до неба.
– Так-то оно так, да все не то.
– Свеч тебе надобно? Да я тебе свеч поставлю лес целый, бор бором.
– Оно точно.
– А колокол хошь? В тыщу пудов вгоню.
– А может, Бог и смилуется. Только этот самый пифик говорит отцу Мардарью: «За чужие-де грехи Москва понести должна. Еретик-де сидит у вас в Чудовом».
– Кто же он, отец родной?
– Амвросий, слышь, архиепископ...
– То-то мы слышали, не русской он веры, слышь, а малороссийской, из волох родом.
– Это точно. Не архиерей он Божий, а Оброськретик...
– Ох, грехи, грехи!
– Вот нам, церковным попам, служить не велит, народ от веры отгоняет. Вот что пифик сказывал.
– Да растолкуй ты мне, Христа ради, батька, кто же этот фифик-то самый? Святой муж, что ли? Не пойму я что-то.
– Все это от темноты.
– Знамо, от темноты. Да где же нам свету-то взять? Только от вас, попов, и светимся.
– А он нас гонит, Обросим-то, архиепископ.
– За что же гонит-то?
– А ради своей корысти, чтоб его церковникам жирнее было... Оттого Бог и мор наслал на нас.
Так «гулящий попик», недалеко от Варварских ворот, стоя у одной лавки Охотного ряда, проповедовал невообразимые нелепости толстому купчине с мочальной бородой и этими нелепостями ужасал своего доверчивого слушателя так, что того бросало в жар и в холод. Не было басни самой невозможной, но только приправленной непонятными словами вроде «пифик» или «чудо», или «знамение», или «в образе старца» и т. п., которой бы не поверил народ и та из его интеллигенции, которая сидела по Охотным да Сундучным рядам. А теперь эти россказни вертелись или около «мору», или около будущего «каменного дождя», или же ожидаемой «огненной реки», – и все напряженно слушали ораторов вроде «гулящего попика». А «гулящий попик» представлял собою олицетворение того неудовольствия, которое с каждым днем росло все более и более среди бедного и заштатного духовенства на архиепископа Амвросия, решившегося изгнать из Москвы «наемное священство». Преосвященный тем энергичнее приступал к этому делу, что видел, как народные скопища, руководимые гулящими попами, способствовали распространению заразы: больные и зараженные выползали на площади, чтобы присутствовать на молебствиях, терлись около здоровых, заражали своим иконоприкладством и лобызанием крестов, и эти иконы и кресты, к которым прикладывались после них здоровые, и разносили по домам и по всему городу смерть.
Пресечь это исторически окрепшее на московской почве зло не было никакой возможности: скорее Москва-река потечет вспять, чем Москва-город пойдет вперед, поступится своими историческими привычками. Да и как искоренить это зло, когда и народ, и сидельцы, и купчины всевозможных родов, и сами попы, – все это воспиталось на одном молоке, все это одинаково верит и «пифику» какому-то, которого никто не видел, и «каменному дождю», и «огненной реке», и «жупелу», и «старцам в сониях»! Амвросий, не понимая московского человека, для которого кричание молитвенное, и каждение ладаном до неба, и оглушительное колокольное славословие – та же «широкая масленица», старается, вместе с Еропкиным, вытеснить с улиц и площадей «гулящих попиков» с их блеющей до неба паствою, а вместо этих попиков выползают на торжище настоящие попы, ставленные, хиритонисованные, и литургисают во всю ивановскую. «Мерзкие козлы, и попами их грех назвать!» – кричит с негодованием самовидец московских оргий, Бантыш-Каменский, племянник Амвросия и отец историка. «Мерзкие козлы, оставив свои приходы и церковные требы, собирались тут же на площадях, с налоями, делая торжища, а не богомолье...»
А между тем Амвросий, ратуя против всесильного Охотного ряда, не видел, что этим он скопляет над собой и над всей Москвой страшный горючий материал. Он не видел, что сера уже клокотала под землей. По улицам уже ходили рассказы о «сониях», о «пификах», о плачущей иконе... Имя «нерусского» архиерея начало повторяться чаще и чаще.
– У него, матыньки, келейник, запорожец во какой! Сама видела.
– С косой, мать моя, и табачище жрет.
– Вон у него в Воскресенском брат архимандритом, Никоном называется, настоящий Никонишко-табашник.
– А там, мать моя, к попу Мардарию пифик, сказывают, приходил...
– Какой пифик, родимушка?
– А страшный, коленками назад.
– Владычица-матушка! Укрой от глада и мора!
И стоном стонет Москва от своей глупости. А между тем мор не унимается. Народ начинает озорничать, нет-нет да придерется к чему-нибудь или к кому-нибудь, да в салазки, да за волосы, и пошла потасовка на улице... А уж «чужой» и не подвертывайся: свои собаки грызутся, чужая не мешайся, разорвут.
Вон от Троицы-на-рву, мимо Винных рядов, мастеровые несут покойника. Хмурые лица такие. «Гулящий попик» уже впереди, вытащил из-под монатейки крестик, забыл о «пифике» и уже козлогласует: «Житейское мо-о-ре!..»
В тот же день, возвращаясь из своих разъездов Варварскими воротами, веселый доктор вдруг велел своему вознице остановиться. Что-то на площади привлекло его внимание...
По площади шел солдат, лицо которого особенно резко бросалось в глаза своими густыми бровями. Рядом с ним бежала собачонка и заглядывала в глаза своему спутнику. Солдат, видимо, рассуждал о чем-то, обращаясь к собачонке, а собачонка, казалось, понимала его.
– Да-да! – пробормотал доктор. – Да это, кажись, старый знакомый. Да и собачонка наша.
Солдат поравнялся с доктором, продолжая разговаривать с собакой.
– Эй, служба! Здорово! – закричал доктор. Солдат остановился, а собачонка разом весело залаяла и приветливо замотала хвостом.
– Али не узнаешь азовца, Рудожелтый Кочет? – улыбался доктор.
– Ах, ваше благородие! Как не узнать вас? – радовался солдат.
– А! Узнал, рыжий!
– Вас-то не узнать! Да будь вы иголка, так я вас в стоге сена сыскал бы.
– Так-так. Вон и Маланья узнала. Ах ты, псина глупая!
Собачонка, казалось, одурела от радости, она так и лезла на дроги.
– Какими судьбами сюда попал с Прута, рыжий? – спрашивал доктор.
– Да с полковником Шаталовым, ваше благородие, из Хотин-города.
– Давно? И как пробрались в Москву?
– Еще летось... Ну, и в карантене проклятом высидели. И Меланья с нами, тоже службу несет.
– А приятель твой где?
– Забродя-то, ваше благородие?
– Да. В Турции остался? Жив?
– Да в карантене с нами был...
Рыжий замолчал.
– Ну, и что ж?
– Тосковал шибко. Заговариваться стал, все Горпину какую-то вспоминал да вишневый садочек, да леваду какую-то там. Бог его знает. Совсем рехнулся человек, Горпина да Горпина... Нашего брата, ваше благородие, эти Горпинки до добра не доведут. Эх! Кусай ее мухи! – И рыжий отчаянно махнул рукой и замолчал.
X. СМЕРТЬ ГРЕШНИКОВ ЛЮТА!
Время между тем шло, и чудовище разрасталось все более и более в форме какого-то гигантского тысяченога, бесчисленные лапы которого с каждым днем все крепче обхватывали Москву, словно паук муху. Муха билась в цепкой паутине чудовища и еще более запутывалась.
По глазам веселого доктора, по озабоченности всех врачей медицинской коллегии: Шафонского, Эразмуса Ягельского, Лерхе и других Еропкин видел, что Москва погибает в лапах чудовища. Надо отрезать этот страшный карбункул России от всего остального государственного тела.
И вот московские медицинские власти к концу апреля приходят к неизбежному убеждению, как слепые к стене, что «предосторожность о сбережении целого государства требует: город Москву, как неминуемое и повсеместное во всех делах с прочими местами имеющую сообщение – запереть».
И Москву запирают, заколачивают гробовую крышку, оставив несколько продушин: из всех четырнадцати застав, которыми Москва, как зараженное сердце артериями, могла выбрасывать заразу во все концы государственного организма, оставляют открытыми семь: Калужскую, Серпуховскую, Рогожскую, Преображенскую, Троицкую, Тверскую и Дорогомиловскую.
Но всего более боялись, чтобы чудовище не вырвалось из Москвы по направлению к северу и не помчалось по питерской дороге. А там – там уже нет никому спасения. И вот со стороны Питера протягивается вдоль зараженного сердца России новая цепь: бейся, сердце России, об свои ребра, бейся, глупое, и не посылай свою зараженную кровь к голове, к мозгу, голова еще не тронута у России. Из Петербурга пришло повеление: всех, кто бы ни ехал в Петербург или другие места мимо Москвы, в Москву не пускать, а направлять, через заставы, окольными путями.
– А ведь укусит себя до смерти, – качал головой веселый доктор, встретившись с отцом Ларисы в госпитале.
– Кто укусит? – спрашивал тот.
– Москва белокаменная...
– Как укусит?
– Да как же! Ее обложили теперь кругом огнями да заставами, словно скорпиона. А ведь когда скорпиона окружат огнем, то он себя убивает своим хвостом. Ох! Убьет себя и Москва своим хвостом.
Но об этом еще никто не думал тогда...
Чтобы воздвигнуть между Москвою и Петербургом неприступную живую стену, непроезжаемую и неперелетаемую, императрица отрядила из Петербурга особые сберегательные кордоны в Твери, Вышнем Волочке и Бронницах, под главным распоряжением генерал-адъютанта Брюса...
– Я вас, граф, за то посылаю туда, – говорила императрица, давая Брюсу это не особенно приятное поручение, – что ваш славный дедушка не предуведомил нас в своем «календаре» о постигшем нас ныне несчастии... А сие он должен был сделать по долгу службы, – добавила она, улыбаясь.
Прошел и май, а Москва все звонила в колокола, ожидая каменного дождя да огненной реки.
Прошел июнь, нет каменного дождя. Прошел июль, нет огненной реки. Страшные пророчества «пифика» еще впереди.
Наступил август. Мертвые тела уже валяются по улицам и гниют под лучами знойного солнца.
– Да, погребать уже некому, – мрачно сказал Еропкин. – Полицейские десятские все перемерли.
– Оставим мертвецов погребать мертвых, ваше превосходительство, – загадочно сказал веселый доктор.
– Как? – вскинул на него глаза Еропкин.
– У нас, ваше превосходительство, есть много живых мертвецов: ими полна розыскная экспедиция, а равно тюрьмы. Пусть преступники, осужденные на смерть или на каторгу, погребают мертвых. Их следует выпустить из острогов, одеть в одежду мортусов и определить в погребателей!
– Прекрасная мысль, господин доктор! – обрадовался Еропкин. – Они будут рады...
– И не убегут никуда, нельзя теперь из Москвы без виду пробраться.
И целые роты арестантов превращаются в мортусов.
Москва начинает представлять ужасающую картину. С утра до ночи скрипят по городу немазаные телеги, управляемые мортусами в их страшных костюмах и с длинными баграми в руках. Они ищут трупы – да чего искать! – они валяются по улицам, по площадям, по перекресткам, около аналоев, над которыми духовенство возносит тщетные моления вместе с обезумевшим от страха народом.
«Ежедневно, от утра до ночи, – говорил очевидец – тысячами фурманщики в масках и вощаных плащах – воплощенные дьяволы! – длинными крючьями таскают трупы из вымороченных домов, другие подымают их на улицах, кладут на телеги и везут за город, а не к церквам, где они прежде похоронились. У кого рука в колесе, у кого нога, у кого голова через край висит и обезображенная безобразно мотается. Человек по двадцать разом взваливают на телегу. Трупы умерших выбрасываются на улицы, тайно зарываются в садах, огородах и подвалах...»
Вон через Красную площадь, мимо Лобного места, скрипя немазаными колесами, проезжает огромная фура, на которой виднеется целая гора трупов... Мертвецы, накиданные на фуру, лежат в потрясающих позах: иному страшную позу дала сама смерть, скорчив и перегнув в три погибели; кого неловко зацепил багор мортуса и в картинном до ужаса положении поместил среди других мертвецов; кого, по-видимому, переехала тяжелая фура мортуса и раздавила ему лицо; из другого голодные собаки повырвали кусками почерневшее тело. Головы. Ноги. Руки. Бороды. Молодое и старое, полунагое и нагое совсем тело. Тут же и тот несчастный нищий, который, сняв с мертвеца его губительные ризы, прикрыл ими свои лохмотья – и тут же недалеко умер в чужих, смертоносных ризах. Все это свалено в кучу, как комья грязи, болтается, бьется и трется об колеса, издавая ужасающий смрад. И над всей этой горой трупов высится гигантская фигура страшного мортуса в маске и с багром в руках вместо кнута. Силач должен быть мортус-каторжник! Экую гору навалил трупов. Может, и сам он на своем веку перерезал и перегубил душ столько же, сколько везет теперь.
– Не-не, бисовая шкапа! – понукает он истомившуюся под тяжестью трупов ломовую лошадь.
Скучившийся близ аналоя, стоящего около церкви на площади, молящийся, коленопреклоненный народ при виде колесницы смерти с ужасом расступается. Около аналоя остается один знакомый уже нам «гулящий попик» в своей затасканной епитрахильке...
– Услыши ны, Боже! – возглашает он, воздев руки горе, – услыши ны, Боже, спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в море далече, и милостив-милостив буди, владыко, о грехах наших и помилуй ны!
Каким-то стоном отчаяния вздыхают усталые от вздохов груди толпы вслед за этой горькой молитвой. А страшная телега все скрипит, приближаясь к аналою...
Толпа не хочет глядеть на нее, усиленно молится, глядя на церковь и на аналой. Тут же, в сторонке, стоит и горячо молится рыжий солдатик с красными бровями, и собачка его тут же.
А телега все ближе и ближе скрипит, по сердцу скрипит проклятая ось!
– Не-не, гаспидська шкура! – понукает мортус. Собачонка с каким-то странным, не то перепуганным, не то радостным, лаем бросается к страшной телеге. Мортус медленно поворачивает к ней свое замаскированное лицо и откидывается назад. Собачонка так и цепляется за телегу. Мортус грозит ей шестом.
– Цыть! Цыть! Бисова цуциня! – кричит мортус. – Не пидходь близко, сдохнешь...
Собачонка начинает визжать от радости и прыгать около ужасной телеги.
– А! Дурна Меланька, пизнала мене... – радостно говорит мортус.
Бежит с испугом и рыжий к телеге с трупами и крестится.
– Забродя! Хохол! Это ты? – нерешительно кричит он издали.
– Та я ж, бачишь.
– Да ты рази жив, братец!
– Та жив же ж, хиба тоби повылазило!..
– Господи! С нами крестная сила! – И рыжий опять крестится. – Свят-свят... Да какими судьбами? Ведь тебя, братец, убили, застрелили там...
– Ни, не вбили.
– Как не вбили! Что ты, перекрестись.
Мортус крестится, набожно поднимая свое страшное, черное подобие лица к куполу Василия Блаженного.
– Ах ты, Господи! Да это не нечистая сила. Он крестится. Ах ты, Господи! – диву дается рыжий.
А собачонка, так та совсем с ума сошла от радости: скачет впереди страшной колесницы, лает на лошадь, чуть за морду не хватает, лает на птицу, еле не очумевшую вместе с Москвою, на воздух, скачет на колеса.
– Та возьми ж дурне цуциня, возьми Меланьку, не пускай, а то, дурне, сдохне... Эчь воно яке! Цюцю, иродова дитина! – радуется страшный мортус.
– Да как же, братец ты мой, жив ты остался? – допытывался рыжий, следуя за телегой и боясь подойти к ней. – Ведь тебя застрелили...
– Та ни ж! Москаль погано стриля, не в голову, а в бик попав...
– Ну, да ты ж, чертов сын, умирал, как нас из карантея выпущали. Сказывали, что умрешь.
– Так бачь же ж, не вмер, выкрутився. Не-не-не! – понукал он лошадь, махая багром.
– Ну, а как же ты, братец, попал в черти? Ишь, какая образина! – удивился рыжий, глядя на своего бывшего товарища. – Черт чертом, только хвоста недостает.
– Не-не-не! – слышится монотонное понукание.
А тут новая, еще большая толпа молящихся. У аналоя, поставленного среди улицы, стоит старый сгорбленный священник с воздетыми к небу руками. Руки так и падают от усталости и всенародного моления от зари до зари. Из старых очей священника текут слезы и падают на пересохшую чумную, Богом забытую землю. Народ держит в руках зажженные свечи, точно себя самого отпевает. Эти теплящиеся среди бела дня свечи – это так страшно!
А священник беспомощно взывает к небу:
– О еже сохранитися граду сему, и всякому граду и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и междоусобной брани, и от мора сего всегубительного, Всемилостиве! О ежемилостиву и благоуветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякий гнев, на ны движимый, и избавити ны от надлежащего и праведного сего прещения, помиловати ны...
«Господи помилуй!», «Господи прости!», «Господи отврати!» – стонет беспомощная толпа.
– Ну, ин сказывай, братец, как тебя в черти произвели, – допытывается рыжий.
– А як!.. Ого як москаль в мене стрилив, я и впав. А вин, бисив москаль, погано стриля, не в голову, а в бик. Я и ожив. А коли встав, вас уже не було там, и цуцинятко пропало... А меня в Москву як злодея отправили та в колодку. А теперь, бач, выпустили нас усих из колодок. От я и став чертом. А я втику!
– Ну, смотри, брат, пропадешь ты с своей Гарпинкой да Украинкой.
– А луче пропасти на воли, ниж оце так.
И он указал на свою телегу с трупами, на другие такие же телеги, то там, то здесь скрипевшие по улицам, на мортусов, волокших к возам свои жертвы, на молящийся в ужасе народ.
– А он бач! – показал мортус по направлению к небольшому каменному дому с закрытыми ставнями.
У ворот этого дома стояли ямские дроги, запряженные парою взмыленных лошадок. В круглой фигурке, в красном, лоснящемся от жиру и утомления лице рыжий тотчас узнал, что это их веселый доктор толчется у ворот. Тут же, верхом на коне, какой-то офицер и суетившаяся, охающая баба с огромным, словно от дверей ада, ключом.
– Не попаду, батюшка, рученьки дрожат, ох! – охала баба, стараясь попасть огромным ключом-рычагом в висячий у ворот замок такой величины, что голова бабы казалась меньше его.
– Ну-ну, живей, тетка, может, еще и захватим, – торопил веселый доктор.
– Ох, где захватить! Не стонал уж.
– Ну, ин дай я отомкну! – отозвался стоявший тут же у ворот средних лет мужчина, не то купец, не то сиделец. – Все добро мое и ключ мой.
Баба покорно передала ему ключ. Ключ-рычаг вложен в огромное отверстие замка. Замок-гигант завизжал, щелкнул раз-два-три – замок распался... Ворота, скрипя на старых ржавых петлях, распахнулись, открылся темный с навесами небольшой двор, словно зияющая пасть, из которой пахнуло смрадом, всякой плесенью и переквашенными, гниющими кожами и овчинами, догнивавшими под душною тенью навеса. Офицер сошел с коня и отдал его докторскому вознице.
– Вот где наша Индия! – поднося к носу кусок камфоры и обращаясь к молодому офицеру, заметил веселый доктор.
Офицер с ужасом всплеснул руками:
– И это миллионер! Из этой норы он ворочал всею Россией!
– Мало того, он своими миллионами держал в руках, что в ежовых рукавицах, Казань и Нижний, Киргизскую орду и всю Сибирь... Он всю Европу завалил своими кожами и русской кожей прославил Россию.
– Так это его кожей гордятся парижане?
– Его, и запах этот же.
Собака, с цепью на шее, худая как скелет, при входе чужих людей слабо залаяла, силясь подняться с земли, но от слабости и от тяжести цепи снова падала.
– Ишь, и ее голодом заморил! – покачала головой баба.
– А тебе бы ее сайками да медом кормить, – огрызнулся тот, что отпер ворота.
– Не медом...
Пришедшие подошли к крыльцу. Дверь оказалась запертою изнутри. Приходилось выламывать ее.
– Эй, таран! Молодцы, сюда, – закричал офицер, хлопая в ладоши.
В воротах показались четыре дюжих солдата. Они втащили во двор ручной таран, на четырех толстых ногах и на цепи дубовое бревно с железной головою. Этим орудием каждый день приходилось вышибать ворота и двери у вымороченных домов. Уставили таран у двери. Баба со страхом отошла в сторону, крестя свое толстое рябое лицо и свою полную, словно у двух холмогорских коров вымя, грудь.
– Сади! – скомандовал офицер.
– Стой, ваше благородие! Дверь испортят, – останавливал тот, что отпер ворота.
– А тебе что до того?
– Как что! Я – наследник ихний буду, Сыромятов...
– А-а! Так что ж! Дверь ломать надо.
– А кто заплатит за полом? – настаивал Сыромятов.
– Ты же, – с презрением отвечал офицер и отвернулся. – Сади, ребята!
Последовал удар, раз... два... три! Трещит дверь.
– Я буду жаловаться! – протестует Сыромятов, топчась на месте. – Это разбой.
– Хорошо, хорошо, любезный, – успокаивает скрягу веселый доктор. – Тебе заплатит... он же, – и доктор указал на дверь, которая с треском грохнулась в сени.
Вошли в сени, перешагнув через разбитую дверь. В сенях запах затхлости и гнили. Тронули внутреннюю дверь, заперта. Надо и ее ломать. «Эй, таран!» – командует офицер. «Стой! Что ж это такое будет! Весь дом разобьют...» – протестует Сыромятов. «Сади!» – кричит офицер. «Раз... два... три!» – и эта дверь грохнулась на пол. Темно в доме, хоть глаз выколи. И тут запах гнили и затхлости.
– Отворяй ставни, баба! – командует офицер. Баба дрожмя дрожит, но повинуется. Взвизгнула задвижка, заскрипел болт, звякнул обо что-то, и железная ставня открылась. За нею другая! Третья... Мрачный дом миллионера осветился, редкое торжество для мрачного дома! Чинно кругом и строго, как в монастыре; старая мебель в чехлах, словно покойники в саванах, и ничего лишнего, даже удобства.
Идут дальше, в следующую комнату; впереди веселый доктор, за ним офицер с камфорой у носа, словно барышня на балу с букетом; за ним Сыромятов, жадно обозревающий мебель, стены, окна, даже железные, тронутые ржавчиной задвижки от болтов; за Сыромятовым баба, ступающая по полу так, точно она боится провалиться сквозь пол своим грузным телом; за бабою поджарый, редковолосый и скрюченный, как старый негодный ключ, слесарь, весь пропитанный железною ржавчиной и обсыпанный опилками; в сухой и темной, словно луженой, руке его погромыхивает связка всевозможных ключей.
Подходят к последней двери в угловую комнату, в контору, кассу и спальню. Она заперта внутренним дверным замком, и не видать бородки ключа в отверстии, не торчит ключ, значит, вынут.
Чуется уже запах... Это не кожи, не затхлость.
– Фу, тут мертвячина! – говорит офицер.
– Да... это кровь и пот русского народа, превращенные в миллионы... Они смердят, – нагибаясь к замочной скважине, замечает веселый доктор.
Лихорадка начинает бить Сыромятова-наследника. А что, как он оживет да погонит всех и его, наследника...
– Отпирай, чего стоишь! – судорожно обращается он к слесарю.
– А что пожалуете за труд? – ежится тот.
– Это не мое дело, а вон их (и скряга показывает на доктора и офицера).
– Али пятака жалко?
– Жалко! Мне и полушки жалко, потому не мое дело, не я запирал дверь, не я и плачу.
– Ну, отпирай! – приказал офицер.
Ключ щелкнул. Дверь подалась, отворилась. Темно там, но оттуда так и пахнуло трупом! «Отворяй ставни». Баба крестится, дрожит и не идет. Доктор сам входит в полутемную комнату и отворяет ставню. Солнце снопом лучей ворвалось в этот мрачный угол и, кажется, само задрожало, отразившись на чем-то блестящем. И все стоявшие в дверях содрогнулись.
Да и нельзя было не содрогнуться. У стены, у огромного железного сундука, раскрытого настежь, стоял на корточках человек в одной ситцевой рубахе, запустив по локоть почти синие руки в груды золота, которым наполнен был громадный сундук. Голова же этого человека опрокинулась назад так, что только глаза, тусклые, остекленелые, смотрели через лоб и брови, да торчала мочальная борода.
Это был мертвец, засунувший руки по локоть в золото, миллионер Сыромятов, под железной рукой которого гнулась, как олово, кожевенная торговля целой России и Европы. Коленками и босыми ногами он, окостенелый уже, упирался в ветхий матрац, брошенный у сундука с золотом. Умирая, он, как видно, приподнялся со своего мертвого ложа, отпер свои сокровища, залез в них руками, да так и околел.
Всматриваясь в мертвое лицо, веселый доктор, несмотря на искажение ужасного лика, узнал покойника. Он видел его недавно у лавки близ Варварских ворот и еще заинтересован был его расспросами у «гулящего попика» о каком-то «пифике». Это действительно был тот купчина, который, опасаясь каменного дождя и огненной реки, грозившей всем рядам, в том числе Голичному и Охотному, где в подвалах хранились его миллионы в кожах и юфти, большею частью от чумной скотины, обещал «отвращения для огненной реки» подарить Богу целый четверик росного ладану, чтобы курево от него дошло до самого неба, выставить и зажечь целый бор свечей в косую сажень, чтобы небу было жарко, повесить колокол на церкви, вогнать колоколище в тыщу пудов, чтобы звонил до самого Бога и «переглушил бы птицу в небе, зверя в лесу, рыбу в Москве-реке и в самом кияне-море». И теперь этот богач был мертв, не успел ни насытиться, ни насладиться своими сокровищами.
Все в ужасе смотрели на страшного покойника. Закинутое навзничь лицо, раздувшееся и почерневшее, с разинутым в предсмертных муках ртом и ощеренными, как у собаки, зубами, казалось, грозило смертью всякому, кто решился бы подойти к сундуку, к этой разверстой, тлетворно дышащей пасти богатства. Один наследник жадно впился глазами в кучи золота и словно окаменел.
Доктор приблизился к мертвецу. Наследник следил за его движением, как бы боясь: вот-вот засунет руку в золото, вот-вот червонцы сами поскачут ему в карман!
Доктор покачал головой.
– Да, язвенные знаки, смерть очевидна... А давно, тетка, занемог он?
– Да третьево дни, батюшка... Помер это кум евоный, Гурьян Деич, перевалкою помре, так наш-то выпросил у хозяюшки его, у кумы, на память жилетку после покойничка, чтобы, значит, новой не покупать, скуп был добре. Да с той-то поры и перемогаться стал. А там как заперся, чтоб, значит, никто к нему не взошел и добра бы его не взял корыстью, с той минутой я и не видала его.
– То-то. Не видала, а поди, чай... – огрызнулся наследник. – Ее бы, ваше благородие, обыскать надоть, да и нору ейную перешарить. Она, поди, тыщи перетаскала, она жила с покойничком-то...
Доктор и офицер посмотрели на нее.
– Жила, жила, кормильцы. Я ему, покойничку-то, за жену законную была, и более за стряпку, хошь он, по скупости, и не велел ничего стряпать, а с лотка кормился больше да у парней у своих, у сидельцев, отымывал, бывало, чтобы не в пору не ели, и сам, покойник, съедал.
– Так ты его законная жена? – спросил офицер.
– Законная, батюшка, законная, только не церковная, в церкви не венчана, а гулящий батюшка нас с ним, с покойничком, вокруг святого платка обвел и благословил жить вместе. Оно так-то дешевле обходилось для покойничка.
А покойничек страшно глядел и щерился на всех, как бы продолжая копаться в золоте.
– Да, жила и, поди, тыщи перетаскала, – настаивал на своем наследник.
– Где, батюшка, перетаскать! Я не с ним жила, а в стрелецкой избе. А коли и на ночь к себе меня покойничек, бывало, брал, так запирал с собой на ключ, а утром всю донага обыскивал, чтобы-де чего не утащила.
Доктор приказал позвать мортусов, чтобы вытащить мертвеца, а дом запечатать и поставить к нему караул.
– Как же, ваше благородие, – протестовал наследник, – надоть и сундук запереть да запечатать, да и опись всему составить. У него еще...
Наследник потупился и замолчал. Рысьи глаза его упали на пол, на какую-то железную скобу. Доктор тоже посмотрел на пол: железная скоба обнаруживала, что в этом месте пол подымается.
– А что это, тетка? – спросил он.
– Творило, батюшка, творило.
– Для чего оно?
– Кладовая там, под полом.
– И тоже, видно, сундуки? Деньжищи?
– Сундуки, батюшка. Я их к светлому Христову воскресенью всегда вымывала.
Доктор только развел руками. Офицер нетерпеливо стучал саблей об пол. Слесарь стоял у двери и ожидал заработанного пятака... Напрасно ждал! Пятака ему никто не отдаст.
Вошел мортус с багром. «Тащи его», – распорядился офицер. Мортус зацепил мертвеца крючком за рубаху, гнилая старая тряпка изорвалась. «Старенька добре рубаха-то», – поясняла баба. Зацепили крючком за тело, вонзился крюк в мертвеца, дернули... Нейдет, только страшно откачнулся от сундука, руки не лезут из тяжелого золота... Еще дернули, труп повалился на пол, стукнулся головой, что-то зазвенело, словно кандалы на ногах колодника.
– Что это, цепи на нем? – с ужасом спросил офицер.
– Цепь, батюшка, цепь, – подтвердила баба, пригорюнившись.
– Цепь! Зачем?
– Приковывал себя цепью, батюшка, покойничек к сундуку-то этому. Любимый, сказать бы так, сундук евоный был.
– Зачем же приковывал?
– А все боялся, батюшка, чтобы не украли... Молодым-то он, сказывал, болен был, что вот по ночам другие ходють, во сне, полунатики, что ли, называются. Так и он, покойничек, все как бы-де ночью от добра свово не ушел полунатиком.
– Н-ну! Чадушко! – не вытерпел доктор – И себя, и собаку к своему добру приковывал, н-ну.
– Сам боялся, что убежит от своего золота, – пояснил офицер. – Вот каналья!
Доктор вынул из висевшего у него через плечо вощаного мешка вощаные перчатки, надел их на руки, нагнулся к мертвецу и ощупал у его пояса замок. Потом, взяв у слесаря отвертку, отпер закованного мертвеца:
– Тащи...
– Ушел от своих богатств. Утащили-таки! – с горечью и силой сказал молодой офицер. – О, проклятое золото!
Доктор велел багром захлопнуть крышку сундука и приказал слесарю запирать...
– А я? Я не позволю! – упирался наследник.
– А я тебя велю арестовать! – крикнул на него офицер. – Арестую именным повелением как ослушника высочайшей воли. Запирай.
Заперли логовище. Приложили печать. Поставили часовых у дверей и у ворот.
А миллионер, лежа ничком на телеге мортуса, грозно глядел на небо, не озираясь уже ни на свой дом, ни на свои богатства. Смерть грешников люта! Не помогли ни четверики ладану, ни боры свечей, ни колокола...







