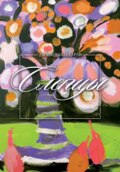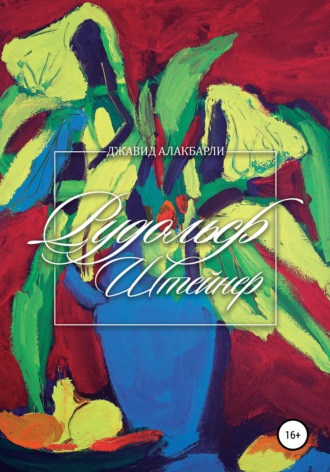
Джавид Алакбарли
Рудольф Штейнер
В ответ на это мой отец рассмеялся, обнял маму и сказал:
– Милая моя, какая же ты всё-таки дурочка.
Страна разваливается, жрать нечего, а ты всё читаешь свои дурацкие лекции каким-то идиотам в своём, никому теперь не нужном, университете и цитируешь Мандельштама. Если я напишу заявление и опишу всё это, то ближайший же дурдом тебя с удовольствием госпитализирует.
Они расцеловались и начали смеяться. Я всё ещё был ребёнком, но прекрасно понимал, что в этом смехе было гораздо больше горечи, чем радости. И тогда я задал свой самый главный вопрос:
– А что такое дурдом?
Вот тогда они и рассмеялись по-настоящему. Но ответы почему-то дали мне совершенно разные. Отец сказал:
– Это больница, в которой работает твоя тётя. Мать же всё-таки пыталась мне что-то разъяснить:
– Понимаешь, людей иногда можно сравнивать с трамваями. Если какой-то трамвай сходит с рельсов, то это означает, что его надо чинить. Так вот, в дурдоме пытаются починить людей, которые непонятно почему и отчего сошли с рельсов. Но вся трагедия заключается в том, что трамвай починить легко, а человека очень трудно. Вот и держат этих людей в дурдоме надеясь на то, что когда-нибудь они вновь научатся ездить только по рельсам. Жить унылой и скучной жизнью. Ну, одним словом, дурдом – это такие мастерские по ремонту людей. Те, кто называет себя врачами, может быть, могут вылечить тебя от болезни сердца. Они помогут восстановить сломанную руку или ногу. А вот голову, наверное, умеют лечить только волшебники. Не врачи, уж точно. Но либо волшебников нет здесь и сейчас, либо же их не желают брать на работу в дурдом.
Как всегда это у нас бывает, последнее слово осталось за моим отцом:
– Милая, не дури ему голову. Наш собственный дом постепенно становится похожим на настоящий дурдом. Не бойся, не будем тебя госпитализировать. Ни нашу дочку, ни тебя.
Лишь через много лет я смог понять, что же хотел сказать папа. Просто случайно услышал от соседей, что немало детей с синдромом находятся именно в дурдомах.
А потом вечерами у нас начали собирались какие-то непонятные компании. Я привык к тому, что когда приходят гости, то на стол накрывают. Потом все едят и пьют. Ну, а ещё произносят разные всякие красивые тосты. А тут гости приходили, но на стол никто не накрывал. Клались какие-то книги, мешочки с горохом, с бобами, с гречкой, с пшёнкой, с овсянкой… Всё это было сырое. И непонятно было, зачем же взрослым людям разглядывать и щупать сырые крупы или бобы.
А потом прозвучало это волшебное имя. Имя было такое загадочное и безумно красивое:
– Рудольф Штейнер.
Это была эпоха, когда интернетом могли пользоваться только самые крутые учёные или разведчики. Ну может быть ещё кое-кто. Но простым смертным он был недоступен. И вся информация обо всём и вся, по существу, находилась лишь на бумажных носителях. Мои родители куда-то звонили, ходили на почту и получали бандероли из разных стран, а почтальоны приносили нам какие-то журналы, в названиях которых мелькало это неуютное слово – «даун». Перечитав кучу книг, просмотрев сотни статей, они смогли выработать нечто, что потом гордо называли Программой. Реализация этой Программы и стала их целью. Пожизненной целью.
Я уже тогда догадывался, что мои родители не очень простые люди. Видимо, их когда-то очень многому и очень хорошо учили. Но ведь никто не мог научить их тому, что надо делать людям, у которых родился ребёнок с синдромом Дауна. Методы, которые предлагались официальной медициной и педагогикой, их не устраивали. И не только потому, что они были ужасны и к тому же бесполезны. Родители считали их просто-напросто чудовищными. Они были уверены, что все эти рекомендации неправильные и могут загубить мою сестру, превратив её в овощ. Чтобы этого не произошло, отцу с матерью пришлось самим учиться. Многому, разному и всякому.
Они собрали кучу литературы, написали много-много писем, связались с какой-то знаменитой школой Сары в Дублине… Словом, много чего делали из того, что для меня до сих пор остаётся просто тайной. Конечно же, если даже я что-то слышал, то не всё до конца понимал из того, что говорили и пытались реализовать они. Я был всего лишь маленьким мальчиком, только-только начинающим понимать, что меня за какие-то провинности можно пожурить и даже отругать, а вот мою сестру нельзя. Она особенная.
А ещё я осознавал, что у моей сестрёнки очень слабые мышцы. С ней не хотел работать никто из физиотерапевтов. На всю жизнь я запомню брезгливое выражение лица одной красивой, холёной дамы, к которой мы как-то отвезли мою сестру. Она развернула её пелёнки, задрала наверх её правую ногу и задала маме один-единственный вопрос:
– Вы думаете, что всё это можно как-то восстановить? Так вот, милочка, запомните, что это просто невозможно. Чтобы вы ни делали, как бы ни изворачивались наизнанку, это существо не будет ходить, бегать, плавать так, как обычный ребёнок. И, конечно же, не сможет жить нормальной жизнью.
Мама заплакала. А моя сестрёнка просто взяла и написала на покрытые ужасным алым маникюром пальчики этой врачихи. Я бы тоже сделал это с великим удовольствием. Конечно же, она-то думала, что писает в свои собственные пелёнки. Даме досталось просто так. За компанию с пелёнками. Памперсов тогда ещё у нас в стране не было. Но эту пелёнку мама почему-то стирать не стала. Просто выбросила. Я не спросил почему. Просто подумал, что это правильно.
Видимо, визит к этой столь авторитетной мадам был последней каплей в чаше терпения моих родителей. Решение мама приняла тут же. И было оно очень простое:
– Никаких врачей, никаких лекарств и никакого чужого вмешательства. Всё делаем сами.
Да, отныне мы всё делали сами. Шили мешочки из хлопковой ткани и наполняли их горохом. Потом шили уже другие мешочки и наполняли их бобами или какой-нибудь крупой. А потом – снова и снова шили всё новые и новые мешочки. Другого размера или из другой ткани, но обязательно натуральной. Лучше всего были те, что из хлопка или льна. Здесь ещё важен был диаметр того, чем мы собирались наполнять эти мешочки. Самым большим диаметром обладали горошинки, а самым маленьким – просо. И ручки моей сестры должны были сжимать и разжимать эти мешочки. Так, в процессе всего этого, я выучил новое выражение: мелкая моторика. Оказывается, что без её формирования все наши старания были обречены на провал. Вот и развивали мы эту мелкую моторику моей сестрёнки.
А ещё мы уродовали нашу квартиру. Папа ввинчивал в потолок какие-то крюки и сооружал совершенно безумную конструкцию из верёвок и различных блоков. Все это не было каким-то велением души или стихийным желанием сделать какую-то чудо-машину. За каждым поступком моих родителей стояла тень великого доктора Штейнера, который умер задолго до того, как родился я и даже мои родители. Ровно в тот год, когда появилась на свет моя бабушка.
Этот прекрасный и ужасный Штейнер день за днём внушал всем нам, что душа – она всегда здорова. И именно душа должна помочь телу преодолеть недуг. Мои же родители шаг за шагом постигали принципы так называемой Вальдорфской педагогики, которую выработал всё тот же Штейнер. Отец любил повторять какую-то, не до конца понятную мне, фразу:
– Штейнер – это океан. Так много нам не нужно. Нам достаточно лишь чайной ложечки. Но даже в самом упрощённом виде его принципы работают. И дают прекрасные результаты.