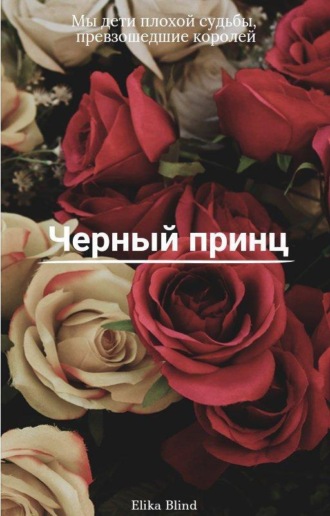
Elika Blind
Черный принц
Часть 1. Намеченные пути
Пролог
Опаленное жаром небо отражалось в тревожных водах Лазурного моря. Пламенеющие облака выстроились стеной, отделяя завесу гари от свежей синевы наступающей ночи, и там, где алеющий диск соприкасался с морской гладью, горела линия горизонта. Волны шумели, разбиваясь об укрепления замка, и мало кто осмеливался выйти на широкую террасу, нависшую над пучиной.
Опершись на увитую лозой балюстраду, стояла женщина, затянутая в пышное черное платье с меховой оторочкой. Вопреки обыкновению, ее рыжие, точно покрытые ржавчиной крови, волосы были распущены. Она держала на ладони медальон, причудливо искрящийся в отблесках заката, и задумчиво скользила по нему взглядом.
– Что за краем земли? – она с горькой усмешкой хлопнула себя по корсету, отбивая знакомый ритм. – Бурьяны да ковыли. За пером соколиным тянется след, – каблук обрушился на вулканический камень. – То тень бесславных лет. В пустыне разлился кровавый рассвет. Нет. То рождение розы празднует свет.
Женщина рассмеялась, но очень скоро смех ее стал похож на рыдания, и на глаза набежали слезы. Хотя хозяйка Вороньего гнезда была уже немолода, в душе она все еще ощущала себя ребенком, и лишь в минуты слабости, когда воспоминания брали над ней верх и тянули в мир ее молодости, казавшийся тем ярче и чище, что все в нем было пропитано юношеской восторженностью и честолюбием, она чувствовала на плечах груз прожитых лет. В этот день она была старше своего возраста: взгляд, тянувшийся за горизонт, за завтра, за недели и за месяцы вперед, смотрел в никуда.
– Вчера у меня было все, – подумала она. – А сегодня – ничего. Вчера я была богата, хотя земли моего королевства ничтожно малы. Через год у меня будут все богатства мира, все земли Валмира падут передо мной, но я останусь нищей. Сердце мое отныне зола.
В этот день, когда будущее потеряло всякий смысл, умер ее друг.
Лежавшие у дверей красношерстные тигры зарычали, почуяв чужого. Советник застыл в дверях.
– Ваше величество, – не осмеливаясь выйти на террасу, где закипало море и угрожающе блестели янтарные тигриные глаза, придворный стал на колено, протягивая руки в приветственном жесте.
Хозяйка Вороньего гнезда прижала медальон к груди в ожидании его слов.
– Советник, – королева склонилась над балюстрадой, позволяя ветру хлестать ее по щекам и путать волосы. – Говори.
– Пожалуйста, ваше величество, вы стоите над самой водой…
– Так пусть пучина поглотит меня, – в ее единственном глазу отразился блеск молнии, когда она искоса бросила взгляд на коленопреклоненного мужчину. – Говори!
– Рой восстал, – он снова опустил глаза.
Падение империи, раздираемой противоречиями, не волновало королеву.
– Императорский замок?
– В огне.
Она глубоко вздохнула, и в воздухе ей почудился запах паленой плоти. Королева поджала губы, неотрывно глядя на горизонт, где уходящее под воду солнце вслед за собой тянуло небесное полотно, забирая грозовой фронт на север подальше от Центральных равнин, где разгорался пожар. Рука невольно сжалась крепче, и острые концы медальона впились в бледную кожу.
– …император?
– Мертв.
Море пенилось и грозно бурлило, взволнованное этой новостью. Веки королевы жгли закипающие слезы. Сердце, еще недавно сокрушавшееся об уходе из жизни алладийского царя, надрывалось от тяжести очередного удара. Она мечтала, чтобы камень в ее груди обрел молчание времени.
– Ваше величество, – мягко сказал советник, угадывая в ее фигуре скорбь и любовь, которая, увы, не умерла вместе с императором, – утрите слезы. Мы не можем спасти тех, кто не желает быть спасенным.
– Что с его семьей?.. – голос королевы дрогнул. Сквозь него на мгновение прорвался плач.
– Все, кто был во дворце…
– Хватит.
Прошло много лет, и она проводила всех, кто сопровождал ее на дороге к престолу. Отец, брат, муж, любовник, друг, – все они принесли свою жертву и все они стоили той памяти, что она хранила. Но вот ушел последний, и о нем скорбело Небо, о нем, бушуя, взметалось море, протягивая многочисленные руки к материку, где умер один из его детей, прося и требуя его тела, чтобы хотя бы после смерти вернуть его к родным берегам.
– Когда настанет мой час, не оплакивай меня, – попросил он в их последнюю встречу. – Нас было трое в этом мире, нас будет трое и в любом другом.
Но время, завещанное ей, было вечностью.
– Прощай. Прощай, прощай! – прошептала королева, отнимая руку от груди и в последний раз смотря на золотого сокола. – В следующий раз мы встретимся в мире, где наши друзья счастливы и наши любимые подле нас.
Медальон блеснул и, подхваченный пенистой волной, исчез в Лазурном море.
Королева подняла голову к небу, где кипела черная гроза. В свое время падение Вороньего гнезда принесло людям мир, но они его не оправдали. Его возрождение должно было вновь покрыть Валмир черной пеленой войны.
– Ваше величество?..
Она повернулась к советнику и, облокотившись на перила, запрокинула голову выше к назревающему дождю.
– Нас больше ничего не сдерживает, – сказала королева ровным голосом, сминая в ладони пышный бутон черного принца1. – Что в Алладио?
– Царевич Иоанн коронован.
– Хорошо, – грозовой воротник единым фронтом вышел из-за скал. – Тогда обойдите Алладио через Нортум и захватите Рой. Пусть он горит. Пусть Валмир знает, что пришли его последние дни.
Советник поклонился и скрылся в глубине замка.
Наследница Чернильных гор разжала руку, и осыпавшиеся золой лепестки подхватил ветер, унося вслед за солнечным светом.
– Сначала Рой, потом Алькаир… А затем и весь мир.
По закатному небу разливался огонь.
Глава 1. Позвольте мне начать сначала
На юге Роя, в Сордисе, где проходила граница между великой пустыней Сакра и Давидовыми рудниками, редко можно было увидеть птиц. Безветренные знойные дни сменяли холодные ночи, и от страшных пустынных ветров спасали лишь изрытые ходами скалы – золотые прииски. По ночам горы свистели и стенали. Звук этот разносился по всей долине – так дышала искалеченная земля. Иногда в этой местности случались землетрясения. Некоторые из них заставали рабов в пещерах, и их тела бросали под осыпавшимися лазами. И все же свет пробил путь и сюда.
Откуда на Давидовых рудниках появлялись люди, мало кого интересовало: кого-то покупали, кого-то проигрывали, кого-то ловили и продавали пираты. Все они как-то здесь появлялись, и как появилась в колонии эта девушка, никто не знал и никто не спрашивал. Это было своего рода табу для неприкасаемых. Получив клеймо, они больше не говорили о своих прошлых жизнях – таков был их немой договор.
– Зовите меня Розой, – попросила девушка, устраиваясь в шатре в первый день своего появления.
Та, что назвалась Розой, даже обряженная в грубую робу и испачканная в каменной пыли рудников, сохраняла во внешности теплую красоту осени: ее неровно обрезанные рыжие волосы, в лучшие годы достававшие до колен, огнем вспыхивали под пламенными лучами пустынного солнца и бросали блики на мягкую кожу, утратившую свою природную белизну за два удушливых лета, проведенных на юге империи, и чем теплее казался весь ее облик от всепрощающей улыбки до ласковых томных движений рук, тем сильнее поражали невольного наблюдателя полупрозрачные голубые глаза, тонкими лезвиями сверкавшие из-под кудрявых завитков челки. У нее были тонкие птичьи кости, но крепкое тело, поэтому в отличие от многих других женщин она несла свою долю с легкой рассеянной улыбкой и никогда не сетовала на судьбу, несмотря на обременение, которое было сложно скрыть на четвертом месяце.
У нее был замечательный голос, – такой, каким матери баюкают детей, – им же она пела песни по вечерам в шатре, когда вокруг нее садились невольники, чтобы согреться холодной ночью.
– Мне стыдно признаться, друзья,– говорила она смущенно, – но я не знаю ни радостных куплетов, ни веселых четверостиший.
Роза пела грустные песни, читала грустные стихи. По вечерам на ее глаза часто набегали слезы, которые она украдкой стирала под трели самодельных дудочек и губных гармошек.
– Принц Черный, принц юный, куда ты ушел?
Неужто прощенье для них ты нашел?
Неужто ты мог, сединою прибитый,
Не вспомнить им старой жестокой обиды?
С большой заботой к ней относилась и стража, некоторые даже намеренно искали ее общества, и, когда наступала ее очередь работать в прачечной, мужчины разговаривали с ней целый день, ловя каждое ее слово. Роза относилась к ним терпеливо и даже снисходительно. Немало было тех, кто по вечерам задавался со злобой, завистью или восхищением вопросом: «Откуда она пришла такая?» Одни угадывали в ней графиню с Драконьего залива, другие думали, что она похищенная или потерявшаяся двоюродная сестра аксенсоремского короля, кто-то не мог не предположить, что Роза – наложница алькаирского султана, впавшая в немилость. Но редко кто замечал в ее чертах присущую островным народам точеную остроту.
С приближением срока по мере того, как разрастался ее живот, Роза выглядела все хуже. Она недоедала, сильно осунулась и похудела. Жизнь потихоньку оставляла ее, и вскоре она уже не могла подняться. Местный лекарь подтвердил опасения: она умирала, как умирает старый дуб, все жизненные силы отдавая последнему желудю.
В ту ночь в шатрах не звучало песен, не играло дудочек. Все молча прислушивались к крикам из соседнего шатра, где уже несколько часов в агонии схваток билась Роза. Снаружи на кустах качались черные тени – это прилетели вороны, почуяв беду. В шатре роженицы суетились женщины и один несчастный лекарь. Схватки уже давно начались, но ребенок так и не показался. Лекарь, еще молодой и неопытный юноша, волей случая получивший распределение на Давидовы рудники, впервые принимал роды, но понимал, что спасти обоих не в его силах. Он не знал, что ему делать, и бесполезно метался по палатке.
Наконец, неспособный принять решение, он подошел к Розе, но прежде, чем он открыл рот, она схватила его за грудки и с нечеловеческой силой притянула к себе.
– Дети, – не своим от напряжения голосом прорычала женщина. – Спаси моих детей!
Роза держалась до последнего, пребывая в сознании даже тогда, когда лекарь вскрыл ее живот, пытаясь добраться до чрева. Никто точно не скажет, была ли то врачебная ошибка или плод изначально был мертвым, но только из живота Розы извлекли два мертвых синеватых тельца. Оба ребенка не дышали, и сколько их ни трясли, они так и не заплакали, не закричали. Роза тяжело дышала, в груди у нее клокотал звериный вой, а когда лекарь зашил ее живот, оставив на нем многочисленные кривые швы, она уже не дышала.
Юноша отошел в угол комнаты и прикрыл глаза. Удушливый запах крови лишил его обоняния, и он уже не слышал поднимавшегося с земли пряного запаха песка. Он пытался продышаться, высунув голову из прорези окна, но по-прежнему чувствовал лишь тошноту, подступившую к горлу. Лекарь был молод, и в душе он жалел несчастную женщину, чувствуя свою вину. Если бы он не резал наобум торопясь, ему бы удалось ее спасти. Но в результате он упустил жизнь трех человек.
К нему подошла сухая старуха и протянула чистое полотенце.
– Я ужасный врач, – сказал лекарь. – Я убил их.
– Здесь такое случается часто. Вы старались.
Это было то, что он хотел услышать, но вовсе не то, что он чувствовал.
На ветвях колючего куста качались тени воронов. Неожиданно один из них громко отрывисто крикнул. Голос старого ворона оглушил повисшую над долиной тишину, и следом за исчезающим эхом раздался детский плач.
Лекарь обернулся и увидел, как одна из рабынь поднимает кричащую девочку и прижимает к себе.
– Посмотрите, – улыбнулась старуха, – вы помогли этой девочке родиться.
Рабыня ополоснула ребенка и закутала в простыню. Она нежно прижала девочку к груди. На Давидовых рудниках редко рождались дети, но когда рождались, они приобретали матерей во всех женщинах колонии. О них заботились до первой болезни, которая либо уносила их жизнь, либо ставила их на ноги. Но были и дети, которых община бросала. Проклятые дети.
– Боже мой! Ее глаза!
Прежде чем женщина уронила младенца, лекарь подхватил его на руки. На бледном, чуть розоватом лице сияли разномастные глаза.
Вороны с громким криком взмыли вверх сообщить небесам о том, что у принцессы Фредерики родилась дочь.
***
Когда меня среди прочих выволокли наружу из душной полуразваленной хибары, где три дня отравлял воздух смрад разложения, солнце находилось в зените, и воздух плыл перед глазами от жара. Я не осмеливалась поднять лицо и чуть подслеповатыми глазами смотрела под ноги. Нас не кормили несколько дней. Кандалы тянули к земле, и я сгибалась под их тяжестью, подволакивая ноги. Стражники поторапливали к лобному месту, дергая за цепь на ошейнике, и я падала, тяжело превозмогая боль в опухших ступнях. Меня поднимали и заставляли идти. Больше чем больно было обидно, но я не плакала, не просила и не жаловалась.
Нас вывели перед помостом, где стояли приговоренные к наказанию плетьми бунтовщики. Все они были избиты, искалечены. Их руки были плотно стянуты веревкой, но даже без нее они, страдающие от внутренних кровотечений и переломов, не нашли бы в себе сил сопротивляться.
По обеим сторонам от нашей колонны встали крепкие стражники с мечами наперевес. Пока палачи набивали руку на сечи, мужчины вспотели, и по их раскрасневшимся лицам градом заструился пот. Молодой стражник рядом со мной достал флягу и сделал несколько глотков.
– Хочешь? – он украдкой протянул мне флягу.
Я отвернулась: на его плече была нашивка Гильдии работорговцев.
Сордис был тем, что называли «терриорией свободной торговли», подразумевая не только и не столько беспошлинную торговлю, сколько торговлю людьми и процветающее рабство. В других частях Роя – Долуме и Алладио – месторождения разрабатывались наемными рабочими и крестьянами. Право на торговлю на невольничьих рынках давно уже выкупила Гильдия работорговцев, куда входили богатые лорды, имевшие месторождения на юге Роя. По уставу гильдии, рабы, поднявшие бунт и убившие стражников, считались испорченными, как испорчен бывает одомашненный хищник, испивший крови. Всех бунтовщиков необходимо было умертвить, и тогда взамен истребленной колонии гильдия обязывалась помочь рабовладельцу с созданием новой.
Бунт на Давидовых рудниках был одним из самых жестоких за последние двадцать лет. В процессе его подавления многие были убиты, и из колонии в сто голов осталось не более пятнадцати человек, казнь над которыми собирались совершить прилюдно. Обычно гильдия не проверяла выполняемость своих правил, так как выполнение устава обеспечивало прежде всего безопасность самих лордов, но хозяин Давидовых рудников любил обставить свои дела так, чтобы о них знало как можно больше людей, и пригласил комиссию, которая должна была подтвердить при необходимости правомерность действий барона (он боялся огласки, потому что метил на высокий пост). Некоторые из членов комиссии привезли своих рабов, и теперь те стояли за нашими спинами, из уважения или отвращения отводя глаза в сторону от помоста, где избивали тех, кто не умер под ногами разъяренной толпы, когда началась давка в пещерах. Их изломанные и отекшие тела, онемевшие от боли, не могли снести и двух ударов. Они падали без сознания, но их продолжали сечь.
В жестокости нет ничего удивительного, она лишь способ поддержания дисциплины. Это не наказание взбунтовавшегося раба, а награда лорда, сумевшего его подавить.
Сечь закончилась. Наемники гильдии еще не успели унесли тела с помоста, как на нем уже возвели виселицы. Щелкнул замок ошейника, и на красную полосу, оставшуюся от горячего металла, накинули прохладную петлю. Палач услужливо спустил для меня веревку: я была слишком низкой.
За моей спиной возвышались изрытые дикие скалы – я чувствовала их присутствие по стону камней и свисту пещер. Годами они нависали надо мной, как непреодолимый рок, как гнетущее чувство страха, которым они напитались за годы существования колонии. Долгое время я боялась оказаться погребенной под завалом, и теперь, когда этот страх исчез, скалы Давидовых рудников казались даже родными: они были известны мне лучше, чем что-либо другое на земле. Теперь я видела, что они несуразны. Время и работы в рудниках изуродовали их, многочисленные обвалы прижали к земле. Они были уже не могучими скалами, а насыпями для добычи золота.
Упал первый стул.
Высоты платформы не хватало, чтобы отнестись к рабам гуманно, и вместо того, чтобы переломить им шею, палач оставлял их задыхаться в петле. Передо мной было пять осужденных, и я долго ждала своей очереди, слушая, как свистят судорожно сжимающиеся глотки. Когда рядом со мной упал последний стул, я закрыла глаза и отвернулась. Молодой раб гортанно хрипел, борясь за свою жизнь, трясущимися руками скреб веревку, сдирая кожу о грубое волокно, но петля лишь сильнее сдавливала его кадык.
Мимо пролетела бабочка. Наверное, кто-то случайно привез в карете.
– Девочка, – вдруг послышалось из толпы.
Я посмотрела вниз на крепко сложенного мужчину в красной рубашке. Он стоял, облокотившись на помост, когда все присутствующие, даже рабы, брезговали подходить слишком близко, точно боясь, что беда зацепится за полы их одежд. Встретив мой вопрошающий взгляд, он улыбнулся:
– У тебя красивые глаза.
Его насмешка показалась мне оплеухой. Если бы я родилась с обычными глазами, может, и жизнь моя сложилась иначе.
Наконец, юноша рядом со мной перестал дергаться, и крепкая нога палача уперлась в край моего табурета. Я с завистью подумала, что если бы мне было уготовано дожить до двадцати, то у меня обязательно были бы такие же крепкие ноги.
Табурет качнулся, и я невольно сделала шаг назад, встав на мыски. Сердце рвалось из груди, и вдруг стало так страшно, что я почти забыла, как дышать. Все тело напряглось и вытянулось вверх, пытаясь оттянуть страшный момент. Палач медлил. Даже если в тот момент он подумал о чем-то хорошем, – о своей дочери, жене, матери – моя судьба была предрешена, и его промедление только больше испугало меня.
Вдруг ступню свело судорогой, и пальцы ног заскользили по накренившемуся табурету, оставляя кровавые полосы.
– Я покупаю ее.
***
Табурет неуверенно встал обратно. Палач отступил, оглядываясь в сторону хозяина кровавого банкета. Глубокий вздох опалил легкие, и к сердцу подступило сладкое, тревожное чувство. Это была надежда.
– Герцог Вайрон, вы не можете, – голос был настолько мягким, что казался даже скользким. – Она приговорена к казни, и…
Что герцог делал в таком месте?
– Скажите цену, и я заплачу ее, – мужчина, стоявший у помоста, косо смотрел на меня. – В конце концов, она – рабыня и существует только для того, чтобы делать на ней деньги. Если вы откажетесь продавать ее, то вам придется ее убить. Если вы примете мое предложение, то она все равно исчезнет, но при этом принесет вам определенный доход. Комиссия ведь не будет против?
В Рое титул герцога мог принадлежать членам лишь двух семей: императора и человека, стоявшего во главе ордена Белой розы. Обоим отказать было одинаково непросто.
– Я думаю, – сказал богато одетый мужчина из толпы, – члены комиссии сойдутся со мной в том, что решение должен принять барон Штерн. Предложение герцога Вайрона никак не нарушает устав нашей гильдии.
Я смотрела вниз, вжав голову в плечи. Петля все еще щекотала мою кожу, но я ее не замечала. Табурет под ногами был таким же, как минутой ранее, и все же другим. Тогда он был ровным и крепким, сейчас я чувствовала, как он шатается и колется. Тело налилось болью, и все-таки оно было легким, как перышко. Природа изменившегося мира заключалась в одном слове. Надежда. Это жалкое, эгоистичное чувство, выпустило на волю отступившую на время боль, и голод, и жажду.
Меня, рабыню, не самую сильную и не самую красивую, хотел забрать герцог Вайрон – это было невозможно, но это было так. Этот был первый человек в государстве после императора. Разве я была достойна служить у него?
Но Вайрон упорно стоял на своем.
– Учтите, герцог, вам это дешево не обойдется, – прошипел Штерн.
– Не волнуйтесь, – герцог отмахнулся, – я верну все с процентами от нашей сделки. Договор ведь еще не подписан.
Штерн махнул рукой, и меня грубо сдернули с табурета. Я упала, не в силах стоять на ногах, и сильно ударилась головой. Перед глазами все пошло кувырком. Меня подвели к барону и вручили ему огрызок веревки.
– Что ж, герцог, вы правы, я погорячился, – уже другим тоном сказал Штерн. – Такая маленькая девочка… Какой вред она могла причинить моим людям? Примите ее в качестве подарка в честь нашей сделки.
– Буду очень рад, барон, сотрудничать с вами, – я слышала, что герцог улыбался, но веревки он не принял. Слуга, бывший рядом с ним все это время, учтиво протянул руку, чтобы забрать обрез у барона. Получив веревку, он взвалил меня на плечо и пошел за герцогом.
Неподалеку на сельской дороге стоял длинный кортеж из экипажей. Герцог сел в карету, оставив со мной своего слугу, и велел кучеру ехать. Слуга пропустил меня в крытую повозку и нырнул следом. Повозка тронулась.
Слуга герцога достал нож и срезал веревку с моей шеи.
– Не бойся, – прошептал он, несильно сжав мою руку. – Теперь все будет хорошо. Господин – достойный человек.
Пустые выжженные поля сменились лесами и реками. Мы проезжали мимо, подпрыгивая на ухабах, и даже сквозь поскрипывания коляски я слышала шепот реки и шелест дубравы у дома надзирателя. Все тело было точно обнаженный нерв и болезненно реагировало на каждый звук, который, гармонично сливаясь с другими, воскрешал в памяти красивые слова: дом, детство, родители, счастье.
Мой спутник протянул мне вяленое мясо. От запаха еды предательски разболелся живот.
– Возьми, поешь. Дорога неблизкая.
Я выхватила из его рук еду и забилась в угол, исподлобья рассматривая своего попутчика. Тот, кого я приняла за взрослого мужчину, был довольно молод, но крепок, как не бывают иные мужчины всю свою жизнь. По его мягкому довольному лицу можно было, как по книге, прочитать годы счастливой жизни: как он родился, как поступил на службу к герцогу, как никогда и ни в чем не нуждался. Его доброта ко мне была лицемерием.
Когда я доела, он протянул мне сверток. Это было дорожное платье.
– Переоденься. Я отвернусь.
Мы прибыли ближе к вечеру. Следуя за роскошной каретой герцога, повозка въехала в искрящиеся золотые ворота и, проехав вдоль фонтанов, остановилась перед мрачным домом. Они все были такие в этой полосе.
Юноша потянул меня наружу. Я оперлась на его руку и, свесив ноги с края повозки, спрыгнула. Новые башмачки оказались мне малы, и я воем упала, расшибив колени. Юноша щелкнул языком и подхватил меня на руки, отказываясь от помощи все прибывающей прислуги. Спустившись со мной вниз в купальню, он передал меня служанкам, и те утащили меня в термы, где большая каменная ванна дымилась, словно адский котел.
Женщины брезговали смотреть на меня, когда раздевали, и не видели открытых ран на моем теле. Они кинули меня горячую воду, и все тело от лунок ногтей до опухшей подвернутой ноги оказалось точно в огне. Я закричала и, вырвавшись из их рук, выпрыгнула из ванны. Одна из служанок перегородила выход, две другие принялись теснить меня в угол, где воздух был еще прохладен. Мольбами и уговорами я пыталась заставить их отпустить меня, но они лишь плотнее окружали меня. На крики прибежал слуга, привезший меня в поместье. Я испугалась, что он скрутит меня и вернет в ванну, и зарыдала.
– Пожалуйста, – кричала я, тщетно пытаясь разжалобить его. – Мне больно, пожалуйста, не надо. Очень больно!
Он схватил меня за запястье, и я вытянула вперед ногу, пытаясь выдернуть руку из его хватки.
– Неужели вы не видите, что у нее даже ногтей нет? – зло спросил юноша, показывая мою руку. – Остудите воду!
Ворча и скалясь, служанки натаскали холодной воды и снова толкнули меня в ванну. Мучимая жаждой, я глотала мыльную воду и не могла напиться. Натруженные руки вытянули меня наверх и, держа за плечи, стали растирать грубую кожу. Я по-прежнему хотела пить, но, сколько бы я ни наклонялась к воде, меня постоянно отдергивали назад. Я едва сдерживала досадные всхлипы, и, заметив, как куксится мое лицо, одна из женщин проворчала:
– Только и можешь, что ныть!
Она принялась распутывать мои волосы и вдруг с испугом вскочила.
– У нее вши! Какая мерзость!
Разгорелся спор, как отрезать волосы. Кто-то говорил, что герцогу может не понравиться такое самоуправство, ведь рабыня – это его собственность. Кто-то замечал, что налысо стричь все равно нельзя. Через какое-то время служанки нашли решение. Длинные волосы отрезали по плечи и натерли голову какой-то густой, дурнопахнущей смесью.
Щетками они счистили с меня грязь, быстро и аккуратно промыли царапины и раны. Два раза меняли воду. Отмыв меня до того, что кожа чуть не скрипела, а вода перестала мутнеть, стоило мне в нее опуститься, женщины принялись вскрывать гнойники и обрабатывать размягчившиеся в воде струпья.
Уже в предбаннике служанки придирчиво осмотрели волосы, провели по ним гребнем с узкими зубчиками и остались почти довольны. Костлявое тело с некоторой неприязнью обтерли маслом, поверх нацепили белье и длинный салатовый сарафан, ноги обули в туфли на невысоком каблуке, на голову нацепили яркий зеленый ободок и, не дав посмотреться в зеркало, вытолкнули вон.
Снаружи меня ждал дворецкий. Брезгливо осмотрев меня с ног до головы, он велел следовать за ним. Новые туфли были великоваты, и я спотыкалась, пытаясь поспеть за широким шагом дворецкого. Он так ни разу и не обернулся, только раздраженно сжал руки в кулаки, когда я задела столик в коридоре. Я была уверена, что он меня ударит, но он этого не сделал. И тогда я вспомнила, что я – собственность герцога. Они вели себя отчужденно не потому, что были жестоки, а потому что я была рабыней.
Дворецкий приоткрыл дверь, приглашая меня войти в столовую, откуда доносился сладкий запах еды. К тому времени небо почти совсем потемнело, сохранив лишь отголоски света, и за длинными ростовыми окнами догорал закат.
Герцог ждал меня за столом, о чем-то вполголоса разговаривая с привезшим меня юношей. Когда дверь отварилась и я вошла, герцог замолчал.
– Альфред, можешь идти, – сухо сказал Вайрон.
– Ваша светлость, – юноша поклонился и вышел.
Герцог указал мне на стул по правую руку от себя. Я села. Он позвонил в колокольчик, и внесли первую смену блюд.
– Ты давно не ела, поэтому сегодня съешь только бульон и немного овощей.
Мы ели в тишине. Сумерки быстро выцветали, и на тропинки сада, протискиваясь между пышными кустами, выползала таинственная темнота, боязливо огибавшая низкие каменные фонари, в которых, как светлячок, теплился огонь. В столовую вошли два лакея и зажгли свечи. В их тусклом ровном мерцании по-новому заиграло столовое золото. Окна, потеряв свою прозрачность, теперь казались матовыми и наполовину отражали наш тихий ужин. Только в тени тяжелых зеленых штор еще были видны полосы сумеречного неба.
На вторую смену принесли жареные овощи. Лакей предложил герцогу бокал вина. Вайрон жестом попросил принести такой же для меня.
– Выпей, – сказал он. – Быстрее вылечишься.
С детства у меня было тонкое обоняние, но цветочную эссенцию в вине, как бы знакома она мне ни была, я не смогла угадать. Заметив, что герцог смотрит на меня, я прекратила принюхиваться к вину и в несколько больших глотков осушила почти весь бокал.
Третьей смены не было. Как позже я узнала, герцог не был большим любителем застолий и ел очень мало, отдавая предпочтение вину, но не мясу.
На опустевший стол лакей поставил вазу с пышными белыми розами и вышел.
На кислых почвах Центральных равнин розы приживались плохо, и стоимость некоторых сортов была выше аксенсоремского жемчуга. Простолюдины, как правило, могли увидеть их лишь в те редкие дни, когда проходило открытое заседание парламента в Амбреке. Но я безошибочно узнавала их по сладкому запаху трупного разложения, которым пропах дом моей приемной семьи.
– Ты любишь цветы? – неожиданно спросил герцог, заметив мой взгляд.
Я смутилась и слабо качнула головой:
– Не знаю, – я видела много цветов, но мне не у кого было спросить их названия, и даже если бы я любила их, я бы не смогла их назвать. – Вряд ли.
– А розы?
Герцог протянул руку и вытянул один из бутонов. С его пальца на белоснежную скатерть упала капля крови. Пятно расползалось по ткани, съедая белые нити, вытягиваясь и расширяясь, пока не застыло неровной кляксой у локтя.
– Они пахнут кровью.
Розы были самыми дорогими цветами на континенте, и люди, имевшие страсть ко всему красивому и дорогому, приписывали им различный символизм. В Алькаире пустынная роза была символом любви, в Нортуме мраморные кусты цвели в крепких семьях, в Лапельоте жемчужно-розовыми лепестками украшали матерей и детские кроватки, в Рое бордовые бутоны означали богатство и власть. Этим знаком имели право украшать свои гербы только рыцари ордена Белой розы. Когда рыцарь умирал, право носить розу переходило его преемнику, который не обязательно состоял с ним в родстве. За этим строго следило Управление по вопросам преемственности и геральдики.
Сделав небольшой глоток вина, я запила его горький вкус водой.
– Ты знаешь, кто я?
– Вы глава одного из рыцарских орденов, – ответила я. – Двадцать пятый герцог Вайрон.
Он кивнул.
– Верно. А как зовут тебя?
Я пожала плечами.
– У меня нет имени.
Людям сложно понять, как можно жить без имени. Даже нищие и сироты цепляются за этот звук посреди торговой площади, надеясь на какой-то чудесный поворот судьбы. Рабам на чудеса надеяться не приходилось. Не тем, кто родился на рудниках.
– У всех есть имена, – ровным голосом сказал герцог, словно говоря и не со мной вовсе. – Ты не знаешь своего?
– Моя мать умерла при родах, и некому было меня назвать.
Даже позвать меня было некому. В тайне, которую я оберегала даже от себя, я мечтала о том, чтобы откликнуться на имя, которого не знала. Откликнуться на зов мягкого женского голоса, побежать за ним, преследуя его обладательницу, и упасть в ласковые объятия. Но эти прекрасные мечты разбивались о живые, пугающие воспоминания о действительности – о тех годах, что я прожила в приемной семье, – и мысли об имени исчезали, отбрасывались с решительной брезгливостью, заявлявшей миру: «Если я никому не нужна, то и мне никто не нужен».
– Как тогда к тебе обращались?
Я растерла о стенку бокала рубиновую каплю, оставив на стекле розоватый подтек.
– «Эй, ты», «рыжая», «дурной глаз». Когда выставляли на торги – называли любым женским именем.
Любой мог крикнуть что угодно, и я бы без сомнений узнала, что зовут меня, – так залюбленная собака отзывается на каждое слово хозяина, не зная его значения.



