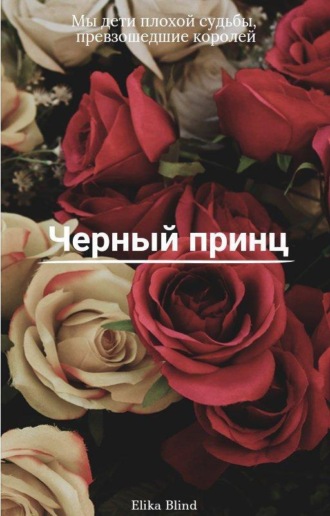
Elika Blind
Черный принц
– Тогда у них могут быть красивые картины?
– Самые красивые картины они забрали из наших галерей в Контениуме.
Сам о том не догадываясь, делая это непредумышленно, Модест давил на самые болезненные раны аксенсоремского общества. Их земли были непревзойденно богаты, их люди не знали ни голода, ни нищеты, и простолюдин мог позволить себе покупать то же, что покупал граф, потому что никто из них не стремился к пресыщению. В их обществе существовала единственная ценность – талант. Богатые и независимые, неферу в большинстве своем не цеплялись за материальные ценности, чтобы подчеркнуть свое достоинство, – зачем, когда они ходили по золоту босыми ногами? – но предметы искусства и ремесла, изысканно, бессловесно подчеркивавшие превосходство неферу над людьми с материка, были частью их национальной гордости. Мягкие ткани, за тонкостью которых не угадывалась их плотность, искусная огранка камней, повторить которую тщетно пытались мастера Валмира, и, наконец, картины, исполненные подвижности и света, видимого и взрослому, и ребенку, – это было своего рода таинство, перед которым преклонялись люди с материка, и теперь великолепные образцы, хранившиеся в музеях и галереях Контениума, были утрачены, разграблены и присвоены. И не столько удручала их потеря (ведь искусство продолжает жить, непривязанное ни к человеку, ни к стране), сколько жаль было их красоты, глубина которой останется для варварского народа Роя непостижимой.
«Что ж, – говорили неферу, утешая друг друга, – валмирцы хотя бы не смогут украсть нашу культуру. Они ее просто не поймут».
– Что бы ты ни привез, – покорно произнесла Вейгела, – я буду счастлива тем одним, что ты привезешь себя. Возвращайся скорее.
– Я мечтаю об этом не меньше твоего.
Вейгела почувствовала, как задрожала их связь.
– Извини, мне нужно идти, – поторопился сказать Модест так тихо, словно их могли услышать. – Поговори со мной… Позже.
– Береги себя.
Она отпустила пуповину, и связь разорвалась. Вейгела взяла в руки остывшую чашку, но так и не успела поднести ее ко рту. Сильная дрожь, неожиданно стянувшая ее руки, выдернула чашку, и та, упав обратно на стол, треснула. Вдоль фарфора, нарушая золотой узор, потянулась длинная черная царапина. Вейгела с удивлением посмотрела на свои руки и с запозданием ощутила, как в сознании разливается тревога и страх, разбивающие ее выматывающую, тусклую скуку.
За последнее время такое случалось не единожды. Вейгела не знала природы этих чувств, как не знала и их направленности: в один момент они появлялись, в другой – безвозвратно исчезали, но в промежутке, где они существовали, они обладали такой интенсивностью, что разум Вейгелы мутился, и она не могла ничего ни видеть, ни слышать, целиком захваченная этими чувствами.
В дверь постучали.
– Ваше высочество, вы позволите войти?
Вейгела сделала над собой усилие. Утерев испарину и поправив шарф, она поднялась и, по-прежнему почти ничего не видя, позвала:
– Заходи, Леда.
До эпидемии слугами Вейгелы были молодые девушки, не достигшие совершеннолетия. Все они, не знавшие, за что другие люди недолюбливают королевских близнецов, видящие лишь внутренним зрением, были ее подругами, и Вейгела, не имей она других забот, несомненно, приняла бы более живое участие в их судьбе. Она достаточно знала о них и сейчас: все они содержались в изоляции, некоторые заболели, одна умерла, еще одна, Лорен, ослепла. Только взрослые аксенсоремцы, отличавшиеся крепким здоровьем и не подверженные никаким заболеваниям, были свободны ходить по замку. Именно на них легла забота о принцессе.
– Вы мерзнете, ваше высочество? – спросила Леда, покосившись на шарф Вейгелы. – Если вы того желаете, я растоплю еще и печку.
– Не стоит.
– В таком случае, снимите шарф. Неприлично находиться в верхней одежде в помещении.
Вейгела застыла, и Леда, почувствовав, что сказала лишнее, торопливо опустила глаза, позабыв, что этого движения принцесса не увидит, и вжала голову в плечи.
– Подними лицо, Леда, – велела Вейгела и, смотря сквозь нее, холодно, отбивая каждое слово, проговорила: – Этот шарф – подарок моего царственного брата. Я буду его носить везде, где посчитаю нужным. А что неприлично, так это указывать наследникам Хрустального замка как вести себя во дворце.
– Простите меня, – с этого момента Леда не решалась поднимать головы.
Взрослые, некогда тоже бывшие детьми, пережив свое Время, как будто бы забывали о том мире, который видели внутренним зрением. Они думали, что если Вейгела не разбирает их лиц, то она все равно что слепая. Но внешний мир, который до поры скрывался от нее, был лишь ширмой для того, что видели ее глаза. Эмоции, чувства, жизненные силы, энергия, воля – силовые линии, испещрившие весь мир, все они были ей открыты. И холодное презрение, которое невольно зарождалось в людях, останавливавших на ней взгляд, она тоже видела. Вейгела знала, что это каким-то образом связано с ее волосами, и, кое-что понимая в человеческих душах, старалась их прощать так, как прощал Модест. Но всякое старание связано с усилием, и усилие, требовавшееся Вейгеле, чтобы проявлять милость к тем, кто стыдился ее, натягивало все жилы, и от постоянного напряжения ее одолевали усталость и раздражение, которые она прятала с большим успехом и меньшим желанием.
– Чем занят Линос? – все тем же строгим голосом, так сильно похожим на голос королевы Сол, спросила принцесса.
– Они с Великим наставником всю ночь трудились над изготовлением лекарств для горожан и сегодня утром отбыли в Гелион.
– Когда он появится, передай, что я его жду.
– Ваше высочество, с дороги Линос будет…
– Снова начинаешь мне перечить?
Вейгела прежде никогда не испытывала такого раздражения и не проявляла столько властности, как теперь, когда Модест покинул Аксенсорем. Все отвратительные черты ее характера выходили из-под контроля, и она больше не была гордостью своей матери. В глазах двора – того, что от него осталось, – степенная, ласковая, кроткая Вейгела с каждым днем становилась все больше похожа на своего капризного брата. Но никто не понимал, что капризен и обидчив был не Модест. Их энергии – его радостный всепрощающий свет и ее осторожная, подозрительная тень – смешивались из-за общей пуповины даже в раннем детстве. И сейчас, когда сердце Модеста было в смятении, а сознание Вейгелы с каждым днем все глубже погружалось в бессильную тоску, они наконец-то уравновесили друг друга, но не в лучшем качестве.
Когда Леда ушла, Вейгела пробралась в комнату Модеста и оставалась там до самого вечера, разбирая старых поломанных солдатиков. В свое время, когда принцу их только подарили, это была великолепная коллекция. Каждый солдатик обладал индивидуальностью, выраженной в искусно подобранных материалах, окрашивавших кукол в несколько цветов, имитировавших триптих неферу. Мастера не учли, что юный принц был слеп, и лишенные лиц солдатики так его испугали, что первое время он даже не прикасался к ним. Только потом, когда Арис велел скульпторам вырезать куклам лица, такие же неповторимые и непохожие, как их ауры, Модест их полюбил.
Теперь эта коллекция представляла собой печальное зрелище: потасканные, поломанные, солдатики были рассыпаны по дну сундука вперемешку с лошадками, деревянными мечами и колесницами. Вейгела разобрала старые игрушки и выставила перед собой роту покалеченных вояк. Хоть многие из них потеряли руки и ноги, мелкие драгоценные камни, благородное дерево и металлы, неотторжимые от кукол, продолжали сиять. Вейгела смотрела на них, и в ее памяти воскресали многочисленные роты, покидавшие Ларгус с королевским благословением под торжественный марш. В первые месяцы, мало что понимая в происходящем, принцесса выбегала на причал и махала отплывающим кораблям вместе с другими детьми, и все они, возбужденные музыкой и мерцанием, какое создавали собравшиеся на палубах люди, бурно радовались отплытию воздушного флота, видя в том, как поднимается вверх к Северному лучу клин каравелл, лишь красивое зрелище.
Вейгела помнила день, когда впервые за несколько месяцев корабли вернулись обратно. Люди, покидавшие их, были совсем как эти солдатики: побитые, потрепанные, поломанные. И хотя их дух не был сломлен и, будто почувствовав под ногами родную землю, стал наливаться цветом, что-то в них все-таки изменилось. Вейгела не могла сказать, что именно.
Девочка подобрала одного из солдатиков, узнавая в его зелено-золотом свечении, похожем на листья, по которым скатываются солнечные капли, благородную ауру своего отца.
Арис Фирр, в котором лесная зелень разрасталась так буйно, что закрывала от глаз глубинные цвета, был необыкновенно, пугающе добр. В ее памяти он навсегда остался самым близким и великодушным человеком из всех, кого знала Вейгела. Это был один из немногих людей, которые искренне, безоглядно любили королевских близнецов, и один из совершенно ничтожного числа тех, кто любил Модеста. Из-за различий пола – а вернее всего из-за слепоты Модеста – они воспитывались и учились раздельно, и с детских лет Вейгела привыкла наблюдать за отцом и братом из широкого окна классной комнаты. Арис был во всех играх ее брата, во всех его занятиях, в каждой минуте его жизни, и даже тогда, когда Ариса не было рядом, он незримо присутствовал в рассказах и смехе Модеста, в его жестах, в его желаниях и склонностях. Модест любил оружие, потому что Арис собирал коллекцию и не пропускал ни одного приезда торговцев с Драконьего залива, Модест интересовался звездным небом, потому что Арис много о нем знал, Модест любил только несколько сказок, потому что Арис, ограниченно усвоивший артистизм своей матери, хорошо читал только их, в конце концов, Модест был добр и всепрощающ, потому что таким был его отец. По мере того, как королевский род полнился девочками, которых Арис тоже любил, но любил осторожно, видя в них хрупкие создания и признавая главенство женской половины в вопросе их воспитания, привязанность к единственному сыну, наследнику, все больше росла, портя характер мальчика. Модест был любимым ребенком Ариса, и ему позволялось куда больше, чем принцессам, пожалуй, даже слишком много. Вейгела понимала причину этой любви. Модест был единственным мальчиком в их семье, и Арис, чья душа с юных лет не постарела ни на день, обрел в нем друга и жаждал поделиться всем, что умел и любил, – всем тем, чем делиться с девочками было не принято. Можно только представить, каким сильным потрясением стала для Модеста весть о его смерти.
В тумбе в нижнем ящике Вейгела нашла тайник с двойным дном. Внутри лежал кортик – подарок Ариса на десятилетие мальчика. В замок, где действовали сотни запретов, рачительно охраняемых взрослыми, одним из самых строжайших был запрет на пронос оружия, – обычно оно хранилось в складах на седьмом ярусе, где была королевская оружейная, – и, найди этот кортик кто-то из слуг, Модест подвергся бы серьезному наказанию. И все же Вейгела с улыбкой подумала, что Арис знал об этом тайнике.
Девочка повертела кортик в руках, пальцами ощупывая прямой, обоюдоострый клинок, и, так и не поняв страсти отца и брата к оружию, вернула обратно. Она едва успела вернуться к себе, как в дверь постучали. Принцесса накинула платок на шею и позвала гостя войти.
В комнату вошел Линос. Он не казался уставшим, – его ничуть не обременяла помощь другим – но в потухших глазах были беспокойство и страдание, которые Вейгела читала в источаемой им водянистой ауре.
– Ваше высочество хотели меня видеть? – спросил он, коротко поклонившись.
– Линос! – поприветствовала Вейгела, протягивая ему руки и наперед зная, что он их не возьмет. – Как твои дела?
– Как и прежде, хорошо, ваше высочество, – он снова поклонился, как бы извиняясь за то, что не подаст ей руки. – Спасибо, что вспоминаете обо мне.
– Спасибо, что пришел. Леда сказала, что вы с Великим наставником всю ночь готовили лекарства.
– Верно.
Вейгела сцепила руки за спиной и, напустив на себя отстраненный вид, заставивший Линоса напрячься в ожидании ее слов, поинтересовалась:
– У вас… осталось еще что-то?
– Зачем вам? Ваше высочество, вы?..
– Я только хотела узнать. Вдруг…
– Принцесса, – перебил юноша, – я ваш давний друг, вы помните об этом?
Линос был одним из ее старших слуг, самым близким из них. Именно ему доверяли сопровождать ее на улицах Гелиона и во всех поездках на отдаленные острова, а потом он вырос и оставил замок.
– Да. Я помню, – Вейгела, сделав над собой усилие, – в последнее время ей все давалось через усилие – стянула с шеи шарф и запрокинула голову. – Ты видишь. Скажи мне, что это не то, о чем я думаю.
Линос повернул ее к окну и осмотрел шею. Не было никакого смысла в той внимательности, с которой он смотрел на бледно-розовые пятна, поразившие ее кожу, но он все смотрел и смотрел, будто желая лишиться зрения и не видеть их, и все же смотрел, убеждаясь, что это не последствия зуда и не чесотка.
Какое-то время Линос не мог произнести ни слова, боясь, что с его губ сорвется болезненный стон отчаяния, которое заполнило его разум в тот момент, когда Вейгела стянула шарф. Всякий раз, покидая больных или недавно заразившихся детей и испытывая жалость, непохожую на мучения, с которым он провожал первых погибших, он думал, что приобрел привычку, которая, покрыв его сердце плотным и грубым слоем кожи, как если бы это было не сердце, а пятка, делает его нечувствительным к трагедиям, разыгрывающимся в Гелионе. Теперь же Линос смотрел на белую кожу принцессы и в только нарождавшихся пятнах видел язвы и волдыри, которыми они непременно станут позже, и горько страдал.
Лицо Вейгелы – красивое, нежное лицо, удерживающее в чертах остроту скал и торжественное спокойствие штиля, – побледнело в ответ на долгое молчание и дрожащий, тускнеющий свет Линоса.
– Я… Сделаю еще лекарство.
– Оно поможет?
Линос покачал головой.
– Не знаю, – признался он и добавил, стараясь придать своему голосу больше обнадеживающего оптимизма, от чего тот прозвучал натянуто весело: – Но от него вам будет легче.
– Мне… не плохо, – Вейгела накинула шарф и расправила на груди мягкие складки. – Я хорошо себя чувствую!
– Первые пять-семь дней, – невольно заметил Линос.
Вейгела тяжело вздохнула, отворачиваясь от юноши. Мучительнее всего была не новость о неизбежной смерти в бреду, вызванном жаром и удушьем, а необходимость смотреть за тем, как страдают от жалости и любви такие, как Линос: горячо и искренне привязанные к ней ничем не обязывающими чувствами, которые оказывались тем сильнее, что были лишены принуждения и существовали лишь по велению сердца.
– Не говори королеве, – сухо попросила Вейгела.
– Рано или поздно она все равно узнает.
Если бы страдание измерялось в цифрах и глубина горя зависела бы не от силы чувств, а от количества потерь, королева Сол могла бы считаться самой несчастной женщиной из живущих. Она теряла рассудок с каждым ударом судьбы, и теперь, когда, казалось, был нанесен последний, мало кто нашел бы в себе смелость обратить на него внимание и сказать, что среди множества колотых ран она не заметила еще одной.
– О таких вещах лучше сообщать как можно позже, – решила Вейгела. – Ее горе меня не вылечит, а наблюдать его уже невмоготу.
– Что сказать вашему дедушке?
– Наставнику Фирру? – удивилась принцесса. Они не были близки, и свет, что излучал Наставник, был холодным, хотя голос его всегда был мягок и приветлив. – Скажи, что считаешь нужным, Линос.
– Зря вы так. Великий наставник любит вас.
– Великий наставник любит всех. А тот, кто любит всех, не любит никого.
***
Вейгела стояла перед зеркалом с оголенным плечом, горящим от зуда, и пыталась рассмотреть болезнь в своем теле. Обещанные пять дней прошли, но оспа все еще была слабой – она отбрасывала лишь слабую тень на Дома Вейгелы. И все же ошибки быть не могло – она заразилась, теперь она и сама это видела.
Тщетно размышляя о своих чувствах в отношении скорой смерти и странным образом не находя среди них ни страха, ни горечи, ни обиды, Вейгела вдруг услышала торопливые шаги в коридоре. Все в ней застыло в каком-то инородном безразличии, поэтому, когда двери в ее покои резко распахнулись, принцесса даже не постаралась прикрыть плечо.
Минувшие дни, как и прежде, не были обременены усердной работой мысли или тяжким трудом, в котором можно было забыться, и поэтому Вейгела постоянно возвращалась к поиску нужных слов для матери, многократно проигрывая в голове всевозможные сюжеты, ведущие к одной и той же развязке: она причиняет душевно искалеченной матери еще большую боль. Чувствуя себя ответственной за горе, которое принесет королеве новость о ее заболевании, Вейгела все откладывала неминуемую сцену и отгородилась от этой проблемы, как если бы именно она была источником эпидемии. Теперь же, когда ее рывком дернули за плечи, она ощутила даже облегчение – Сол узнала не от нее.
Они стояли лицом к лицу всего мгновение, а затем глаза Сол безошибочно узнали в небольших язвах на ее теле первые признаки укоренившегося заболевания. Их омерзительный вид, вызывавший у аксенсоремцев дурноту напополам с брезгливостью, будто опалил ей глаза, и слезы, переполнив веки, как крупные капли дождя, срывались с ресниц и падали к ногам Вейгелы. Девочка почувствовала дрожь материнских рук и попыталась удержать ее за локти, но ватные ноги королевы подкосились, и она сползла на пол, громко рыдая.
– Дитя, – прорывалось из ее задушенного хрипами голоса. – Мое дитя!
Вейгела никогда не видела мать такой разбитой и жалкой. Всякий раз, когда она кого-то теряла, Сол предпочитала спрятаться в своих покоях. Ей было проще переживать горе в одиночестве, когда никто не видел, что оно делает с ней, какие душевные муки ей причиняет. Потеря отца и потеря супруга, слившиеся воедино и неотличимые одна от другой, хотя в основе их лежали очень разные чувства, были восприняты ей как неотвратимость. Пусть горькая, пусть болезненная, она представлялась Сол частью моря, за которым скрылись корабли, и как море было одним из явлений природы, так и смерть бережно оберегавших ее мужчин была лишь частью жизненного цикла. Но не ее дети.
Сол во всем была медлительна и степенна, – в юные годы из-за склонности к созерцательной меланхолии, в старшем возрасте, после рождения близнецов, из-за укоренившейся слабости тела – и в ее голове никогда не существовало и тени понимания темпа движения времени, хотя немало часов было посвящено размышлению над ним. А теперь жизнь, с таким трудом затянутая на крутую гору, вопреки предательству, стыду, позору и болезням, построенная на ее же плоти, катилась с обрыва так стремительно, что Сол оставалось только смотреть за ее падением и с замершим сердцем спрашивать себя: «Почему?»
Сол терпела, когда узнала о смерти супруга, она сжимала зубы так, что под кожей угадывались желваки, но терпела, когда Совет признал Модеста королем и отправил в Рой вместо нее, она закрывалась в комнате, прячась от мира, когда умерла Астра, и не нашла в себе сил подойти к костру, в котором сжигали тело Циннии. Сол Фэлкон не была сильной женщиной, но она боролась, как могла. И вот она сломалась.
– Не плачьте, матушка, – Вейгела, не зная, как себя повести, дерзнула прикоснуться к ее волосам, нежным, легким жестом проводя рукой по голове матери. – Я хорошо себя чувствую.
В комнату заглянули придворные, привлеченные шумом, и тут же спрятались, стоило Вейгеле поднять глаза. Они боялись ее. Многим старшая принцесса казалась жуткой просто потому, что в ней было слишком мало от ребенка. Но и брат ее, будучи ребенком до мозга костей, не снискал среди них любви. Возможно, любовь вовсе не нужно заслуживать, и жалуется она не за хорошее поведение, прилежность и образцовое послушание, а существует вне них и даже вопреки. Вейгела всегда желала любви, но никогда ее не чувствовала, хотя разумом понимала, что окружающие питают к ней определенную долю симпатии. Но вот теперь Сол тряслась у ее ног, и Вейгела не знала из-за любви к ней или из-за жалости к себе ее мать плакала так безутешно. Разбитая, не знавшая сна, увядающая, как цветок, распадающаяся на воспоминания и теряющая с ними цельность, королева Сол представляла собой жалкое зрелище. Она, с ее болезненным, слишком молодым телом не успевала оправиться от ран, которые наносил ей каждый новый день. От ее большой семьи остался лишь один человек. Любимейшая Вейгела. И ей тоже предстояло умереть.
В комнату почтительно заглянул лекарь. Он остановился на пороге, не смея пройти дальше без приглашения. Вейгела подала ему знак, прося войти и увести королеву. Она хотела немного подумать в одиночестве – щедром богатстве, на которое не давал права титул принцессы, но которым обеспечивала болезнь.
Дверь закрылась. В комнате стало тихо, и волнение, поднимавшееся в ответ на слезы королевы, улеглось. Вейгела подошла к окну и, смотря на простирающиеся внизу сахарные сады белых лилий, плавающие в клубах легкой энергии, какой подсвечивает жизнь каждое свое создание, мысленно потянулась к общей пуповине.
– Модест? Модест, очнись. Уже утро.
Ей пришлось позвать его несколько раз прежде, чем он наконец-то ответил.
– Утро? – тихо спросил мальчик. – Ты ведь знаешь: в домах, что строят люди, утро никогда не наступает.
– К счастью, наш мир строили не люди. Как ты чувствуешь себя?
– Все хорошо.
Он лгал. Он, неспособный даже на самую маленькую ложь и знавший об этом, пытался ее обмануть. Вейгела находила это милым, и от предчувствия расставания ей становилось горько. Она хотела бы перебить эту горечь, обманувшись, но не могла – слишком незамысловата была его ложь.
– Расскажи что-нибудь, – попросила принцесса.
– Лучше ты.
– Здесь ничего не изменилось с тех пор, как ты уплыл, – солгала Вейгела. В отличие от Модеста, в ком честность была возведена в абсолют, она легко и много обманывала, и порой, после особенно удачной лжи, ей было приятно тешить себя мыслью, что даже самый опытный лжец не смог бы узнать в ней своего собрата. – Как тебе Рой? Подружился с кем-нибудь?
– С кем бы я мог подружиться? – фыркнул Модест.
– При дворе нет детей? – удивилась девочка. В Хрустальном замке всегда было много детей. Они выполняли разную нетрудную работу, где требовались их глаза, но в большинстве своем состояли при королевской семье: кто-то служил компаньоном королю, оберегая его от обмана и клеветы, кто-то был товарищем в детских играх принца и принцесс, ребята постарше становились их сопровождающими в дальних поездках.
– Даже если бы и были, вряд ли мы смогли бы найти общий язык. Война закончилась, но мы все еще враги.
– Взрослые игры не должны разъединять детей. Именно нам строить лучший мир, верно?
– Лучший мир? – переспросил Модест с горькой насмешкой. – Ты в него веришь?
– Все проходит, Модест. Я верю, что войны, как засухи и болезни, – явление сезонное, стихийное, никак от нас не зависящее. И вот сегодня мы плачем и готовы разорвать глотки нашим врагам, но завтра нам придется снова пожать им руку.
– Хотел бы я быть таким же рассудительным, как ты.
– Рассудительность – это все, что я имею. Ты же куда богаче меня, Модест. Ты добр.
– Я больше не чувствую себя добрым.
– Не беда. Я тоже не всегда чувствую себя рассудительной, но разве меньше становится у меня ума? – пошутила Вейгела, улыбаясь изо всех сил так, словно он мог увидеть ее лицо. – Расскажи мне лучше про замок. Какой он, этот Амбрек?
Вейгела вышла на балкон и, сев на лавочку, откинулась на подушки. Она прикрыла глаза, вслед за голосом брата воссоздавая образ Белого замка. Вейгела никогда не видела иностранных замков иначе, как на картинках, которые не задерживались в ее памяти, и потому Амбрек, который выстраивал Модест в ее уме, по форме напоминал вытянутую фигуру Замка-на-Энтике. Мысленно она дорисовала ему золотые башни, похожие на узкие стрелы башен Абеля, строгие капители – чуть более мягкие в своей строгости, чем были у настоящего Белого замка, зато точно такие, какие были у поместья Великого наставника. Вейгела представила, как идет вместе с Модестом вдоль высоких анфилад, поддерживаемых тяжеловесными, роскошными арками, мимо парадной галереи императоров в сопровождении советников, и как их делегация блестит золотом волос и мрамором кожи в серых стенах того, что Рой называл «белоснежным».
– А все-таки стоило их всех вырезать, – подумала Вейгела, забыв о связи. – Выпустить Аврору, и даже хоронить бы никого не пришлось.
Вейгела запоздало испугалась собственной жестокости, но испуг этот был искусственно привит воспитанием, обязывающим ее быть милосердной. В сердце же она оставалась холодна к Рою, и если бы сейчас в ее комнату вошел Линос и сказал бы, что в столице на материке случилось страшное землетрясение, унесшее жизни тысяч мирных жителей, Вейгела бы всплеснула руками и воскликнула, как должно: «Какое несчастье!», а внутри радовалась бы и восторгалась. И так сделал бы каждый аксенсоремец, потому что не было среди них никого, кто желал бы Рою счастья и процветания.
– Может, и стоило, – едва слышно вздохнул Модест. – А все же хорошо, что мы этого не сделали. Кем бы мы стали тогда?
Вейгела открыла глаза, и свет неожиданно сильно ударил по глазам. Она приложила ладони к закрытым векам, но под ними все равно было светло.
– Здесь кто-нибудь есть? – спросила принцесса, не понимая, откуда взялся свет. Никто не отозвался, и она осторожно приоткрыла глаза.
Высокое голубое небо разливало свои густые воды над Энтиком, и наползающие на него единым фронтом облака царапались о Башню Зари и распадались на пышные лоскуты, повторяя воздушный узор, какой вышивали на перьевых подушках. Хоть солнце еще и не зашло, над Северным лучом уже бледнела неполная луна, своим призрачным контуром напоминавшая газовый тюль, вырывавшийся наружу из дверного проема. Среди облачной ваты плыла тяжелая, тучная гора облаков. Верхняя ее часть вытягивалась вверх, острыми, мерцающими в золотом свете пиками, угрожая небу, а светло-серая тень, отбрасываемая вздыбленными боками, закладывала вертикальные складки, очерчивая ровные полосы капителей.
– Амбрек, вот он! – воскликнула Вейгела, мыслями возвращаясь к брату. – Представляешь, только что увидела, как в небе прямо надо мной проплывает облако, в точности похожее на замок, который ты описывал!
– Ты увидела что? – переспросил Модест.
– Я…
Вейгела опустила глаза на подушку, впервые видя, как в ложбинках между ее длинными белыми пальцами собираются мягкие нити золотой бахромы. Сквозняк выдувал серебристый тюль из комнаты, и тот парил над землей, расстилаясь волнами в воздухе. Вейгела почувствовала слабость в ногах и потянулась, чтобы опереться на спинку лавки, но ее рука легла на холодный хрусталь и соскользнула. Ладонь обожгла боль, и Вейгела, укачивая кровоточащую руку, оглянулась на холодную стену замка. Толстый хрусталь, преломляя свет в своих острых гранях и царапинах, отразил светлую тень ее испуганного лица.
Она потеряла глаза Неба.
***
Линос покорно ожидал в коридоре, пока его позовут обратно в комнату принцессы. С первого дня, как он узнал о ее болезни, юноша почти не покидал ее комнаты, напрасно желая ободрить ее своим присутствием: оно было обременительно для Вейгелы, читавшей в его душе то, что скрывало его лицо. Тем не менее, она не прогоняла его, и Линос продолжал приходить, проводя у нее те часы, которые были свободны от работы с Великим наставником и осмотра больных. В эти дни он почти не спал, но усталости не чувствовал: каждое утро – несколько часов, что он проводил в кровати, потому что лекарство должно было настояться и остыть, – он просыпался бодрым в предчувствии наслаждения, которое ему доставит общество принцессы, – наслаждения, похожего на то, какое он испытывал в юности, издалека угадывая ее по глубокому синему сиянию и, боясь показаться навязчивым, нетерпеливо ожидая, когда она его позовет. Но сегодня, войдя в комнату Вейгелы и почувствовав на лице ее осознанный взгляд, вдруг лишившийся проницательности и остановившийся на поверхности кожи, он понял, что произошло прежде, чем она сказала, и испугался. Бывали дни, когда Линосу казалось, что принцесса здорова, бывали дни, когда он верил, что она одолеет болезнь, не выдававшую свое присутствие ничем, кроме мелких язв на теле, но потеря внутреннего зрения отобрала у него надежду. Медленно – медленнее, чем другие дети, но также неотвратимо, – принцесса умирала.
Служанка вышла из комнаты и пригласила его войти.
– Случай поразительный, – объявил придворный лекарь. – Скажите еще раз, как вы поняли, что ваше зрение изменилось?
– Я лежала на подушках на балконе, смотрела на небо, – повторила Вейгела, раздраженно отводя взгляд от зеркала. – А потом вдруг поняла, что вижу облака.
– И не было полной слепоты? – продолжал допытываться Лусцио, упиваясь загадкой, какую ему подкинуло состояние принцессы. – Такого, что вы не видели совсем ничего?
– Я же уже сказала, что нет. Я только закрыла глаза ненадолго.
– Поразительно, просто поразительно! – лекарь обернулся к Линосу, и на лице его, всегда веселом, читался неуместный восторг. – Можно с уверенностью сказать, что болезнь странным образом не прогрессирует. Лимбаг в пассивной фазе, так что не случилось ничего необратимого. Время принцессы по-прежнему далеко.
– Однако же ее глаза, – неуверенно начал Линос. Утрата глаз Неба испугала его даже больше, чем новость о том, что принцесса заразилась алладийской чумой. Отчасти потому, что у Вейгелы не было ни шанса избежать заражения после того, как заболела Астра, и Линос готовил себя к этому, отчасти еще потому, что глаза Неба имели сакральное значение для неферу.
– Ну что тут можно сказать? Принцесса стала немного старше, – Лусцио ободряюще улыбнулся Вейгеле. – Ваше высочество держится бодрячком. Прошло уже столько дней с момента заражения, а вы все еще в прекрасной форме! Пока у вас нет озноба и ничего не болит, можно считать, что вы все равно что здоровы.
Вейгела поблагодарила лекаря, хотя по лицу было ясно, что она его почти не слушала. Девочка не выпускала зеркало из рук и, даже отвечая Лусцио, краем глаза продолжала следить за своим отражением. Линос понимал ее интерес. Он и сам долгое время не мог привыкнуть к тому, какое оно – его лицо. Светлое, с золотистыми волосами и рыжеватыми ресницами, – как позже оказалось, совершенно обычное для аксенсоремца, разве что бледные веснушки сообщали его скулам некую оригинальность, – это было лицо, которое ему предстояло показывать всякому встречному, и любой незнакомец знал бы о нем больше, чем сам Линос. Увидев его впервые, Линос был очарован. Прожив с ним какое-то время при дворе, он оказался разочарован до глубины души. Если свой цвет – хотя бы Дом Идей – можно было изменить путем длительного труда, то лицо, его обычное, непримечательное лицо, изменить было нельзя. Другое дело лицо принцессы. Ее большие глаза, подобно водовороту, затаскивающие в темную глубь морской синевы, сияли изнутри, будто источая поглощенный свет, темные, длинные стрелы бровей, проглядывавшие из-под черных кудрей, делали ее восковую кожу еще белее, от чего полные губы казались испачканными в крови. Это была жуткая, но обворожительная, пленяющая красота, которая обещала стать еще богаче и ярче, когда с щек сойдет детская округлость и кожа натянет высокие скулы.


