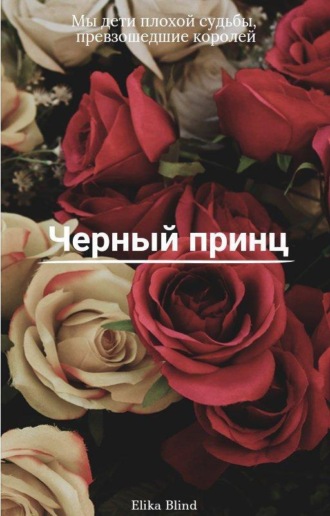
Elika Blind
Черный принц
Голова кружилась от милостей, которыми был готов одарить меня этот человек.
– Но в итоге все закончится тем, что ты будешь привязана или к дому, или к мужчине.
Чего я могла хотеть в ту минуту? Проснувшаяся утром рабыней, забывшей, как выглядит хлеб, чего я могла хотеть, кроме спокойствия и сытой жизни, которую дарует повиновение законам и человеческому порядку? Я имела лишь одно искреннее желание – родиться в богатой семье и быть любимым ребенком.
Не знаю, зачем, не знаю, почему, но я чувствовала, что голос герцога безошибочно ведет меня к единственному возможному варианту.
– Герцог, – я подняла на него глаза. – Разве я уже не ответил тысячи раз «да»?
Глава 4. Когда-то давно жил-был принц
Над Звездным архипелагом кружили ветры, и расползались по небосводу кровавые подтеки зари. Золотой город, забывшись беспокойным сном, по-прежнему спал, но свет уже играл на его крышах и заглядывал в окна, ложась на подушки спящих и, как нетерпеливый ребенок, дергал их то за нос, то за волосы, обнаруживая присутствие очередного дня. В эти минуты, когда рыжее солнце вставало из-за Хрустального замка, зажигая его и превращая в золотое пламя, в воздухе витало чувство, похожее на ностальгию, – это были отблески старого Аксенсорема, не знавшего войны.
Великий наставник стоял у мемориальной стены и, не отводя глаз от плиты с именем сына, перебирал в руках нефритовые четки. Камень не перенимал тепла его рук, и скользящий холод бусин обжигал, как близость стали. На плите с именем Ариса Фирра блестела золотая крошка, повторяя линии четырех детских ладоней, тянувшихся прикоснуться к тому, чья линия жизни, прервавшись, оказалась вдавлена в черный гранит. И было в этом много неправильного, и было в этом много трагичного.
Великий наставник несколько раз открывал рот, чтобы зачитать одну из своих речей, которыми не так давно заканчивал траур по ушедшим и призывал людей утешиться ради будущего своих детей, но губы никак не складывались в слова и голос срывался на шепот, в котором он не находил спокойствия.
Черная гранитная стена все тянулась и тянулась вверх, закрывая собой солнце, наваливаясь на Великого наставника тяжестью своего могильного груза, и, будто из небытия, из ее густой тени вырывался блеск золотых отпечатков детских пальчиков.
Годы залечат раны и отберут блеск серебряных имен, сменятся поколения, и с ними сотрется память о тех бойнях, где умирали аксенсоремцы по вине Роя, но камень не потускнеет, как никогда не рассеется и отбрасываемая им тень.
Тогда казалось, что между отторженным от материка Аксенсоремом и Валмиром раз и навсегда порваны все связи, что между неферу и людьми никогда больше не будет дружбы, но Наставник смотрел дальше. Он смотрел за реку пролитой крови, поверх бурного ее течения, в котором топились люди живые, жаждущие мести и неспособные ни смириться, ни утешиться, и видел, что многому суждено было забыться. Но в беспамятстве не обретается прощение.
Окинув долгим взглядом мемориальную стену в последний раз, Варло Фирр сошел со ступеней и двинулся в сторону Хрустального замка.
***
Паланкин, бодро миновав первые три яруса садов, с меньшим рвением преодолев оставшиеся три и тягуче медленно осилив последний ярус, позволив Великому наставнику вдоволь насладиться видом роскошных королевских птиц, пересек анфиладу фонтанов по длинному мосту и остановился перед Туманными вратами, ведущими в Хрустальный замок. К паланкину поторопился подойти Линос, его ученик. Юноша протянул руку Великому наставнику, чтобы тот мог на нее опереться.
– Что в замке? – спросил Наставник, сойдя с паланкина.
Линос покачал головой. Его глаза имели тот стеклянный блеск, который яснее слов говорил Наставнику о его сокровенных мыслях.
– Принцесса Вейгела отказалась от твоего предложения?
– Она не хочет покидать семью, – ответил Линос ровным голосом, за которым, однако, чувствовалось негодование.
– Не печалься по ней. Ее волевая душа делает ей честь.
– Дети не должны быть такими! – резко ответил юноша. – Если бы не ее мягкотелый брат!..
Наставник строго посмотрел на Линоса, и тот покраснел.
– Какие бы чувства ты ни испытывал к принцессе, помни, что ты ученик Квортума. Мы и без того сделали ей на редкость щедрое предложение, пригласив присоединиться к нашей школе. А что касается кронпринца… Его доброта – предмет гордости для всей его семьи.
Линос кивнул, выражая тем скорее уважение к мнению Наставника, чем согласие. Юноша знал об исключительной способности Наставника быть правым во всем: он умел длинными рассуждениями, сложными аллегориями, обширными знаниями и весомостью своего авторитета привить оппоненту свое мнение как прививают ветви разных сортов одной яблоне. И даже если Великий наставник в самом деле был всегда прав, потому что руководствовался лишь разумной частью своей души, то разве говорит это о том, что были не правы те, кто доверял своим чувствам? Линос, пусть он и был учеником Квортума, был по-прежнему склонен во всех своих выводах хвататься за неразумное сердце. И он не хотел любить золотого мальчика именно потому, что его, как казалось Линосу, должны были любить все, – убеждение, которое вырастало именно из любви к кронпринцу.
Великий наставник, оставив Линоса у ворот, вошел в замок. Внутри царило запустение, и отрешенная тишина, как изголодавшееся животное, жадно кидалась под ноги Наставника, выхватывая из-под его ступней шаги и разнося их по коридорам. Прислушавшись к эху, какое выдавало его присутствие среди недвижимых стражников, как стены пещеры выдают присутствие дикого зверя, преумножая его вой и зубовный скрежет, Наставник остановился. Торопливость, которую тишина придала его шагу, обнаружила себя не сразу, и он уже успел сбить дыхание.
В последние дни медлительность, в которой Наставник прежде видел скорее достоинство, чем недостаток, тяготила его. В ней так явно, так болезненно ярко проступала жизнь, не кончившаяся со смертью его сына и произраставшая в каждом плоде, что давали сливы, в каждой волне, разбивавшейся у берега и возвращавшейся в море, чтобы разбиться об него вновь, что Наставник невольно старался отстраниться от всего, что прежде вселяло в него радость и восторг. Он стремился сузить свой мир до игольного ушка, до окуляра телескопа, сквозь который видны были лишь звезды, мертвые в бесконечности своего существования, пульсирующие и трепещущие не из-за таившейся в них жизни, а из-за преломления света в атмосфере.
Великий наставник повернул на лестницу и, пройдя несколько пролетов, остановился напротив большого парадного портрета королевской семьи. На него снова смотрел его сын. Еще недавно блестевший своим именем с траурной таблички, он, вытянувшись во всю свою стать, смотрел на Наставника сверху вниз, держа на руках златовласую дочь и прижимая к боку кудрявого мальчика, и улыбался, словно извиняясь за то, что судьба подарила ему так много счастья. Наставник смотрел на его восковое лицо и слышал будто наяву: «Это моя семья. Сбереги ее. Ради меня».
– Ты не знаешь, о чем просишь, – покачал головой Великий наставник, отворачиваясь.
Судьба многолика. С рождения у человека существует ровно столько возможностей, сколько заложено в нем талантов. И как не бесконечна Вселенная, так не бесконечны и дороги, по которым человек может пройти. Но бывает и такое, что дороги остаются не намеченными. Таким людям не предназначена жизнь, и они умирают в раннем возрасте.
Сколько ни старался, Великий наставник так и не смог увидеть судьбу королевских детей.
Наставник не успел сделать и шага, как снизу его окликнул знакомый голос.
– Великий наставник! – из-за широких перил показалась белокурая голова, украшенная жемчужными нитями. Глория легким шагом взлетела по лестнице, и вот уже большие серые глаза впивались в Наставника, как шипы, – не желая причинить вред, но не изменяя своей природе. – Вы наконец-то здесь!
– Принцесса, – Наставник коротко поклонился, и она, опомнившись, присела в ответном поклоне. – Вы как всегда энергичны. Что в Совете?
– Ничего хорошего! Совсем ничего! – в сердцах девушка топнула ногой, чуть не хватаясь за волосы. Наставник всегда удивлялся и радовался тому, какой Глория бывала нервной и бойкой. Радовался он и сейчас – стальные глаза, пусть и красные от слез, грозно поджатые губы, пусть и дрожащие, говорили ему о любви, страдании и возмездии, ибо Глория была буйного нрава и не прощала обид. – Они никак не могут выбрать короля, хотя решать нечего!
– А что наследная принцесса? Почему не распускает их?
– Ах, это еще хуже! – Глория всплеснула руками, и вслед за ее движением поднялись и плавно опустились длинные белые рукава. – Сестра ничего не делает, ничего не говорит! Она ушла в себя, ничего не слышит и не видит. Нянечки совсем не справляются с девочками, меня они не слушаются. Если бы не Вейгела, я не знаю, во что бы превратился наш замок! Это чудовищно! Чудовищно и безобразно!
Голос Глории сорвался, и она тихо заплакала.
– Мне страшно, Великий наставник, – призналась она, глуша в себе рыдания. – Люди потемнели от злобы, я вижу, как даже в самых лучших из них раскалываются и умирают души! И я не знаю, боюсь того, что будет дальше. Я не могу верить в то, что все будет хорошо. Как? Все так плохо! Так плохо! Девочки, мои прекрасные малютки, не перестают плакать, сестра затворилась и отказывается выходить, Королевский совет медлит с принятием решения, а народ!.. Ах, да вам ли не видеть!
Великий наставник видел. Он уже давно пережил свое Время, когда Небо лишает неферу дара, но ему оставили небольшое окошко, сквозь которое Наставник теперь видел бурю, искрившую в умах соотечественников.
– Дитя, успокойтесь. На все воля Неба.
– Наставник, – Глория бегло приложила к глазам платок, утирая слезы, – вы говорите с Небом: читаете по звездам и видите будущее. Скажите мне, что дальше нас ждет только хорошее.
– Мы лишь в преддверье великого горя. Но мужайтесь, ибо от вас будет зависеть счастье вашего народа.
– Вам ли не знать, что я не трусиха, – Глория поникла, но голос ее прозвучал твердо. – Личное горе для меня ничто. Но как же больно смотреть на горе других и не уметь им помочь!
Наставник смотрел за тем, как перемежались в Глории силы сердца и разума, и скорее видел, чем слышал ее слова. Глория была счастливым человеком, – к своим двадцати годам она так и не узнала глубокой привязанности – иногда казалось, что даже для своей семьи она чужая, – и ей не о ком было скорбеть: в войне она никого не потеряла. И все же она была чуткой: чужое горе лежало у ее сердца, она его лелеяла как свое и вместе со всеми хотела утешиться, и не находила утешения. Она глубоко переживала происходящее – не так глубоко, как иные, чья утрата была невосполнима, но ее страдание было другого характера: сопереживая всем и каждому, она в то же время ощущала свою отторженность от их горя, и от этого к ее сочувственному страданию примешивалась тень стыда, возбуждая совесть против нее.
– Где заседает Совет? – вдруг спросил Наставник.
– В Ажурном шатре. Вас провести?
– Не стоит. Я найду дорогу, – и Наставник повернул обратно.
Никогда Квортум не вмешивался в светские дела, предоставляя Советам заботу о благополучии людей, но дни траура подходили к концу, а имя нового короля так и не было названо. Это тревожило. Сейчас, когда быт, в котором люди привыкли находить спокойствие и уверенность, становился мукой, люди искали виновного, а промедление Совета бросало тень на королевскую семью. Местами в полисах вспыхивали злые революционные настроения и чем дольше медлили с избранием короля, тем крепче в умах людей заседала кем-то брошенная мысль: «В королевской семье лишь один мальчик, но раз Совет выбирает так долго, значит, с наследником что-то не так». И верно, с наследниками первой очереди было «что-то не так».
Минуя стражу, Наставник вошел в Ажурный шатер, старый круглый зал, где в старые времена устраивали шумные пиры и плели заговоры. Теперь здесь заседал Королевский совет – двадцать высокопоставленных чиновников, которые вместо порядка вносили в государство сумятицу и, беззастенчиво пользуясь состоянием старшей принцессы, игнорировали ограничения закона, предписывавшего распустить Совет в случае, если он неспособен вынести решение менее чем за две недели.
В зале присутствовали все члены Королевского совета. Обернувшись на шум, они никак не ожидали увидеть Великого наставника и растерялись. Одни устыдились, и их ауры загустели, другие разозлились, третьи испугались, и даже председатель Совета не сразу нашелся с тем, как реагировать на появление главы Квортума.
– Магистр Фирр, – натянуто поприветствовал Катсарос, поднимаясь со своего места. Вслед за ним потянулись остальные. – Как неожиданно видеть вас здесь. Неожиданно, но всегда приятно.
– Приятна была бы встреча в другом зале и при других обстоятельствах, председатель Катсарос, – обрубил Наставник. – Чтобы мое прибытие не стало неожиданностью в следующий раз, извольте не затягивать с решениями, от которых зависит судьба государства.
Великий наставник обвел глазами советников, и никто даже не попытался встретить его взгляд, напрасно опасаясь, что Наставник прочтет все по их лицам, – он уже все знал по их душам: знал, что они недовольны его появлением, как бывают недовольны люди, которых за злословием ловят посторонние, знал, что они стыдятся и боятся его, потому что они для него открыты, и злились они по той же причине.
– Именно потому, что от нас зависит судьба государства, мы тщательно взвешиваем каждое решение, – возразил Катсарос.
– И очень зря. Промедление убивает скорее, чем неверные решения. Упущенный день упущен навсегда, а к вашему решению можно приложить пояснения, объяснения, поправки, дополнения или что вы там обычно делаете?
Наставник не любил демагогии о вещах понятных и приземленных. Ему, насквозь видевшему людей, казалось нелепым и изнуряющим спорить с ними, видевшими лишь внешнюю сторону вещей. Но каждый человек склонен принимать свою правду за истину, и Великому наставнику не оставалось ничего, кроме как слушать и, не соглашаясь, искать слова, которые смогли бы объяснить хотя бы десятую долю того, что он считал очевидным. Однако в Совете он сталкивался с другими людьми – с политиканами, любившими свой внешний порядок и уделявшими слишком много времени и размышлений ненужным, второстепенным деталям. Их нельзя было обвинить в предательстве, потому как они делали свою работу, однако же и за безоговорочную преданность короне их похвалить было нельзя, ведь они лучше Великого наставника знали настроения народа и все, что ими делалось, делалось с умыслом. Вот и сейчас они начинали спор, имея равные исходные данные: народ взволнован, стране нужен правитель и им может быть лишь один человек, пока в королевском роду есть мальчик. Вот только за душой они имели разное.
– Время неумолимо, господа, – продолжил Наставник, чья грубость оглушила советников, – и оно пришло. Итак, вы готовы огласить решение народу?
– Мы не пришли к единому мнению, – ответил после недолгого молчания один из советников.
– В династии всего один наследник мужского пола. Не хотите короля, пусть будет королева, на женщин богат королевский род. Вы обсуждаете это почти месяц, но о чем здесь говорить?
– Принцесса Сол вот-вот тронется рассудком, а мальчик!.. Вы же знаете сами! Зачем вынуждаете нас говорить?
– Я знаю лишь то, что черные волосы, которые вас всех так смущают, – прямое наследие Войло Фэлкона, родоначальника династии, – строго ответил Великий наставник. – И здесь не может быть другого мнения.
– То есть вы признаете мальчишку своим внуком? – не выдержали в зале. Великий наставник почувствовал, что глаза всех присутствующих обращены к нему.
– С тех пор как я принял сан Великого наставника и отстранился от мирской суеты, все люди для меня одно, – отрезал Наставник. – Родство не имеет значения.
– Это все слова, преподобный Фирр. В сердце вы также неспокойны, как мы.
– Если я неспокоен, то лишь потому, что судьба целой страны зависит от двадцати гордецов, которые никак не могут смирить в себе ехидну и продолжают волновать граждан своим промедлением. Чего вы ждете, господа? Арис Фирр признал первенцев наследной принцессы своими законнорожденными детьми. А если бы и не признал – какое ваше дело до того? Королевская династия ведется не по Фиррам.
– Дело такое, что если Модест Фэлкон не по крови сын Ариса Фирра, то Совету хотелось бы знать, чья кровь взойдет на престол Золотого города.
– На престол Золотого города взойдет кровь Фэлконов, как всходила она веками до этого. Звездам угодно, чтобы мальчик сидел на престоле, так чего вы ждете, ответьте же!
Во вновь повисшей тишине послышался смешок.
– Мы не говорим со звездами, как вы, Великий наставник. Наша миссия скромнее – решать дела земные.
– Не зазнавайтесь! Ничего вы не решаете ни на небе, ни на земле. И время вы забираете только у жизней своих! Все уже случилось, все уже произошло, – Небо вынесло вердикт на Оленьей равнине. У вас нет иных наследников на престол Золотого города: или старшая принцесса, или один из близнецов. Так говорю вам!
– Проблема не в том, кого выбрать в короли, преподобный! Разговор о том, кто отправится в Рой заключать мирное соглашение. Мы бы пригласили вас в качестве советника, но, как нам помнится, вы отказались предсказать судьбу черноволосых близнецов и отстранились от Гелиона. Теперь же вы вышли из своего затворничества и призываете Совет к ответу, тогда как вам самому стоило бы дать ему ответ. Кто заключит мирное соглашение? Что о том говорит Небо?
Среди людей нет непогрешимых, и они всегда напоминают об этом друг другу в пылу ссоры. Так и сейчас, Наставнику, главе Квортума, чей авторитет был неприкосновенен, напомнили о том, что и он не всесилен. Великий наставник был одним из Трех магистров – независимых советников двора – и, будучи ответственным за воспитание и обучение членов королевской фамилии, традиционно имел близкие связи с Хрустальным замком. Только ему позволялось составлять для Фэлконов натальные карты. Но случилось непредвиденное – они родились сокрытыми от звезд под созвездием Хамелеона. Немногие рождались так, но всех их Наставник умел разгадать, и только королевские близнецы были сокрыты для его глаз. Оттого ли что они родились свободными от судьбы, оттого ли, что им предстояло умереть, не дожив до Времени, – это беспокоило Наставника, но не больше, чем загадка, разгадать которую он не мог. Тем не менее, это обстоятельство серьезно пошатнуло веру в него среди придворных, и даже сотни предсказаний не смогли этого исправить – само существование близнецов бросало тень на него и Квортум.
– Небо говорит, что Глория Фэлкон заключит мир, – ровно, словно не услышав насмешки, таившейся под словами советников, ответил Наставник.
Совет возмутился.
– Вторая принцесса? Вы шутите! У нее нет таких полномочий.
– Думаете, что я утратил или разум, или свое искусство? Так выбирайте быстрее и посмотрим, кто из нас более безумен!
Наставник почувствовал, что слов у него больше не осталось, и поторопился покинуть зал. Ему, привыкшему к спокойствию отдаленных островов Хвоста кометы, где лилово-синее небо грудью ложилось на землю, приближая звезды к его телескопу, становилось дурно от длительного пребывания в Гелионе, и тошнота уже кисла в горле. Люди были порознь, люди были злы, от их траура, как от компостной ямы, доносилось зловоние гнева, вдруг обретшего силу в ненависти к валмирцам и королевскому двору, который казался все менее прочным. Но любовь к королевской семье в народе все еще была сильна, и, пока в Хрустальном замке оставался хоть один Фэлкон, Аксенсорем продолжал жить, укрываясь под их большими крыльями.
Выйдя из Ажурного шатра, Наставник был до того раздражен, что не мог выбросить из головы разговор с советниками, раз за разом проигрывая его в голове и от этого раздражаясь все сильнее. Внезапное чувство тревоги – несформированная мысль, мазнувшая по нервам, – заставило Наставника остановиться. Раздражение угасло, едва пришло осознание. Они выбирали не короля, а посланника. Король не вернется, понял Наставник.
Под ногами среди радужного блеска хрусталя прыгало подернутое рябью бликов отражение парадного портрета.
– Арис, – задохнулся Наставник, спускаясь по стене и хватаясь за голову. Все-таки он был уже стар, и его возраст сообщал ему растерянность, которой он не знал в зрелые годы. – Я ничего не могу для них сделать. Ничего!
***
Детей Аксенсорема называли глазами Неба. До совершеннолетия, когда наступало их Время, они видели мир отлично от взрослых, и все то, что исследовали монахи Квортума, сочиняя свои философские, медицинские и научные трактаты, было открыто им, но в силу юного возраста они не могли ни объяснить этого, ни понять. Вейгела не знала, как выглядят люди, – она их никогда не видела – но она видела сосредоточие их сил и умела отличить живое от неживого, неферу от человека. Ее глаза не воспринимали солнечный свет, но мир ее не был темен: в нем были тысячи цветов – энергий и форм, которые принимала жизнь: скальные камни имели слабую прозрачную ауру, которой обозначался лишь контур их физического тела, драгоценности мерцали перламутровой пылью, растения были тусклыми и однотонными, животные и люди имели два круга энергии, а неферу – три. Наставник учил, что все народы неферу обладают тремя центрами: Домом идей – в мозговой коре, Домом мира – в сердце и крови и Домом жизни в лимбаге у аксенсоремцев, в солнечном ядре у дев с Драконьих островов или в голове у мортемцев (монахи так и не выяснили, где именно). Система Трех Домов, так называемый «триптих неферу», создавала ауру, по которой дети и редкие взрослые, утратившие внутреннее зрение лишь частично, узнавали друг друга. Вейгела не знала, что означает каждый цвет, как не знала она и того, видят ли другие дети то же, что видит она, и есть ли среди них совсем слепые, не способные видеть ни внутренней, ни внешней сути вещей, и видят ли они глазами или же все они слепы до совершеннолетия и смотрят на мир только душой. Но она точно знала одно – у редкого взрослого при всей стойкости и цельности организма, достигшего абсолютного здоровья, Дома сохраняют цвета. Они линяют, выцветают, умирают. Внешнее, невосприимчивое к навечно утерянному внутреннему, вытравливало их.
Вот и теперь, вышедшая к причалу толпа бурлила серой массой, создавая завесу дыма перед глазами Вейгелы. Она видела, как перекатывается в телах горожан и вельмож темная сущность, прячущаяся за безликой серостью, – это были злые, уродливые мысли, чернившие их внутренности многократным повторением. В этой толпе мигали робкие, теплые цвета, по которым Вейгела узнала маркизу Грёз, своих сестер и учеников Великого наставника.
Заиграли трубы. Играли они тот же марш, которым месяцами проводили аксенсоремские корабли в Контениум, где шла война. Теперь же, словно разыгрывая некую злую шутку, они провожали ее брата. Прежде раскатистое торжество трубного гласа воодушевляло народ, теперь же оно воскрешало страшные воспоминания, для каждого свои, и Вейгела почти наяву видела, как среди советников и стражи рядом с ее братом идут ее отец и венценосный дед.
«Неужели три поколения нашей семьи сгинет за морем?» – думала она, следя за шествием делегации.
Наконец, немного не дойдя до причала, где уже стояла королевская каравелла, своими очертаниями напоминавшая рисунок горы, процессия остановилась. Председатель Королевского совета, встав рядом с отделившимся от сопровождающих королем, вновь огласил решение о венчании Модеста Аксенсоремского и присовокупил к нему отрывок из старого манускрипта «О доблести королевской», предписывавшего всякому королю забыть о себе и быть верным своему народу. Высокопарные речи Катсароса, в которых он точно заранее обвинял ее брата в предательстве, и неприятный цвет его души, грязная смесь зеленого, прогорклого оранжевого и слабой бирюзы, почти заставили Вейгелу расплакаться от негодования. Все это было похоже на вынесение приговора, и Вейгела не могла отделаться от мысли, что едва корабль ее брата повернет за Северный луч, где станет уже невидим глазу, как его расстреляют из пушек.
Если бы Вейгела могла видеть глазами взрослых, она бы заметила, как болезненно бледен и истощен был ее брат. Модест внимательно слушал Председателя и с готовностью кивал всякий раз, когда тот бросал на него колючий взгляд, точно спрашивая: «Все ли вам понятно, ваше величество?» Он был опустошен и не чувствовал радости от предстоящей миссии. Его целиком поглощало неожиданно наступившее взросление, бывшее для него тем страшнее, что всю жизнь он был отцовским баловнем. Теперь же ему вдруг сказали, что он – новый король Звездного архипелага, хозяин Золотого города и хранитель Восьми ярусов Энтика. Чувства Модеста были сродни боли и печали молодого дерева, выдираемого из полюбившейся ему земли: оно цепляется длинными корнями, вязнет в глубоких недрах, рвет все жилы, удерживаясь за грунт, и все же ураганный ветер скидывает его со скалы. Но чувствовал Модест и то, что наконец-то вышел к солнцу из тени сестры, однако он не был этим ни горд, ни обрадован. Солнце было ему вредно – он не любил находиться на виду.
– У вас есть время, чтобы попрощаться, ваше величество, – бросил Катсарос повелительным тоном, и Модест вовремя отдернул себя, чтобы не поклониться, но по тому, как недобро ухмыльнулся Председатель, понял, что его интуитивное желание было разгадано. От этого ему стало мерзко и стыдно. Он хотел уже отказаться и сказать самодовольному вельможе, что он, как настоящий мужчина, закончил все свои дела до выхода на берег и оставил позади всякую нежность, которую ему обещали руки сестер и матери, но тут он увидел, как Вейгела в уверенном жесте протягивает ему руки, прося – повелевая – подойти.
В глазах защипало, и мальчик быстрым шагом подошел к сестре. Она не опускала рук и, когда Модест оказался рядом, ощутили на ладонях его сухую гладкую кожу.
– Нас будут ругать, – тихо сказал Модест, глядя на их сцепленные руки.
– Ты король, Модест. А я твоя царственная сестра, – возразила Вейгела. Она чувствовала осуждающие взгляды из толпы и лишь крепче сжимала руки брата, не позволяя ему малодушия. – Они не посмеют тебя обидеть. Никогда больше.
Модест коротко кивнул. Пусть он и не верил Вейгеле, он все же горячо и преданно любил воинственную решимость, с которой она спешила ему на помощь всякий раз, когда он по неосторожности нарушал строгие аксенсоремские правила. Но сейчас в ней что-то изменилось. Не было решимости, не было спокойствия. Она низко опустила голову, позволив густым черным волосам упасть на лицо, но Модест стоял слишком близко, чтобы не заметить, как изогнулись в неровной линии ее красивые полные губы.
Модест был, как говорили взрослые, слеп от рождения. Он не видел того, что видела Вейгела, зато знал, каким бывает море на рассвете или в период миграции ярких аолиевых рыб, раскрашивавших воду неоновым свечением, и не раз видел сине-сиреневое небо над Лапре, каким оно становилось в преддверии парада Падающих звезд. Он видел внешнюю сторону вещей, не разбирая внутреннего течения их жизненных сил, а потому не знал, как дрожит и пульсирует огонь внутри Вейгелы. Модест не мог знать, как тяжело ей проститься с ним.
– Матушка не пришла, – вдруг сказал Модест. Он искал ее статную тонкую фигуру все то время, что шел до причала, но не находил и искал все внимательнее, оглядываясь по сторонам слишком явно, натыкаясь на глаза и лица чужих людей.
– Она плохо себя чувствует, – с готовностью ответила Вейгела.
Модест кивнул.
– Конечно.
– Не злись на нее.
– Как можно?
Хоть они и говорили о своей матери, в их голосах не было ни любви, ни почтения. Модест знал о том, как болезненна королева-мать, но знал он и то, что даже неходячие, парализованные матери тянулись проститься со своими сыновьями, когда те отправлялись на материк.
– Ты не знаешь, как сильно она тебя любит.
– Что с дедушкой? – Модест не видел и его, хотя замечал среди малознакомых лиц его учеников – людей еще менее знакомых, но ярко сверкавших плоскими фибулами в форме луны.
– Модест… Я чувствую, что ты злишься.
– Разве это злость?
Вейгела покачала головой. То, что ее импульсивный, ранимый брат вдруг стал так холоден, было закономерностью и болезнью, истощавшей весь Аксенсорем.
– Береги себя.
– Приглядывай за матушкой и сестрами.
Они снова замолчали. Наконец, Модест потянул руки, и Вейгела не стала его удерживать. Взгляд мальчика упал на златовласых малышек, стоявших чуть в стороне, и сердце его дрогнуло. Он в упор посмотрел на удерживавшую их подле себя нянечку и уверенно сказал:
– Позвольте мне, – мальчик осекся. Теперь он был королем, он больше не должен был унижаться и просить. – Я хочу попрощаться с сестрами.
Нянечка обернулась к советнику, как бы прося разрешения, и тот нехотя кивнул. Он не мог повелевать новоиспеченным королем на глазах стольких людей.
Едва услышав, что брат просит их к себе, девочки выбежали из толпы. Модесту пришлось присесть на корточки, чтобы еще раз – теперь уже последний – обнять их.
– Не плачьте. Я быстро вернусь, – пообещал он, зная, что тоска их пройдет уже на следующий день, а если они и вспомнят о нем, то лишь потому, что услышат его имя, оброненное в разговоре между слуг, и вспомнят посреди своих детских игр, что у них есть брат.
Но сейчас они плакали. Плакали потому, что Вейгела была необычайно грустна, плакали потому, что рядом не было матери, плакали потому, что тяжелая атмосфера, в которой собравшиеся ждали отплытия флота, пугала их.
Модест обнимал их и как никогда прежде чувствовал с ними родство.
– Астра, Цинния, ваш брат, – он на мгновение задохнулся. – Ваш брат очень любит вас.
Он порывисто прижал их к груди, на одно короткое мгновение растворяясь в ощущении дома и уюта раннего утра, когда они врывались к нему в комнату, чтобы поиграть. Обычно Модест ненавидел такие дни, но сейчас он горько сожалел о том, что их было так мало.
– Вейгела, забери их.
Вейгела мягко потянула Астру и Циннию к себе, и те зарыдали еще громче. Нянечка, зная, как сложно их успокоить, поторопилась увести принцесс.
Модест повернулся к советникам, ожидавшим его у причала, где качался корабль со стягами синих парусов. Собравшись с духом, он сделал несколько шагов, но заметил у дорожки в первых рядах светло-голубое платье маркизы Грёз. Взгляд против воли поднялся к ее лицу, и на ее губах он увидел тот же излом, который видел у Вейгелы. Маркиза отвела светлые локоны и рассеянно улыбнулась ему. На ее ресницах, как жемчужины, застыли слезы.


