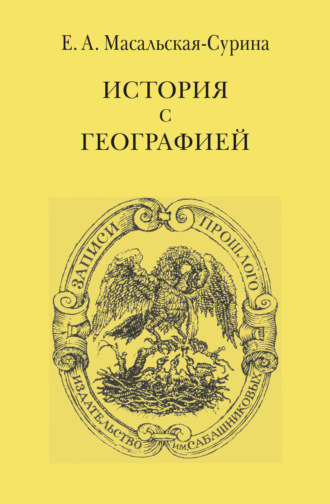
Евгения Масальская-Сурина
История с географией
© Издательство им. Сабашниковых, 2019
© Т. П. Лённгрен, сост., вст. статья, примеч., 2019
© И. В. Матвеева, перевод, 2019
Находка в Осло
В августе 2016 года в Осло, в архиве профессора славянских языков Олафа Брока, среди несистематизированного и неописанного материла я нашла рукопись в четырех частях под общим названием «История с географией». Автор этой рукописи – Евгения Александровна Масальская-Сурина (Шахматова, 1862 – 1940), старшая сестра академика Алексея Александровича Шахматова (1864 – 1920), автор «Воспоминаний о моем брате А. А. Шахматове», опубликованных в Издательстве им. Сабашниковых в 2012 году.
В изданных воспоминаниях повествование доходит до 1894 года, то есть до избрания Шахматова академиком. В неизданной рукописи, хранящейся в Москве[1], речь идет о жизни Шахматова-академика с 1908 по 1914 год, а в рукописи, найденной в Осло, повествование доведено до декабря 1919 года. До находки в Осло о существовании последней части воспоминаний известно не было, но о том, что Евгения Александровна хотела завершить воспоминания о брате, упоминается в архивных документах.[2]
Несмотря на тяжелые условия, сложные отношения с близкими и неимоверные страдания, Евгения Александровна не прекращала работу над завершением воспоминаний, в которых светлый образ ее гениального брата-академика показан как бы со стороны, свозь многогранную призму жизни большой дворянской семьи Шахматовых в период надвигающейся катастрофы революции 1917 года и в первые годы страшных потрясений в стране, охваченной красной чумой.
Найденные в Осло архивные материалы не только проливают свет на судьбу и окружение академика Шахматова в последние годы его жизни, но и приоткрывают неизвестные страницы жизни самой Евгении Александровны, заботливой старшей сестры, верного друга, любящей жены, одаренного исследователя, талантливого писателя и биографа, человека твердой воли и благородной души.
Е. А. Масальская-Сурина и ее воспоминания
Жизнь Евгении Александровны сложилась так, что самые ее счастливые годы прошли в переездах и закончились трагедией: первые девять лет счастливого детства – в переездах с родителями, рано умершими; счастливые тринадцать лет замужества – в переездах с любимым мужем, скоропостижно скончавшимся в 1916 году.
О личности Евгении Александровны до сих пор известно было немного. Наиболее полное описание ее детских и юношеских лет находится в «Воспоминаниях о моем брате А. А. Шахматове», где по меткому определению И. А. Кубасова[3] «местами автор положительно собой заслоняет маленького брата».[4] Именно этот «изъян» блестящего литературного труда Евгении Александровны помогает наглядно представить картину взросления и становления характера будущей мемуаристки в дворянской семье в последние десятилетия позапрошлого века.
Описание жизни Евгении Александровны в первые двадцать лет прошлого века складывается из мозаичных фрагментов в найденной и теперь публикуемой здесь «Истории с географией», а отрывочные сведения о последних двадцати годах ее жизни, полных горя, страданий, мучений и отчаяния в бесконечной борьбе за выживание, разбросаны по архивам.
В течение четырех лет после переезда в 1894 году в Петербург избранного в академики Алексея Шахматова (Лели, как называли его в семье), энергичная Евгения управляла хозяйством в родовом поместье Губаревке, с Саратовской губернии и продолжала заниматься попечительской деятельностью. В голодные 1899-1901 годы она, как и в 1892 году, занималась устройством столовых для голодающих, яслей для детей, организацией общественных работ по устройству дорог, очистке прудов и колодцев в Херсонской, Таврической и Бессарабской губерниях. Осенью 1899 года норвежский славист Олаф Брок[5] был в диалектологической экспедиции на территории южных славян, в Бессарабии. В письме к своему другу со студенческих лет и коллеге А. А. Шахматову он спрашивал: «Это ли Ваша сестра, которая работает в Бессарабии?»[6]
По окончании работы в Бессарабии Евгения вернулась в Губаревку и опять занялась управлением поместья. Летом 1902 года Олаф Брок, находясь в России по приглашению Императорской Академии Наук, навестил своего друга Шахматова в Губаревке, где тот с семьей проводил лето, и оставил такую запись в своих «Путевых заметках»: «В третьем доме живет сестра, энергичная Эжени, Евгения, которая сейчас, на самом деле, является управляющим поместья. В ее уютном, красиво обставленном салоне, бывшей библиотеке, с наступлением темноты мы часто пьем вечерний чай».[7]
В этом уютном доме Евгения готовилась к супружеской жизни. Еще в Бессарабии в Сарате в ноябре 1900 года она познакомилась со своим будущим мужем надворным советником Виктором Адамовичем Масальским-Суриным. В то время Виктор был женат, имел в этом браке двух детей, но брак был очень несчастливым. Влюбившись в Евгению, он пытался развестись, но его жена требовала внушительную сумму денег, без которой не давала согласия на развод. Таких денег у Виктора не было. Мучения продолжались в течение трех лет, и когда уже Евгения стала терять всякую надежду соединиться с любимым человеком, тетя Ольга Николаевна дала будущему зятю необходимую сумму, и вопрос с разводом был благополучно решен.
Но, как оказалось, жениться во второй раз по российским законам того времени было практически невозможно, поэтому свадьба была устроена за границей, о чем 12 августа 1903 года А. А. Шахматов писал своему учителю и наставнику Ф. Ф. Фортунатову[8]: «Пишу Вам, только что вернувшись из-за границы. Ездил туда с сестрой Евгенией Александровной и тетей устраивать свадьбу сестры. Она должна была повенчаться с разведенным и утратившим право на вступление в брак человеком. В России трудно было бы устроить такую свадьбу, пришлось бы прибегать к подкупу. Вот почему мы решили ехать за границу. Прямой путь вел нас в Вену. Сначала нас постигла полная неудача, и я ездил в Белград, надеясь добиться там успеха. Но и в Белграде не повезло, пришлось вернуться в Вену. После многих хлопот удалось наше дело, причем оно обставлено со всех сторон самым законным образом. Священник, венчавший сестру, оказался с епископской почти властью, а такая власть давала ему право, по его мнению, разрешить то, что было запрещено нашим духовным судам. Большую нравственную поддержку и помощь я нашел в Северьянове[9], с которым провел несколько дней почти неразлучно. Он и я оказались единственными свидетелями венчания. Ягич[10], узнавший от Северьянова, что я в Вене, также помог своей телеграммой из Абруции в местное гражданское правление, ставившее нам некоторые серьезные препятствия».[11]
Первые пять лет супружеской жизни прошли в Саратовской губернии. Вести хозяйство в имении становилось все труднее. С 1905 по 1908 год Шахматовы распродали почти всю свою землю. «В Саратовском уезде стоял опять период засух и неурожая. Крестьяне совсем не платили аренды, а банк собирал проценты все также усердно; пени росли с неимоверной быстротой; приходилось занимать деньги и еще на них платить проценты, чтобы не лишиться последнего достояния на торгах Дворянского банка: так, в последние годы, уходила вся помещичья земля, и не в одной Саратовской губернии! Быстро, на нет, сходила вся дворянская Русь».[12]
Из-за волнений, беспорядков и погромов, охвативших юг России, в ноябре 1905 года по настоянию брата и поддавшись на уговоры мужа Евгения Александровна, находившаяся в ожидании ребенка (первого она уже потеряла), уехала в Петербург. Поскольку в Петербурге тоже было неспокойно, то Алексей Александрович с супругой Натальей Александровной настояли на том, чтобы Евгения Александровна остановилась у них в квартире, и окружили ее заботой и вниманием. Рождение ребенка ожидалось около рождества, но мальчик родился 14 декабря и в тот же день умер. Алексей Александрович называл его маленьким Декабристом, поскольку он родился в день рождения декабриста Рылеева. «Эта кончина ребенка была так неожиданна, – пишет Масальская, – что Отт[13] назначил совет, чтобы выяснить, кто виноват: ребенок, мать или Институт? Виноватым оказался Институт: неуход, невнимание… Но как было его требовать в дни Московского восстания? Одновременно тогда погибло несколько младенцев (двадцать неудачных рождений)».
Одновременно с тяжелой новостью о смерти сына Виктор Адамович получил долгожданное сообщение о переводе в Минск. С одной стороны, объективно, Евгения Александровна понимала, что для мужа служба в Минске будет намного интереснее и перспективнее, чем в Саратове, но, с другой стороны, одна только мысль о расставании с родными и Губаревкой была для нее невыносима.
В этой сложной ситуации Евгения Александровна продолжала заниматься не только делами, связанными с имением, но и семейным архивом: она привела в порядок, описала и систематизировала обширный и богатый, главным образом вотчинный архив конца XVII – начала XIX веков. Историко-генеалогическое исследование Евгении Александровны[14] – это «очерк истории нескольких помещичьих семейств и имений Саратовского и Симбирского края. Старинный быт и уклад, родовые отношения, условия землевладения и сельского хозяйства, старо-дворянские службы, сведения генеалогического характера – все это в связанном и талантливо написанном повествовании изложено в статьях Е[вгении] А[лександровны] с такою полнотою, точностью, обстоятельностью и знанием предмета, которые делают ее работу вполне научно значительною»[15], – писал генеалог и историк русской литературы, основатель Пушкинского дома Борис Львович Модзалевский.
Переехав в 1908 году в Минск, Масальские-Сурины хорошо устроились в апартаментах гостиницы «Греми». С одной стороны, Евгению Александровну увлекала богатая история и предметы церковной старины Западного края, она стала активным членом Минского церковного историко-археологического комитета, принимала участие в заседаниях, выступала с докладами. Один из докладов Евгении Александровны, прочитанный на торжественном открытии историко-археологического комитета, был опубликован в журнале «Минская старина».[16] О научной значимости этой работы свидетельствует тот факт, что она до сих пор остается актуальной для современных исследователей истории Беларуси.[17]
Но, с другой стороны, как того и следовало ожидать, очень скоро городская жизнь начала тяготить привязанную к земле и хозяйству Евгению Александровну. Однако и жить постоянно в Губаревке она не могла, не желая надолго расставаться с любимым мужем. Поэтому вскоре после переезда на новое место службы в Западный край начались поиски имения, в котором можно было обустроить свой собственный уютный дом, обзавестись хозяйством и тем самым обеспечить не только свое благополучие, но и счастливую старость тети Ольги Николаевны, позаботиться о младшей сестре Ольге и иметь возможность принимать брата и его многодетную семью.
Покупка подходящего имения оказалась делом непростым. Проблемы возникали на каждом шагу: мошенники и аферисты, предлагавшие и настырно навязывавшие свои услуги, продававшие и перепродававшие заведомо убыточные имения с лесом, который был давно вырублен и продан, с обманом и подлогом в размерах земельных участков, махинациями банков и многое другое, что и составило канву «Истории с географией». Пять лет прошло в беспокойных поисках, сложных покупках, переездах, обустройствах, разочарованиях, изматывающих продажах, пока, наконец, в 1913 году не было найдено Глубокое, которым супруги Масальские-Сурины остались очень довольны и с наслаждением окунулись, наконец, в счастливую жизнь. Но очень скоро, в 1914 году, началась Первая мировая война. Практически вся Виленская губерния была оккупирована, враг приближался к Глубокому и находящемуся в нем Березвечскому монастырю. Началась эвакуация. Монахини эвакуировались в центр России, и Масальские-Сурины тоже были вынуждены покинуть свое имение.
Приближение врага, эвакуацию и положение в Глубоком Евгения Александровна описала в рассказе «Записки беженца[18]: «Гром грянул над самой головой: пришел приказ Синода снимать колокола… Два дня снимали колокола Глубокской православной церкви, костела и в Березвечском монастыре… Трудно описать день 1-го сентября в Глубоком… Ежеминутно приезжала и приходила масса народа за помощью и советом. Просили лошадей, просили приютить вещи, просили проходные билеты… В час ночи пришло распоряжение генерала Потапова эвакуировать Глубокое. В 2 часа ночи уже выехала почта, духовенство, монастырь, все акцизное ведомство, доктора, учителя, чиновники, жители, как местные, так и приезжие. […] Я была в Глубоком в начале октября. Наш мирный городок весь превращен в военный лагерь. Бесконечные обозы с провиантом и снарядами тянутся по всем трактам. Грохочут грузовики, шипят автомобили, скачут казаки. Жилые помещения все заняты войсками. Из брошенного монахинями Березвечского монастыря поднимаются наши летчики навстречу высоко парящему немецкому цеппелину».
С приближением военных действий к Глубокому жизнь в имении сначала содрогнулась, затем пошатнулась и начала рушиться. Виктор Адамович, как офицер запаса был мобилизован. В сентябре 1916 года в одной из служебных командировок он заболел дизентерией и скончался на руках у жены. Так навсегда ушло из жизни Евгении Александровны семейное счастье, радость бытия, первая и последняя любовь.
После кончины мужа Евгения Александровна переехала к брату в Петроград, в квартиру при Академии. В этот трудный период жизни спасением оказалось знание латыни, которую Женя ненавидела в детстве и не хотела ее учить, но все-таки выучила, как того требовало домашнее образование в дворянской семье. Именно переводы скандинавских саг, в том числе и с латыни, помогли ей отвлечься и пережить тяжелую утрату. Инициатором обращения к переводам был брат Леля, к тому времени уже титулованный академик Шахматов. Однако для осуществления задуманного необходимо было найти подходящие для перевода тексты. В России таких текстов не оказалось, поэтому Алексей Александрович обратился за помощью к своему норвежскому другу и коллеге Олафу Броку: «Очень Вас прошу, помогите сестре. Ее очень волнует мысль дать перевод скандинавских саг, касающихся России. В этой заботе и предстоящей работе она найдет некоторое отвлечение от постигшего ее горя. Я, конечно, и в научных интересах хотел бы, чтобы издание было исполнено как следует, с должной полнотой».[19]
О том, что необходимые тексты из Норвегии были получены, переведены и проанализированы с требуемой академиком Шахматовым «должной полнотой», свидетельствуют как сохранившиеся архивные материалы объемом в две тысячи с лишним листов[20], так и письмо Евгении Александровны к С. Ф. Ольденбургу[21]: «Когда я перевела с немецкого и латинского языка – шесть саг и прочитала их Ал[ексею] А[лександрови]чу буквально на смертном одре, за два дня до операции, он был поражен, изумлен тем, что в них выявилось, и выражал свое нетерпенье – скорее приняться за изучение этих древностей и приходил в отчаянье, что не мог ими заняться немедленно».[22]
Помня слова брата и осознавая важность этих переводов для отечественной науки, Евгения Александровна приложила немало усилий в поисках возможности издания хотя бы малой их части. Однако в начале 1930-х годов даже мысль о подобной публикации считалась крамольной и жестоко преследовалась. В конце декабря 1933 года, когда уже в полную силу фабриковалось «дело славистов» и малейшее сношение с Западом считалось тяжким преступлением[23], Евгения Александровна писала: «Скажу откровенно, если бы в настоящее время наше прошлое, наша история, не была бы всем ненавистна, я была бы счастлива видеть здесь напечатанной мою рукопись, чтобы советские ученые сконфузили ученых Запада и еще раз – хоть маленький свет, но опять то был бы «lux ex oriente»[24], но так как это невозможно, то я запросила проф[ессоров] Миккола и Мансикка[25]».[26] Несмотря на все старания Евгении Александровны, публикации этих работ так и не появились ни в Советском Союзе, ни в Финляндии. Остаются они неопубликованными и в современной России, хотя научную значимость эти материалы не утратили до сих пор.
Имение Глубокое, владельцами которого были не только супруги Масальские-Сурины, но и члены семьи Шахматовых, вложившие в его покупку свой капитал, а также Дмитрий, несовершеннолетний сын Виктора Адамовича от первого брака, во время войны переходило из рук в руки: у русских его отбивали немцы, у немцев – поляки, у поляков опять русские… С приходом советской власти Глубокое оказалось у поляков, так что для посещения своего имения Евгении Александровне нужна была польская виза.
Само по себе оформление такой визы было делом несложным, проблема заключалась в другом: советские граждане, получившие визу и уехавшие в Польшу, не имели права вернуться назад в советскую Россию. А Евгения Александровна не могла даже представить себе жизни за границей, оторванной от родных и близких, поэтому всеми правдами и неправдами она пыталась и посетить свое имение, и вернуться назад в Россию. Это было очень непросто, но в 1919 году с большими трудностями, подвергаясь многим опасностям, ей все-таки удалось побывать и Глубоком, и вернуться в Петроград, где ее постигли новые тяжелые утраты.
Начиная с декабря 1919 года, на протяжении восьми месяцев три смерти последовали одна за одной: в середине декабря умерла тетя Ольга Николаевна, через два месяца, 11 февраля 1920 года, умерла младшая сестра Ольга, а 16 августа после сложной операции скончался любимый брат Леля. Перед смертью Алексей Александрович просил сестру ни в коем случае не оставлять его семью и помогать жене Наталье Александровне заботиться о детях.
Вскоре после смерти Алексея Александровича у его друзей и коллег возникла идея написания воспоминаний о нем, и они обратились к Евгении Александровне с предложением взяться за работу и написать книгу о старшем брате.
И как ни тяжела была утрата, в октябре 1920 года Евгения Александровна приступила к работе над воспоминаниями. В марте 1922 года, прочитав и отредактировав несколько первых глав, Б. Л. Модзалевский дал высокую оценку этому труду: «Талантливая писательница, обладающая даром художественного и живого изложения, Е[вгения] А[лександровна] сумела сделать свое произведение высокозанимательным и ценным по существу; будучи привязана к брату самыми нежными чувствами старшей сестры, она была всегда в курсе его личных и научных интересов, всей его работы, была ближайшею свидетельницей развития его исключительных дарований, поддерживала горевший в нем с детства священный огонь, переживала с ним все его горести и радости, была очевидицею и участницею его общественной деятельности и во время разлуки поддерживала с ним оживленную переписку; в своих письмах к сестре покойный ученый откровенно высказывал ей все, что его занимало и волновало и в них, как в зеркале, отразился весь его прекрасный нравственный облик, виден весь его душевный мир, ясен ход его развития с малых лет до зрелого возраста. Составленный на основании этих и других семейных писем и бумаг, труд Е. А. Масальской-Суриной, умело использовавшей для него и свои личные, очень отчетливые и богатые воспоминания, – представляет собою явление высокой ценности и значения».[27]
В то время, пока Евгения Александровна работала над воспоминания о брате и каждый день боролась за выживание семьи, надвигалась опасность потери Глубокого. Для того, чтобы не потерять имение, оказавшееся на территории Польши, и чтобы спасти для детей Шахматовых хотя бы часть капитала, в него вложенного, необходимо было срочно, в связи с начавшейся в 1921 году реэвакуацией беженцев в Польшу, переоформить имение в соответствии с польскими законами на имя Евгении Александровны. Для совершения этой процедуры требовалось ее личное присутствие, но из-за ареста по наговору, подписке о невыезде и суда поехать в Глубокое она не могла.
В то время в Глубоком находился бежавший туда сын покойного Виктора Адамовича и пасынок Евгении Александровны Дмитрий. Но справиться со сложным и хлопотным делом переоформления имения молодому, неопытному, нервному, болезненному Диме без Евгении Александровны и посторонней помощи было не под силу.
Положение казалось совершенно безвыходным, и Евгения Александровна обратилась за помощью к норвежскому другу покойного брата Олафу Броку, который сразу же откликнулся на ее просьбу, без промедления связался с норвежскими официальными представителями в Польше, отправил необходимые доверенности, письма и телеграммы, задействовал польских адвокатов, и сложный вопрос о спасении имения Шахматовых в Глубоком был решен быстро и эффективно. В архиве Брока среди незарегистрированных писем я нашла три письма Евгении Александровны, из которых становится сяно, что без помощи норвежского профессора спасти Глубокое для семьи Шахматовых вряд ли было возможно.
Как следует из этих писем, спасением Глубокого помощь Брока семье покойного друга не закончилась: через норвежского профессора шла переписка Евгении Александровны с пасынком и братом мужа, оказавшимися за границей; он хранил в норвежском банке деньги, принадлежавшие детям друга, и пересылал их вместе с набежавшими процентами по первому требованию Евгении Александровны по по указанному ею адресу; оказывал всевозможную материальную поддержку семье Шахматовых через своих друзей и знакомых дипломатов, посещавших или находившихся в то время в России.
В конце сентября 1921 года Евгения Александровна писала: «Многоуважаемый, дорогой Олаф Иванович[28]! Я замедлила со свои ответом, пот[ому] что хотела Вам написать что-либо определенное по поводу двух самых жгучих вопросов наших: переезда на другую квартиру и намерения поехать в Гл[убокое]. Эти вопросы me tenait en suspens[29] все лето, но вот и октябрь на днях, а переезд из Акад[емии] все оттягивается, а поездка в Гл[убокое] все затруднительнее. Но вчера я получила второе Ваше письмо с письмом Димочки, пасынка моего. Спасибо Вам, тысячу раз спасибо! Вчера же, почти одновременно, я получила письмо из Гл[убокого] же со случайной оказией. Оба эти письма наконец выяснили мне немножко все положение дела. Пасынок с тетушкой своей прибыл в Г[лубокое] 18-го июня, а за несколько дней до приезда имение уже было описано, чтобы быть сданным в казну (!)…
Посланный за мной еще с Пасхи (управляющим моим) человек не достиг до меня и чуть не погиб. Дима стал хлопотать. Полученная телегр[амма] и доверенность через Вас помогли ему; помогли ему и виленские друзья-родные, и Вы, дорогой Олаф Иванович, пот[ому] что Дима после трех лет мытарств и несчастий совсем разболелся, выдержал в августе операцию, чуть не лишился глаза, в страшном ревматизме и пр. и пр. Препятствий было много, но 14-го сент[ября] Гл[убокое] было спасено, только 14 сент[ября]! Об этом прислали мне сказать, и вчера только я могла вздохнуть свободнее. Но они продолжают настаивать на необходимости переезда, прислали денег и пропуск. Но… выехать не так легко или вернее почти невозможно легально, а нелегально я не могу и не хочу! Быть может друзья мои что-нибудь да придумают.
И вот опять пишу Димочке через Вас. Не откажите, дорогой Олаф Иванович. И пошлите прилагаемое письмо Димочке в Гл[убокое] и Шван[ебаху] в Вильну. Посылаю открытыми, чтобы Вы всегда могли их просмотреть.
В первом письме Вашем Вы опять приложили. Я буду жаловаться Нине Ивановне,[30] дорогой Олаф Иванович. Ведь я у Вас буду в таком долгу, что я никогда с Вами не расплачусь.
Шлю Вам от многих, многих русских друзей Ваших за память Вашу о России благодарность, поклон и привет. Позвольте мне еще через некоторое время еще написать Диме насчет скорой поездки в Глубокое, а тогда у меня будет большая, большая просьба к Вам: сохранить то, что я смогу выручить от ликвидации части имения, поместив ли в банк или во что другое, сохранить для детей брата, потому что переводить сюда, значит лишить их всего. Но об этом позже, а пока надо придумать, как поехать туда! Пока крепко целую Нину Ивановну и шлю Вам от себя и семьи брата самый искренний привет».[31]
О том, как развивались события в Глубоком после его переоформления, а также о помощи Брока, речь идет в следующем письме Евгении Александровны, написанном через несколько дней после предыдущего: «Многоуважаемый и дорогой Олаф Иванович! Опять с просьбой к Вам: я злоупотребляю Вашей любезностью! Прилагаю письмо с просьбой его переслать пасынку моему. Но если Вас это затрудняет, если это же и стоит денег, подумайте – только благодаря Вам дети брата моего сохранили что-нибудь! Только благодаря вовремя поспевшим телегр[амме], доверенности и письму, пасынку удалось после трех месяцев хлопот – отстоять наши права на имение, которое иначе было бы конфисковано! Теперь другой грозный вопрос – необходимость ликвидировать часть земли, которой все же 1700 десят[ин], иначе излишек земли отберется. Кроме того, если к весне не восстановить совершенно разоренное хозяйство, имение опять будет конфисковано. Надо ехать, п[отому] ч[то] без моего личного присутствия осуществить купчую на массу мелких участков, запроданных нами еще во время вой ны, – невозможно, а вот последнее очень мудрено!
Дима, пасынок сумел даже переслать денег на дорогу, с оказией, и зовет скорее. Но я не могу даже начинать хлопотать об отъезде, пока здесь не решиться вопрос – не удастся ли перезимовать еще в акад[емической] кв[артире]? Это зависит от возвращения из-за границы того академика, которому назначена эта квартира. Ждут его со дня на день, а переезд – да с наставшими холодами – это трата кошмарная! Потому же стоит не тысячи, а миллионы. Выручить эти миллионы продажей вещей тоже нелегко! Словом, все это очень и очень трудно, но необходимо, как горькое лекарство, и весь вопрос во времени, т. е. если бы можно было оттянуть переезд до весны, тогда бы я зимой могла покойнее съездить туда, хотя слово съездить теперь почти не подходящее. Можно еще уехать из Совдепии, но вернуться – нет, и в этом вся моя трагедия. Но безвыходных положений не бывает, и, м[может] б[ыть], найдется и этому выход, а пока прошу Вас отослать Диме мое письмо. Дойдет ли оно по этому адресу? Нине Ивановне и Вам шлем самый искренний и душевный привет!»[32]
Положение семьи Шахматовых в 1922-1923 годах было очень тяжелое, но друзья, ученики и коллеги, старались хоть как-то поддержать близких покойного академика. Чтобы выхлопотать хлебную карточку, Б. Л. Модзалевский написал отзыв о работах Евгении Александровны в пайковый комитет при Доме ученых, а Д. М. Приселков[33] обратился за помощью к Олафу Броку: «Милостивый государь Олаф Иванович! Беру на себя смелость, лично не зная Вас, обратиться к Вам с некоторою просьбою. Семья моего учителя и друга А. А. Шахматова продолжает бедствовать, потому что у нас нет теперь никаких пенсий, никаких обеспечений даже за заслуги столь выдающихся людей, как покойный Алексей Александрович. Помочь нам, ученикам его, – невозможно, потому что мы бедствуем сами, хотя и в меньшей степени, чем прежде. От покойного остались труды, драгоценные и обширные, но их сейчас печатать, конечно, никто не будет». Далее Приселков просит норвежского профессора организовать публикацию этих трудов за границей, чтобы семья получила за них гонорар. «Разумеется, что семья Алексея Александровича совершенно не знает ничего о моей настоящей просьбе».[34] Сведений о том, были ли организованы такие публикации, нет, но в письмах Евгении Александровны часто упоминается о том, что Олаф Брок лично помогал семье покойного друга.
Следующее письмо Евгении Александровны датировано мартом 1924 года, но о том, что в 1923 году, после возвращения Брока из России в Норвегию, его переписка с Евгенией Александровной не прекращалась, можно судить по письму П. Л. Маштакова[35] от 15 августа 1923 года: «Дорогой Олаф Иванович! Хочу воспользоваться случаем отправить Вам письмо через курьера И. И. Вульфсберга[36] (об этой возможности любезно сообщила мне Евг[гения] Алекс[андровна]). […] Вообще […] дела, как не стало Алекс[ея] Алекс[андровича], идут неважно. Чуть не каждый день все еще приходится вспоминать его. Сегодня же как раз соберемся на его могиле – в день кончины – три года назад, но кажется – так недавно: так свежа память у всех о нем. Впрочем это м[ожет] б[ыть] мое личное впечатление, п[тому] что я чуть не каждый день бываю у Шахматовых. Спасибо Вам за память обо мне в письме к Евг[гении] Алекс[андровне]».[37]
Последнее сохранившееся письмо Евгении Александровны к Олафу Броку датировано 15 марта (1924 года[38]): «Дорогой Олаф Иванович! Me Gr. Henr.[39] с своим прелестным мальчиком занесла мне Ваше письмо от 13.2. Хоть и медленно, но почта доходит таким образом верно, и я пользуюсь ee разрешением послать Вам ответ. Ив[ан] Ив[анович] только еще не передал мне письма, пришедшего в его отсутствие, но я выберу время его реквизировать. А пока я скажу Вам, что Рих[ард] Петр[ович] Вам, вероятно, уже передал, что мы согласовали наши счеты… И я надеюсь, что из «Profond»[40], как мы зовем условно Глуб[окое], Вам вышлют скоро денег. Заминка произошла из-за громадной пошлины за ввод в наследство[41], т. е. долю покойной сестры… Теперь мой beau frère[42] поехал в Варшаву хлопотать о разрешении продажи полевой земли и тогда, получив парцеляц[ионный] план, преступить к ликвидации.
На днях из Либавы вернулась сестра моего мужа и привезла мне самые утешительные известия о моем пасынке и его деятельности, характере и пр[очем]. Только здоровье его не вполне восстановилось после перенесенных «пыток!» на юге… Ему очень хочется, несмотря на свои 23 года, жениться и, вспоминая желание его отца, хотел бы иметь женой Катю, нашу третью дочку А[лексея] А[лександровича]. Но Катя пока слышать не хочет о замужестве, хочет доучиться, т. е. кончить университет, что возьмет у нее еще три года. К сожалению, решено, кажется, закрыть ее факультет… И Держ[авин][43] поехал на днях в Москву хлопотать о том, чтобы как-нибудь сохранить гуманит[арные] науки. Уже из одного этого Вы можете видеть подтверждение дошедших до Вас слухов о блестящем положении граммат[ики] и филологии.
Что же касается Ол[денбурга], то, к сожалению, Ваш коллега совершенно прав! Ол[денбург] огорчает всех друзей своих… Многие стали его избегать! Уже весной, но тогда Вы были у нас[44], разве Вы не обратили внимание на его направление?.. Ученые, действительно, за эти два последние года, выдохнули, поправились… Но не он ли принял меры к тому, чтобы прекратить пайки, арн [далее слово не читается]. Что им руководит, никто не понимает. Esprit de contradiction[45] его всегда отличало, но всему же бывает мера! Прибавлю еще, что женитьба его оказывает на него плохое влияние.[46] Мы все так ценили в нем то, что он окружил себя семьей… На них он работал – невестка с двумя прелестными девочками, ее две сестры (одна умерла, другая вышла замуж), одинокий племянник, одинокая глухая старушка-тетушка… И вот с осени этого года все это выселено (!)… Взамен их приехали из Читы сын его второй супруги, его жена, ее племянница и поселились у него… Бог ему судья! Но участь, на редкость прелестных, внучек его особенно всех огорчает… Были случаи такого «унижения» интел[лигенции], что люди с возмущением отходят от него. Завтра, когда дух Ваш будет с нами на первом вечере в память А[лексея] А[лександровича], мы не позовем его.[47]



