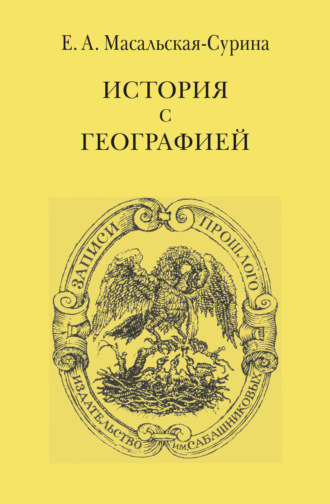
Евгения Масальская-Сурина
История с географией
Глава 2. Ноябрь 1908. Ликвидация земли
Кроме отравы из-за разлуки с Губаревкой и своими, кроме заботы о посеве, покосах, жеребятах и пр., меня связывали с Губаревкой наши денежные дела, давно ставшие моей задачей, те аренды за сдаваемые земельные участки, на которые мы жили. Сбор этих денег, уплата процентов, повинностей было дело сложное и пренеприятное, а поручить его было некому. Конечно, Гагурин, наше доверенное лицо из крестьян Губаревки (судья, писарь и т. д.), очень помогал мне в этих делах, но, во-первых, он сам был очень занят своей общественной службой, а во-вторых, все же надо было вести отчетность, общее руководство. А так как эти сборы начинались поздней осенью, когда и Леля уезжал в Академию, а сборы эти были очень сложные, потому что тормозились неурожаями (в Саратовском уезде опять настал период засух), то положение становилось довольно серьезным.
Еще летом 1906 года на семейном совете мы решили, что так продолжать нельзя, и первой нашей заботой, ввиду полной невозможности мне сидеть в Губаревке до глубокой осени, было приступить к продаже этих земельных участков. Общими усилиями мы с Лелей в августе того, 1906, года наладили продажу земли в Губаревке через Крестьянский банк своим же крестьянам по сто рублей за десятину. Это было очень дешево, потому что в том числе была двадцать одна десятина поливной земли под огородами, спасавшими в самые засушливые годы, участок леса и шестьдесят десятин усадебной земли, на которой стояла деревня с садами и выпасом.
В марте я приезжала из Минска выписать купчую. Леля оставлял себе только усадьбу со старым парком (и двадцать десятин пашни в нем) и лесной участок, всего сто двадцать восемь десятин. Получив через полтора года ссуду Крестьянского банка в двадцать четыре тысячи за двести сорок три десятины, Леля все же теперь мог спать спокойно, так как без всяких хлопот и тревог получал свои шесть процентов[86] – то, чего земля никогда ему и не давала в последние годы. Затем шел черед Новополья, земельного участка Тетушки в семи верстах от нас. Он был запродан нами летом 1907 года, и купчая на двести семьдесят восемь десятин по девяносто рублей была написана в мае 1908 года. Из полученной ссуды в двадцать пять тысяч было вычтено около девяти тысяч долга Дворянскому банку, и Тетя получила от Крестьянского банка 6 % обязательство 16 550 рублей. За ней оставался еще лесной участок в двести десятин, с которым я лично хлопотала, разбивая с землемером на мелкие участки и продавая их крестьянам за наличные исподволь и в рассрочку. Вырученные деньги шли на покрытие процентов, пени и повинностей, которые росли с каждым годом и насчитывались на земельном участке Тети, тоже мало приносившем.
Все эти дела были очень сложны, требовали массу хлопот, с Новопольем в особенности, так как банк всячески старался урезать ссуду под предлогом, что земля эта терпит от засухи, потому что находится в какой-то зоне «воздушного водораздела». Приходилось ездить в Петербург, и не раз, хлопотать в банке, доказывать, что эта зона не мешает земле очень хорошо родить хлеб, когда перепадают дожди, а не выпадают они по всему уезду, а не только в этой зоне. В сентябре того же 1907 года запродали мы и Липяги, земельный участок в соседнем Пензенском уезде, по семейному разделу присужденный нам с сестрой. Хлопот с ним было еще больше. Летом ездил дважды Витя, осенью ездил Леля, разделявший все наши труды по ликвидации земли, ездила и я два раза. Гагурин ездил несколько раз: то опоздал землемер, то не доехал оценщик, то крестьяне раздумали, то поссорились. Особенно тормозил дело крестьянин Нагорнов с братьями, не желавший покупать землю с обществом, а отдельно, на хутора: его межа не нравилась обществу, ему не нравилась отведенная ими грань. Мало того, обманом он еще прирезал себе пять десятин земли у общества. Опять вызов землемера, проверка и т. д. без конца! Наконец Крестьянский банк назначил к выдаче ссуду в пятьдесят две тысячи шестьсот. Но так как земля, участок отличного чернозема, совсем не знавшего засухи и неурожая, была куплена у нас крестьянами по сто восемнадцать рублей, то крестьяне внесли верхи до купчей, а Нагорновы рассрочили свои платежи на два года. Купчая была теперь назначена в Пензе, и мы с Тетей двадцать четвертого октября 1908 года, закончив «миллион делишек» в Губаревке наконец двинулись в Саратов с расчетом двадцать седьмого октября быть в Пензе, где нас ожидали к этому дню Нагорнов и липяговские крестьяне.
Не желая стеснять родных, в Пензе мы остановились в гостинице. Но как только я показалась в банке, меня увидел Кандыба[87], а Гриша Олсуфьев[88] оказался делопроизводителем Крестьянского банка. Кандыба, как он выразился, «обезумел от радости», узнав, что со мной приехала Тетя и немедля перетащил нас к себе, где Лиза с дочерьми встретили нас не менее радушно. Кандыба вызвался помочь мне во всех моих хлопотах в банке, казначействе, у нотариуса. Но все было отлично подготовлено заранее Гагуриными. Поэтому купчая была написана без всякого замедления.
Слушая трогательные разговоры на прощание с липяговцами, жалевшими, что с этой продажей земли у них порвутся связи[89] с нами, Кандыба вызвался заботиться о них, хлопотать о школе, о травосеянии. У него были связи в губернии, и он положительно изнывал от безделия, расставшись незадолго перед этим со своим Крутцом.
Я дала ему доверенность, чтобы закончить дело с Нагорновьм, и мы расстались с Пензой с самыми лучшими пожеланиями друг к другу.
Крестьяне были очень довольны. Мало того, что они благодарили без конца, они еще послали нам вслед письменную благодарность с подписями всего общества и печатями – за себя и за «мнучат», которые, теперь не станут считаться безземельными. Отдельно тогда было еще приложено письмо на имя нашего покойного отца с удивительным адресом «на небо». В нем крестьяне вспоминали, как они, или, вернее, отцы их когда-то неохотно во время эмансипации шли на полный надел. Все окружные селенья предпочли тогда получать по одной десятине, дарственной на душу, и теперь бедствуют без земли, шатаясь в батраках, тогда как они, по настоянию отца вопреки даже их желанию, вышли на полный надел[90] и были теперь все «хозяевами» с хлебом и скотом: их кони славились во всей округе. А теперь они могли прикупить себе ещё и наш участок.
Таким образом, по купчей двадцать девятого октября 1908 года липяговские крестьяне купили четыреста восемьдесят восемь десятин за пятьдесят семь тысяч шестьсот и Нагорнов купил пятьдесят две десятины за шесть тысяч.[91] Дворянский банк удерживал четырнадцать тысяч, да за проценты и повинности, также и за частные долги на покрытие процентов в 1905-1906 годах и другие расходы отходило еще около девяти тысяч, и нам с сестрой очищалось по двадцать две тысячи на каждую. Всего же нами было продано за эти два года тысячу сто тридцать десятин на сумму в сто двадцать тысяч, от которой нам осталось всего восемьдесят четыре тысячи. Мы выбывали из земельного класса и становились «рантье», которые, не тревожась и не болея душой, спокойно режут себе купоны.
С большим нетерпением ожидал нас Витя в Минске. Он задержал еще два больших номера, смежных с нашими номерами в отеле «Гарни», так что мы занимали всю половину третьего этажа с двумя балконами и окнами на Захарьевскую. На том же этаже на другой половине также постоянно занимали два номера Урванцевы, врачебный инспектор с женой, волею судеб ставшие нашими ближайшими друзьями, отчасти благодаря ежедневным свиданиям.
Наши восточные ковры, индейские скатерти, подушки, драпировки придавали нашим комнатам необыкновенно красивый вид, особенно же украшала их масса фотографий, портретов и «галерея предков» в золоченых рамах, до потолка закрывавшая стены. Часть этих портретов была нам оставлена Вячеславом[92], когда он покинул свою службу в Иркутском полку в Борисове и уехал искать счастья в Петербург.
Но увы! Всё: хлопоты и волненья с купчей, беспрестанные поездки, а в Минске распаковка и раскладка вещей кончились тем, что десятого ноября мне пришлось в третий раз отказаться от счастья быть матерью. Как дорого тогда мне было присутствие Тетушки, как умела она своей лаской и вниманием ободрить и утешить! Все ей нравилось у нас в «Гарни», до прислуги и кухни включительно. Чрезвычайно приветливая, общительная, несмотря на свою сдержанность и своего рода строгость, она по обыкновению вызывала к себе общую симпатию наших друзей. Не так отнеслась к Минску сестра Оленька, приехавшая к нам из Петербурга в середине ноября. Зимовать в Минске вовсе не радовало ее; ей казалось, что она покидает Петербург навсегда, а она так обожала этот город! Ее огорчала разлука с Лидерт, учившей ее рисованию по фарфору, с Гаусман, дававшей ей уроки пения, с духовными друзьями, институтскими подругами и пр. и пр.
Меня сначала тревожило это недовольство, эта жертва со стороны сестры. Но вскоре Витя познакомил ее с художником Суковкиным, и она со свойственным ей увлечением принялась рисовать с натуры. А затем оказалось, что Урванцева такая веселая и забавная, Родзевич[93] симпатичная и музыкальная, Сорнева[94], ее бывшая товарка по Екатерининскому институту, любезная и гостеприимная, словом, и в Минске можно иметь друзей и встретить приятное общество.
Как ни грустила я, покидая осенью Губаревку, но в Минск я уезжала все-таки с большим удовольствием! Как-то особенно легко и приятно складывалась там для нас жизнь. Единственным облачком все-таки являлся Глинка. Этот товарищ Вити по службе не мог забыть, что Витя был назначен ему на голову, и он чуть не лишился столь давно ожидаемой им вакансии непременного члена. Впрочем, сначала и с ним все шло ладно. У него была очень милая жена, с которой у меня завязалась дружба, но затем все-таки пробежала между нами кошка, и Глинка стал в скрытой оппозиции к Вите.
К несчастию, и в Минской губернии настал неурожай, вызванный жарой и засухой, явлением исключительно редким в этом крае. Пришлось впервые организовать продовольственную компанию. Новый губернатор Эрдели[95], сменивший Курлова, поручил ведение этой компании Вите, который проводил ее уже в Саратовском и Аккерманском уездах. Витя принялся за дело со свойственным ему жаром и увлечением. Вызвал из Губаревки Гагурина, как опытного и добросовестного человека, сам ездил с ним на юг, в Полтавскую губернию закупать хлеб, опасаясь обмана и недосмотра. В результате продовольственная кампания, занявшая всю зиму 1907-1908 года, прошла блестяще, вызывая общее одобрение. Выданный крестьянам хлеб был признан лучшим и самым недорогим в сравнении с другими губерниями. Это обратило внимание в Петербурге Гербеля[96], и Витя был представлен к Владимиру. Все это, конечно, не способствовало симпатии Глинки, и незаметно образовалась трещина в дружеском кружке, в котором нам было так хорошо в Минске.
Хотя общие симпатии, сознаюсь, были пока на нашей стороне, но появилось какое-то, сначала очень небольшое, чуть заметное осиное гнездо, которое приютилось в женской половине семьи Эрдели. Несмотря на отличное отношение самого Якова Егоровича к Вите, осиное гнездо всегда было готово если не жалить, то по крайней мере близко не подпускать нас, да и много других, к чрезвычайно добродушной его жене Вере Петровне, влияя на их дочерей, уже взрослых барышень. На беду еще вице-губернатор Чернцов был сменен Шидловским[97]. Осиное гнездо, не благоволившее к Чернцовым (жена его Ольга Александровна Задонская была красивая и умная женщина), уже совсем ополчилась на Шидловских.
Осы – существа женского рода, и в осином гнезде, кажется, не было мужчин… кроме Глинки.
Шидловские были очень гостеприимны, жили открыто и вскоре приобрели общую симпатию и друзей. В числе последних были и мы. Особенно мила была маленькая, грациозная, изящная, с глазами лани, жена вице [губернатора], Наталья Петровна. Тата́, как звали ее обычно все, полу-итальянка, графиня де Корветто, чуть ли не в пятнадцать лет, со скамейки Екатерининского института, вышла она за красивого пажа, чиновника особых поручений при киевском генерал-губернаторе, Константина Михайловича Шидловского, и теперь едва в тридцать лет у нее было уже трое немаленьких детей. Живая, любезная, увлекающаяся, Тата́ произвела сначала на всех чарующее впечатление, но затем в ней нашли минус: чрезмерное увлечение благотворительной деятельностью. Она никого не оставляла в покое, приглашала всех дам общества к себе работать на детей приютов, «отрывая от их семейных обязанностей». И все это являлось как бы в пику более уравновешенным дамам патронессам. Став председательницей Второго Благотворительного Общества, Тата́ буквально подняла всех на ноги, чтобы создать новый приют для сирот, устраивала базары, вечера аллегри, от которых никто не мог отказываться, и вечера ее, надо сказать, пользовались большим успехом. Понятно, что дамы патронессы (Эрдели или Долгово-Сабурова, жена Губернского Предводителя), не могли быть очень довольными. И тогда осиное гнездо стало раздуваться и жужжать уже основательнее. Сначала до нас не долетало это жужжание, но прошлой весной, на свою беду, мы выиграли в лотерее, устроенной семьей уезжавших в Сибирь Мигай, пару пони. Поместить их в «Гарни» было негде, продать было жаль, и я отдала их в распоряжение приюта Тата́. То-то поднялось ворчание по этому поводу! Этим как бы было подчеркнуто мое расположение к Тата́. Супруги Урванцевы занимали самое трудное положение: дружили с нами и нашими друзьями и считали необходимым сохранять свое положение ближе к солнцу, не взирая на осиное жужжание. На эту тему у Надежды Николаевны Урванцевой постоянно поднимались споры с Витей, и она умела доводить его до белого каления, он не признавал никаких компромиссов.
Еще в Москве, по дороге из Пензы, я получила за раз три письма его по этому поводу. «Представь себе, Шидловская хочет, во что бы то ни стало, тебя запрячь в своем Обществе! Урванцева оскорбительно заметила, что тебе волей-неволей придется идти за ней… ради службы мужа». Конечно, я узнавала милую Надежду Николаевну, которая знала, как вскипятить Витю. Он, как и требовалось, вскипел бурным ключом и объявил Урванцевой, что именно из-за этого я и откажусь совсем от Второго Благотворительного Общества «хотя бы все вице и губернаторши ополчились на тебя. Урванцева еще добавила, что Шидловская тебя не пустит за границу, заставит тебя выгнать поляков и насадить русских детей в ее приюте. Все это меня так взволновало, что сердце бьется. Главное, я не уверен в тебе: вдруг ты по бесхарактерности согласишься. Я тогда с ума сойду! У меня мысли путаются и руки дрожат от мысли, что ты подчинишься ей и не оставишь ее Обществ».
Не могу сказать, чтобы, получив эти письма в Москве, я очень обрадовалась результату интриги милой Надежды Николаевны! «Ради моего спокойствия и мира в нашей семье, – писал Витя в последнем письме, – прошу тебя, дорогая моя, откажись под благовидным предлогом от членства в этом обществе. Шидловская рассчитывает главным образом на тебя, чтобы ездить по знакомым, выклянчивать пожертвования на ее приют. Как это унизительно, как это возмутительно! Прими лучше энергичное участие в Археологическом Обществе. У меня руки дрожат, и я писать не могу, так меня возмущает распоряжение тобой со стороны этих благотворительных дам». И хотя «эти благотворительные дамы» распоряжались мной только в фантазии Урванцевой, но Витя успокоился только тогда, когда, отправившись к Шидловским, лично разъяснил Тата́, что впредь я буду участвовать в делах ее приюта платонически, т. е. деньгами и советами, но не «физически», и отказываюсь быть членом правления, потому что ты всецело можешь участвовать лишь в Археологическом Обществе и у себя дома, пояснил он ей. Тата сперва возмутилась, но потом объяснила все это случившееся моим нездоровьем и вскоре успокоилась, зная, что я никоим образом не откажусь от приюта, из-за которого мы с ней столько хлопотали в прошлом году.
Глава 3. Декабрь 1908. Минское церковное историко-археологическое общество
Но что же это было за общество, только в котором разрешалось Витей участвовать?
Помнится, еще весной, я как-то писала брату, что не «успеваю за жизнью». «И визиты, званые вечера, обеды, а сверх того масса общественных обязательств, заседаний и пр. Кроме Второго Благотворительного Общества и приюта и Тата́, архиерей зовет меня в Красный Крест, врачебным инспектором во вновь учреждаемое «гигиеническое общество». Вчера меня выбрали в попечительство Домов трудолюбия. Состою членом покровительства животных и Археологического Общества[98]. А по утрам перевожу на французский язык один реферат, который знакомый техник Опоков готовит к конгрессу гидрологов пятнадцатого мая. Гонорар пойдет в пользу нашего приюта».[99] На это письмо Леля мне тогда ответил: «Очень жалею тебя, что ты взялась за перевод специальной работы на французский язык. Вещь очень трудная и ответственная. Береги свои силы и не разбрасывайся. Получится в результате полное неудовлетворение. Сужу по себе, а силы наши в общем одинаковые. Лучше всячески сокращать свою деятельность, чтобы делать ее производительнее. Если бы ты сосредоточилась на Археологическом Обществе, было бы, думаю, целесообразнее и вышел бы действительно толк».[100] Я всегда считала брата неизмеримо выше себя по мудрости житейской (ученые достижения мало меня трогали), и я послушала его совета. Работу Опокова пришлось, конечно, закончить. Она, действительно, была очень специальна (о речных системах) и нестерпимо скучна.
Но, хотя от приюта Татá я не могла отказаться никоим образом, я смогла, числясь членом других обществ, ограничиваться одними пятирублевками и внимательнее отнестись к Археологическому Обществу, как мне рекомендовала Леля, а теперь и Витя, по-видимому, как панацею от всех зол. Это общество не привлекало внимания дам патронесс: там, кстати, ни одной из них и не было. Оно скромно, по инициативе епископа Михаила, работало под сенью архиерейского дома, занимая в нем две комнаты и два сухих подвала. Средства были очень ограниченные, зато любви к делу премного. Председателем общества был скромный старичок Былов – директор народных училищ. Далее главными действующими лицами были Панов, инспектор духовной семинарии, Смородский – преподаватель малой гимназии, Скрынченко[101] – редактор епархиального ведомства, А. К. Снитко – помещик. Комитет существовал фактически уже с весны 1907 года, но устав его был утвержден Синодом в октябре и официальное открытие его было тринадцатого февраля 1908 года, в день трехсотлетия со дня кончины князя Константина Константиновича Острожского[102], ставшего патроном этого общества. Членами общества были разбросанные по губернии священники, учителя и любители старины.
Следы этой старины, хоть и слабые, стертые польской культурой, бережно и упорно собирались ими, чтобы доказать, что этот край – исконно русский и православный, не «забранный» у поляков, как утверждали последние. Из дальних и глухих церквей стали присылать в музей старинную и церковную утварь, иконы, рукописные Евангелия. Попадались интересные вещи, старинные облачения, соломенные двери, соломенные венчальные венцы из древних бедных церквей Полесья, старообрядческие кресты, слуцкие пояса, деревянные ангелы из униатских церквей, бронзовые изображения языческого божества, бронзовые кольца и монеты из раскопок, даже окаменелости, а также старые книги и рукописи. Конечно, последние более всего заинтересовали Лелю, который очень обрадовался, узнав о создании такого музея, причем он все справлялся, не будет ли у нас печатного органа? Тогда бы я мог дать свою статейку об одной Туровской церкви, писал он[103]. Таким печатным органом явилась «Минская старина», изданная позже, уже в 1909 году.
Еще в начале 1907 года мы случайно узнали о смерти известного коллекционера Г. Х. Татура[104], «ограбившего», как говорится, все церкви Минской и Могилевской губерний. Витя, разделявший мою страсть к старине и тоже член Археологического Общества, тогда немедля разыскал домик Татура, где-то на выезде за рекой Свислочь, и мы поехали к его вдове – бездетной, полуграмотной и придурковатой женщине. Покойный оставил ей весь свой музей, в котором, конечно, она ровно ничего не понимала. Со слезами умоляла она нас «просить государя купить у нее эти оставленные ей мужем вещи», причем, в глазах ее, этот муж был очень неосновательный человек, совсем не умевший деньгу зашибать! Но покойный путем мены именно умел ее зашибать, потому что четыре низкие комнаты ее деревянного домика были сплошь завалены такими ценностями, которые, конечно, не могли быть им выкрадены. Чего тут только не было! Начиная с полного рыцарского вооружения с гербом князя Радзивилла, ценных картин, громадного количества книг и рукописей, церковной утвари, антиминцев, крестов, древних икон и Евангелия и кончая коллекциями монет, минералов, египетских ценностей, амулетов, драгоценных камней, колец и пр., пр., все это было навалено одно на другое и покрыто густым слоем пыли и паутины. У знатока-антиквара глаза бы разбежались!
Мы с Витей, не медля, переписали названья нескольких рукописей и послали их Леле, умоляя приехать его самого. В ответ, через день, Леля телеграфировал, что Академия Наук командирует ученого, хранителя рукописей Срезневского, а еще через день Срезневский[105][106] спешно прибыл в Минск. Он познакомился с рукописями, взял под расписку некоторые из них, которые он считал нужными представить Академии для того, чтобы выхлопотать сумму денег для их приобретенья.
Действительно, Академия сочла их интересными, важными. Был поднят вопрос, как раздобыть десять тысяч, чтобы приобрести всю коллекцию, которую вдова отдавала с большой охотой. Волновался Леля, боясь потерять случай приобрести для Академии все эти ценности. Волновались и мы с Витей, и особенно душа Археологического Общества Андрей Снитко, местный белорусский помещик, с которым мы очень тогда сошлись. В Академии дело как будто и налаживалось, но что-то затягивалось. Выхлопотать такое крупное ассигнование было нелегко. Опасаясь, что ценная коллекция, оставшись без призора, разойдется по рукам скупщиков (Академия была намерена взять лишь книжный рукописный запас), Скрынченко известил известных любителей и знатоков: графиню Уварову[107], Забелина[108], Щукина[109], князя Щербатова[110]. Но графиня Уварова была в отсутствии, Щукин и Забелин тяжело больны, Щербатов заглазно предполагал дать восемь тысяч за все.
Тем временем приехал к вдове Татур меценат граф Тышкевич[111], взглянул на эти четыре комнаты и, не торгуясь, выложил ей наличными двадцать тысяч. Все было немедленно запаковано и отправлено в его резиденцию «Червонный Двор»[112]. Снитко и Скрынченко чуть не плакали, а Леля не успел еще даже выяснить решение Академии, когда нам пришлось известить его о необходимости вернуть рукописи, закупленные Тышкевичем.
Хотя мы были членами общества, которое фанатически собирало все следы русско-славянской культуры и было одушевлено довольно острым антагонизмом с польской культурой и «польским засильем», мы с Витей не могли проникнуться их шовинизмом! Эти чувства совершенно чужды восточным губерниям, где борьба национальностей отсутствует и в особенности не разжигается. Там почти сплошь одно русское племя, а инородец является даже приятным исключением. С немецкими колониями, хотя и обставленными гораздо лучше нас, антагонизма не было совсем, хотя они держали себя отчаянно особняком, а с мордвой, татарами, чувашами к чему же тягаться?
Нельзя было не дать справедливой оценки не польскому народу, мало отличающемуся от нашего, но польской интеллигенции, в которой чувства патриотизма и национальности не разбавлены безразличием, космополитизмом, нигилизмом! Они любят свою родину и гордятся ею, гордятся и деятелями ее. Для них не безразличны, не вызывают критики и насмешки имена князей Островских, Огинских, Сапег, Сангушко, Вишневецких, Друцких, в особенности самых популярных из них Радзивилл. Имена князей: Радзивилл Черный[113], Радзивилл Сиротко, Радзивилл Пане-Коханский[114], произносимые с восторгом и уважением, слышатся в любой польской речи, когда поляки перебирают прошлое и настоящее своей родины. Несвиж, Лахва, Клецк, Мир, Олыка и сотни других местечек и селений, владения князей Радзивилл (частью отошедших по женской линии к Гогенлое, Витгенштейнам и конфискованных) известны всему краю.
Из современников еще существовал князь Радзивилл на русской службе, принимавший участие в Японской войне. Раза два он заезжал к нам по поводу каких-то раскопок и орудий каменного века, которые он хотел пожертвовать в Эрмитаж. Старшая линия Радзивилл живет за границей, вдова с малолетними сыновьями, и только изредка наезжает в свой замок в Несвиже близ Немана, дивный исторический замок! Было еще немало замков и менее видных палаццо с остатками былого великолепия, владельцы которых бережно хранили памятники былой культуры и собранные ценные библиотеки, картинные галереи. Щарсы Хрептовичей, Логойск Тышкевичей, Мышь Ходкевичей[115], Погост Друцких-Любецких, Березино Потоцких и многие другие – настоящие музеи. Поречье Скирмунта с образцовым хозяйством[116] не вызывают своим богатством зависти, а будят национальную гордость той части интеллигенции, которая у нас считает своим долгом становиться в оппозицию и бежать с красным флагом впереди пьяных погромщиков.
Но я опять возвращаюсь к погромам! Да, забыть их нельзя, но не вспоминать их можно усилием воли. Нам мало приходилось тогда встречаться с польским Обществом, которое только раз в год перед Рождеством съезжалось в Минске на свои блестящие благотворительные базары и балы. Обыкновенно же Общество круглый год проводило за хозяйством в своих имениях. Мы не знали польского языка, не читали польских исторических книг, но самое поверхностное знакомство с историей этого края, на месте, представляло в ином свете и раздел Польши, и польские мятежи, и Муравьева[117], и ссылки.
Давно, мне не было отроду года, когда отец наш[118], прокурор в Воронеже, поднял бурю негодования в обществе и навлек на себя гнев администрации тем, что возмутился, узнав, что из Киева гонят в Сибирь партию польских студентов в кандалах. Без разговора он велел с них снять эти кандалы и горячим заступничеством в Министерстве настоял на прекращении подобной жестокости. Как понимала я его теперь, вспоминая этот поступок![119] Студенты эти не губили свою родину, а защищали ее, не могли мириться с ее утратой!
В Археологическом Обществе один Снитко понимал нас, но мы и не входили ни в какие препирательства с остальными его членами. Все это были, вероятно, прекрасные люди, горячо преданные своему делу. Они, конечно, были правы, когда отыскивали под слоями былой пышной культуры Польши свои исконные земли. Ведь то были православные русские княжества, земли князя Владимира и его потомства, бывшие за ними задолго до владения католической Польши. Нельзя было требовать от них равнодушия к заветам своего патрона князя К. К. Острожского, киевского воеводы, сына знаменитого гетмана литовского Константина Ивановича! Героический дух защитника русского народа и православия против воинственного католицизма и полонизма, широкие стремления бороться с ними путем просвещения народа, школы, типографии, первое издание (1581) и перевод Библии и богослужебных книг по греческим подлинникам (70 толковников), а не только несметные богатства (в его владении было двадцать пять городов, шестьсот церквей, девяносто монастырей) окружили славой имя этого последнего представителя доблести и духовной силы, названного в грамоте Стефана Батория[120] «Верховным Хранителем и защитником церкви православной, веры „старожитной“». В свои восемьдесят два года этот друг Андрея Курбского[121] все также пользовался популярностью и общим уважением, то, чем уже не пользовались его дети[122].
Были правы члены нашего общества, утверждая, что русская культура X–XII веков в Киевской Руси достигала высокой степени развития, нисколько не ниже западноевропейской, пока волны татарских полчищ и восточных кочевников не смели ее с лица земли. России тогда приходилось выдерживать натиск и первые удары варваров, высылаемых Азией на Европу и, грудью защищая Запад, сама превращалась в пожарища, развалины и пустыни. А когда после двухсот лет рабства и разорения Россия справилась со своей бедой, по выражению одного старинного историка, она стала как бы «новой землей после вторичного потопа»: города, крепости и замки были сожжены дотла, даже старинные названия их исчезли, от Холмгарда, Тунугарда, Роталы, Альргема и других городов не осталось и следа! Явились новые обычаи и законы, новое управление, новая жизнь. Народ был истощен, и былой блеск этого государства померк. А западные государства, от которых Россия отстала на два века, шагали вперед в своем развитии. Польские и Литовские государства сменили русские княжества. Россия стяну лась к Суздалю, Москве, а Киевская Русь стала Польшей! Польшей она стала несколько сот лет тому назад, и польская интеллигенция и не вспоминает русских князей. Эти западные губернии испокон веков были их земли, а теперь русские отнимают у них родину! Прощать русским, более даже чем немцам, раздела и покорения Польши они не могут. Это их Польша! Теперь нашим скромным работникам просвещения оставалось лишь разыскивать следы валов, курганов, укреплений, неизвестных городов, записывать предания, песни и легенды, в которых встречались имена и события летописи: Копыл, Случеск, Клецк, Новогрудок, Менеск и др.
Теперь, когда Тышкевич увез в Червонный Двор всю коллекцию Татура, мы вряд ли уже могли порадовать Лелю, бывшего в полном отчаянии, чем-либо особенно интересным. Рукописи разыскать не удалось. Я сообщала ему все, что присылали в музей из уездов, но пока то были сущие пустяки: рукописные евангелия не старше XVI века, октоих, иконы далеко не древнего письма. Заинтересовало его предложение одного псаломщика игуменского собора продать старинный медный крест с надписью 1010 года. Леля просил снять с него фотографию и написать заметку для помещения в «Известия Академии Наук». Надпись была интересная, этот крест, гласила она, был дан святым Иоанном Богословом преподобному Авраамию[123] для победы над идолом Велесом при князе Владимире. Но точно такой же крест хранился в Авраамиевском монастыре (см. Шляпкин[124]). Который из них был подлинный?
По этому поводу мы перекинулись с Лелей несколькими письмами, и Леля все более и более в курсе наших дел, он очень одобрял намеченные обществом экскурсии по губернии и сам мечтал принять в них участие. Первая наша экскурсия была на ближайшую, в 30 верстах от Минска, станцию Заславль, некогда город Изяславль, удел князя Изяслава, сына Владимира[125] и Рогнеды[126], столица большого княжества. Снитко привез с собой своих двух сыновей-гимназистов и прочел нам лекцию о драме княгини Рогнеды Гориславны, гордой Нормандки[127], не мирившейся с изменой князя Владимира.



