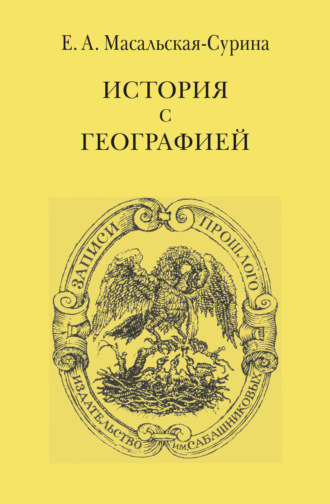
Евгения Масальская-Сурина
История с географией
Глава 7. Май-июнь 1909. Город Борисов – Альт-Лейцен
Вероятно, только вернувшись в Минск, мы обстоятельнее сообщили Леле о торгах в Лауданишках, судя по его письмам конца апреля. Он уговаривал Оленьку быть острожной, благоразумной.
«Не хочу расстраивать вас, но считаю ошибкой и то, что вы отказались уже от шести процентов ренты. Будьте осторожны. Не раскаивайтесь в сделанном уже шаге, но не рискуйте дальше. Лучше всего поместить капитал в хорошие бумаги. Можно рискнуть помещением и в акционерные предприятия, разумеется, ненадолго, а так, чтобы вернуть хорошими процентами – убытки, уже вами понесенные. С большой робостью решаюсь дать подобный же совет Жене. Я понимаю, что он диктуется моей слабостью, недостатком сил и энергии, которых уже недостаточно, но все-таки лучше никогда не переоценивать своих сил и не брать на себя неудобоносимой ноши, бремени чрезмерного. Вчера я мало поговорил с Женей… поцелуй ее за меня»[163], а вслед за тем и мне писал: «Мне теперь после того, что писала Оленька и что пишешь ты, очень не улыбается ваша покупка. Надо искать чего-нибудь лучшего и более надежного. Мною прямо овладевает страх и трусливое настроение, когда я подумаю о вашем настроении. Скольких уже приходилось пожалеть и осудить за неосторожное обращение с деньгами. Неужели это не дает право быть скептиком?».[164]
Конечно, бедный Леля был прав. Теперь разменянные к торгам деньги лежали на текущем счету. Наступало время разлуки с Тетей и Оленькой, а вопрос о том, как теперь быть, все так же оставался открытым. В последних числах апреля мы проводили Тетушку в Губаревку. Она уезжала вообще очень довольная Минском. «Меня трогают, – писала она Леле, – очень добрые отношения ко мне здешних друзей Жени. Представь себе, другой вечер приходят лично ко мне, узнав, что я скоро уезжаю. Я ведь никуда не выезжала и только встречалась дома с ними». Тетушка приписывала в том же письме: «Живопись Олечки поразительна. Картины ее стоят и висят в гостиной, обращая внимание, а Женечка наша радуется и ужасно вперед уже грустит о разлуке». Это правда, разлука с моими давалась мне нелегко! Из-за них я постоянно уезжала от мужа. Бог знает, что я переживала тогда в эти долгие разлуки с ним! И все-таки сколько упреков приходилось выслушивать от моей бедной маленькой сестры. Сколько слез она проливала из-за них, как упорно добивались и мы так устроиться с Витей, чтобы не разлучаться с ними! Вот первая зима, что нам удалось так прожить вместе в Минске, но наступало лето, и Витя не мог же его проводить в Губаревке! Когда же я сокращала свои разлуки с Витей, сестра ставила мне в пример всех дам, встречаемых ею в вагонах, которые уезжали летом на воды и в курорты, оставляя своих мужей на все лето. «Я очень жалею, что ты не из их числа».[165] И теперь уже я слышала ее недовольство, потому что раньше конца июля, когда у Вити начнется ревизия, которую ожидали из Петербурга, я не смогу выехать в Губаревку. Проводив Тетушку в Губаревку, Оленька осталась у нас еще на некоторое время, пока Тетушка будет справлять свои школьные и душевные дела, а в Минске Татá шестого мая не освятит свой приют.
Образ Ирины был закончен, и в киоте поставлен в часовне Александра Невского в сквере на Захарьевской. Сестра очень смешно описывала, как в мое отсутствие Татá взялась и за нее: она упросила ехать с ней к игуменье просить вышить в монастыре золотом по бархату тропарь святой Ирины. Дорогой Татá подхватила еще одну даму, так что служка игуменьи, испуганная такому многолюдству, сперва не хотела их пускать. Затем начались разговоры без конца так долго, что Оленьку стало тошнить от скуки, но Татá собиралась еще пройти с ней по всем кельям. Тогда сестра бежала от нее! На другой день Татá опять заехала за ней тащить в собрание, где будут читать очерк Снитко об Ирине. «Словом в лоск положила меня».[166]
Но когда у нас сорвались и Лауданишки, Оленька уже стала нервно относиться к вопросу о покупке земли. «Мы скоро будем в положении Крыловской разборчивой невесты», – говорила она, досадуя на нерешительность Вити и подозрительность Гринкевича. При ней предлагали нам Мышь Фон-Моллера в Новогрудском уезде, Глуск Рубана, Заброту Платера, Холопеничи фон-Зенгера и еще многие другие. Но особенно морочили нам голову с Бениным Патона: «Чудная усадьба, винокуренный завод и тысяча сто десятин уступались всего за девяносто тысяч» и «с комбинациями». Фомич должен был выехать, Фомич должен был купить», – горячилась Оленька, уговаривая нерешительного Витю, который был уже готов совсем отказаться от «земли», чтобы не рисковать и не терять более денег на поиски ее.
И наш бедный Иван Фомич поехал в Бенин – от Новогрудска четырнадцать верст по сыпучим пескам. Его сопровождало три комиссионера! Между ними первой скрипкой был Антон Осипович Кулицкий, Мозырский, как называли его по его происхождению из города Мозыря. Решительный, ловкий, опасный для зазевавшегося обывателя Кулицкий отличался удачей, потому что умел брать натиском. Ему приписывали свойства гипнотизера и укротителя зверей. Попасть ему в лапы означало живым не вырваться. Теперь он клялся своим друзьям-комиссионерам справиться, наконец, с упрямым Гринкевичем, «всучить» нам Бенин и получить у них приз за умение и ловкость. Уставшие и разочарованные комиссионеры начинали поговаривать, что мы совсем ничего не купим: «сварливый» старик упрям, а Витя недоверчив и нерешителен. Укротитель зверей взялся покончить с нами. Но когда Иван Фомич, приехав в Бенин, убедился, что богатое имение, бывшее князей Долгоруких (теперь в еврейских руках), превратилось в пустырь с вырубленным лесом, что из имения все выжато, что только возможно, он уперся опять. Что ни делал Кулицкий: и подкупал, и угощал, и уговаривал, а вечером и пел, и танцевал, чтобы разогреть кремневую душу Фомича, рассказывал он сам, захлебываясь, но подкупить его, убедить в мнимых достоинствах Бенина им не удалось! И Бенин ухнул за другими имениями. Почему-то Оленька особенно жалела Бенин. Быть может, три комиссионера, расхвалившие зараз это «дивное» имение, сумели ее убедить, что Гринкевич никогда нам ничего не купит!
Вскоре затем Кулицкий вновь явился к нам, предлагая купить четыре тысячи десятин (?) по двадцать рублей землю из-под леса в своем Мозырском уезде, в Скрыгалах. Он же брался распродать землю крестьянам, которые прибудут на его зов из Волыни. Красноречиво убеждал он нас: нам придется только съездить к нотариусу подписать купчую, а затем все, все хлопоты падут исключительно на него. Владелец этих четырех тысяч некий Любимов, уже телеграфировал нам, что готов выехать совершать запродажную. Мы с Витей слышать не хотели о такой парцелационной[167] «афере»… и решительно отказались. «Ну, не минуете вы меня, – мрачно проговорил Кулицкий, стиснув зубы, – с таким колпаком все равно далеко не уедете. Сколько времени покупаете! Другие за это время успели два раза обернуть свои деньги!»
Но мы только были рады, что сумели от него избавиться! Оленька же, не желая слушать оправданий Фомича, очень огорченная, что последняя надежда, Бенин, тоже сошел со сцены, стала собираться в Губаревку, предварительно сделав крюк в Козельщину, ее давнишнюю мечту, чтобы посетить бывшее имение ее друга Владимира Ивановича. Поехала с ней и Урванцева помолиться у Козельщинской Божией Матери, которую она особенно чтила.
Проводив их в Козельшину, нам стало скучно сидеть в городе в самое лучшее время года. Витя решил меня завезти к своей тетушке фон-Кехли, в Зябки, бывшее ее имение по Полоцкой железной дороге, пока он дня два-три проведет на ревизии одного земского начальника в Парфианове, в соседстве по той же дороге. Так как после своей тяжелой поездки в Бенин Фомич просил пощады, чтобы полечить расшалившуюся печень и заняться ремонтом своих домов, то мы по дороге к тетушке решили сами заехать в очень расхваливаемое имение Кривичи, в Вилейском уезде, в Виленской губернии. «Шестьсот десятин с усадьбой и мельницей продавалось за семьдесят тысяч».
Имение действительно было хорошенькое, особенно в лучах майского солнца: и сверкавшая на солнце Исса, и луга, и домик неплохой, и земля хорошая, несмотря на множество камней по полям. Но странное чувство охватывало нас всякий раз, когда слова переходили к делу: когда разговоры об имениях, одно другого краше и выгоднее, по словам комиссионера, сменялись трезвою действительностью, мы начинали понимать, что вовсе не так легко решиться поселиться в чужом гнезде и зажить чуждою всем жизнью.
«То-то порадуется Леля. «Кривичи» – одно название для него чего стоит?» – фантазировала я, подъезжая к этим Кривичам, а потом, потом? Давай Бог ноги вон! Из Кривичей Витя завез меня к Кехли, а сам уехал в Парфианово. Зябки были проданы тетушкой какому-то разбогатевшему мужику, который уже поселился в доме, а сами Кехли ютились, напротив, в длинном и низком доме, бывшей службе, на самом берегу красивого озера. Здесь, конечно, мне пришлось выслушивать все обычные рассказы Полины Владиславны о своей родословной, о польских магнатах и родственных с ними связях. Старик Кехли был гораздо скромнее и довольно смиренно переносил постоянную воркотню супруги, которая вовсе не щадила его самолюбия. Но прелестная их дочь Бэби производила очень приятное впечатление.
Конечно, тетушка, любившая обо всем говорить с неподражаемым апломбом, взялась указать нам ближайшие имения, которые продавались. И когда Витя вернулся с ревизии, она направила нас к какому-то соседу, польскому графу, и в Плиссу, верст за 15 от Зябок. Так как был праздник Троицы, мы решили съездить их посмотреть. Нам дали таратайку, запряженную в одну лошадь, с мальчишкой на козлах. Ехали мы песчаной дорогой, бесконечными сосновыми лесами, в жаркий майский день с красным солнцем из-за дымки дальних лесных пожаров. В имении графа нас встретил управляющий с негодующей физиономией: «Совсем имение не продается! С чего это вы взяли?» При этом была выпущена свора собак, испугавшая нашу кобылу. Она круто повернула оглобли и чуть не вывалила нас среди двора прямо в разинутую пасть собачьей своры.
В Плиссе нас встретили радушнее: хозяйка полька Лесневская угостила даже обедом, очень расхваливала «свою Плиссу», показывали свой дом с непременной особенностью в имениях этого края – креслами, в которых сидел Наполеон в 1812 году. Да и все герои Сенкевича жили именно в Плиссе или в ее соседстве.
После обеда она отправила нас на своей лошади за шесть верст в свой лесной участок. Лес оказался очень неважным, но тянулся по берегу озера редкой красоты. На противоположном берегу чернел казенный бор, составляя дивную раму. Вообще в Витебской губернии до двух тысяч озер, и многие из них очень красивы. Вот где место строить дачи, устраивать купания, но для этого надо было привлечь предпринимателей, капиталы, а прежде всего, сделать проездной дорогу в пять верст от станции Подсвилье. А пока это озеро в лесу представляло забытый Богом и людьми уголок, дичь, заросль, маленькую тайгу, и отделялось оно от имения Плиссы большим старообрядческим селом, резко выделявшимся на фоне обычных, мирных белорусских селений. Пьяный гомон, в праздник дикие крики, мальчишки, бежавшие за нашей таратайкой, все это напоминало Поволжье, а над всем этим – тусклое солнце, запах гари!
Вернувшись в Плиссу, мы даже не могли дать надежду на вторичный приезд, откланялись и вернулись в Зябки. Здесь Витя купил у Кехли, продававших свой инвентарь, парный рессорный экипаж, почти новую бричку за сто тридцать рублей «для будущего имения».
И мы вернулись в Минск с пустыми руками, конечно, к общему удовольствию, особенно же Фомича, который очень боялся лишиться нас, своих клиентов, но в то же время ему хотелось сидеть в Минске из-за ремонта своих двух домов. Эти дома стояли на Широкой улице, на горе почти за городом, по ту сторону Свислочи, а за ними был большой яблоневый сад, который теперь был в цвету. Почти ежедневно после обеда мы шли в этот сад, так как Фомич и жена его Мария Николаевна были очень радушные люди: настоящие Пульхерия Ивановна с Афанасием Ивановичем. Витя особенно привязался к старику и считал его нашим единственным оплотом. Почуяв влияние Фомича на нас, комиссионеры донимали уже не нас, а его, а остроумные рассказы его по этому поводу превратились для нас положительно в потребность. К тому же Минск опустел, многие разъехались по дачам и деревням. Сослуживцы уехали в командировки, и даже Урванцева, вернувшись из Козельщины, собралась к дочери в Москву. Она много рассказывала про свою поездку. Оленька служила панихиду с певчими о Владимире Ивановиче и Софии Михайловне и много плакала. Все в Козельщине еще было полно воспоминаниями о них! Монашки особенно ухаживали за Оленькой, зная ее близость к семье Капнист.
Из Козельщины Оленька проехала в Губаревку, куда 16 мая уже приехал Леля с Ольгой Владимировной и Сашенькой. Там весна была необычная. Двадцать два года никто не помнил подобных дождей, такую свежесть зелени, такие надежды на урожай: в конце мая рожь уже стояла стеной, а в Минске было сухо и жарко.
Сидеть мне в городе без определенного дела было невыносимо, и мы с Витей еще раз вырвались на волю: первого июня мы были в Борисове, где у Вити было дело у предводителя Попова. Мы остановились у Шидловских, занимавших большую чудесную дачу с большим балконом, за городом, по эту сторону Березины, и вид с этого балкона на город, стоявший на левом, невысоком берегу Березины, был очень красив. Константин Михайлович[168] был в отъезде, в Петербурге, где решительно хлопотал о переводе из Минска. Он потерял терпение! Татá, наоборот, жалела оставить начатое ею так удачно дело, хотя и сознавала щекотливость своего положения в Минске. Она давно звала нас к себе, чтобы съездить за тринадцать верст в Студенку, на место трехдневной несчастной переправы через Березину в ноябре 1812 года. Витю все отвлекали дела, а теперь не прибыли те наши спутники, которые уговорились с нами съездить в Студенку: учителя, хорошо знавшие местность и все окрестности, до Зембина включительно. Они хотели нам показать доисторические курганы, городища в окрестностях этого древнейшего поселения северо-западного края. Ехать без них не стоило, и мы сговорились вновь приехать в Борисов, когда они смогут предпринять эту поездку. К тому же они хотели нас познакомить с какими-то стариками в Студенке, отцы или деды которых много рассказывали о переправе Наполеона и о страшном опустошении тогда в Студенке, Борисове, а также показать целые коллекции блях, пуговиц и других металлических вещей, до сих пор вымываемых рекой. Что же касается самого города Борисова, сто раз сожженного дотла, в нем не было никаких достопримечательностей, кроме остатков французских батарей по взгорью правого берега, теперь заросших сосновым лесом. Но, конечно, мы улучили минуту посетить две-три церкви, расспросить священников. Один из них обещал прислать нам в музей очень древнее Евангелие и какие-то книги. После того и мы, и Татá обедали у Попова. Жена его была очень красивая и милая женщина, немедленно приехавшая на дачу, как только узнала от Вити о моем приезде и, надо сказать, угостила нас тогда чудным обедом. При нас Татá получила телеграмму от мужа из Петербурга, извещавшую о назначении его екатеринославским губернатором.
Закончив свои дела в Борисове, Витя вернулся в Минск, а я на обратном пути остановилась на станции Витгенштейн, чтобы заехать к моей милой попадье в Смолевичи недалеко, полторы версты от станции. Она очень уговаривала меня съездить с ней посмотреть небольшое имение Пикколини в двенадцати верстах от станции.
Смолевичи было ужасное еврейское местечко: куча деревянных, почерневших от времени домишек, ожидавших спички, чтобы вспыхнуть как костер, отсутствие всякой зелени. Совершенно сухие оголенные березы вдоль Екатерининского тракта, тянувшегося посередине местечка, кругом пустыри, болота, вырубленные леса. A когда-то это имение Константина Острожского в XVI веке, позже перешедшее к Радзивиллам, славилось своими лесами, смолокурнями, урожайными полями, пивными заводами и промышленностью. Смола, скипидар и английские брусья и до сих пор выделываются в Смолевичских лесах, но все это лишь остатки былого!
Переночевав у Родзяловских (супруг-священник показывал мне церковь, которую начинали строить под его наблюдением), рано утром мы с попадьей выехали в прекрасной коляске на лошадях Сутина, высланных нам лесничим Кулэ, кажется заинтересованным в продаже «Пикколини», имения Эйшицкого, еврея, сидевшего в тюрьме.
Дом оказался прелестным, вся обстановка, выписанная из Петербурга, видимо, стоила больших денег этому господину, женатому на русской крестьянке. Но все было опечатано, на каждом предмете висели печати. Я почувствовала страх соблазниться «внешностью»: двенадцать верст от железной дороги, станция Витгенштейн в одном часе езды от Минска, дом – маленький дворец, сад, попадья в соседстве такая хозяйственная и энергичная, обещает завести и руководить нашим птичьим и свиным хозяйством.
Но самого беглого обзора за два часа, проведенных в Пикколини, было достаточно, чтобы заметить, как тощи всходы, земля не унаваживалась, лес вырублен, живого инвентаря никакого, а, главное, какая-то странная путаница: напрасно уверяла попадья, что дочь Эйшицкого замужем за итальянским графом, снимет запрещения и устранит все препятствия кредиторов и пр. То же уверял и Кулэ, ожидавший нас в Смолевичах, но я побоялась, и не без основания, так как имение продавалось наследниками Эйшицкого за долги, а дом с обстановкой принадлежал ему, и при малейшей описке в купчей мы могли бы получить четыреста шестьдесят тысяч песчаной земли и вырубленного леса за пятьдесят семь тысяч, а дом оказался бы чужим, обстановка тем более. Я вернулась в Минск к Вите опять с пустыми руками, хотя чудная обстановка еще долго мне мерещилась. Но я воспользовалась знакомством с Кулэ, управлявшим сорока тысячами десятин леса, чтобы просить у него сосенок и елочек для Губаревки.
Леля обожал хвойные деревья и уже с весны готовил ямки для сосен на сухой открытой песчаной поляне в Новопольском лесу, а для елочек ямки в сыром Дарьяле. Любезный Кулэ ценой грошового на чай лесникам, которых у него было восемьдесят человек, обещал осенью выслать тысячу этих деревцев в Губаревку, да еще сосновых семян для посева в грунт и одну пачку сушеной земляники детям для чая.
Конечно, все подробности наших неудачных поездок я сообщила «своим» в Губаревку. Теперь Леля был покойнее за нас. Его успокаивала та нерешительность, которая так сердила Оленьку в Вите: «Хорошо, что вы действуете осмотрительно, все-таки не трудно сделать ошибку, покупая что-нибудь или вкладывая в какое-нибудь предприятие деньги. Не сердись, пожалуйста, за мое брюзжание и ворчание. Меня это живо затрагивает», – писал он еще в мае[169], а в июне он рассчитывал, что спас хоть одну из нас: «В особенности не соединяйся с Оленькой, – писал он мне. – Это будет источником постоянного для тебя мучения и беспокойства. Другое дело, если с покупкой имения соединяется приобретение ценза для получения места предводителя. Но и в таком случае лучше действовать отдельно. Ведь ценз не очень велик. Безусловно необходимо для твоего и Оленькиного спокойствия обратить ее деньги в %-е бумаги. Напиши, пожалуйста, возможно ли? Оленька нет-нет и возвращается сама к этой теме, решительно предпочитая теперь покойное получение своего небольшого, но верного дохода – другим перспективам».[170]
После провала Бенина и отъезда в Губаревку, Оленька действительно начала охладевать к нашей затее, а Леля к тому убеждал ее не рисковать: «Кузнецов напугал Лелю, – писала она, – что непременно все с землей прогорают, что более 6 % ровно никакое дело не даст, что винокуренный завод может стать, или явится конкуренция, или Иван Фомич умрет, или уйдет, или ремонт придется делать». Тот же Кузнецов при свидании с Лелей в Москве напугал его и закладными: очень опасно давать деньги под дома, владелец дома имеет векселя, о которых и не узнаешь, или он в будущем их наделает, так лучше купить бумаги на пять процентов. А опять и опять искать новых имений я уже право не сочувствую, т. к. вижу, как это сложно и трудно.
С этим пришлось помириться. Если мы еще и станем рисковать своими деньгами, то Оленьке, заплатив все проценты с 15 апреля, мы возвратим деньги, взяв на себя все убытки по размену, переводу и пр. Приходилось сознаться, что добыть земли мудрено. Прав был один польский помещик, когда говорил Вите: «Ничего вы здесь не найдете: за порядочное имение крепко держатся, а на рынке один хлам!» И мы забросили наши уроки географии. Уроки истории тоже стали: младший сын Снитко заболел, потребовалось его отвезти и с ним прожить часть лета в Крыму. И экспедиция в Туров была отложена. К тому же я была занята предстоящим отъездом Татá. Она сначала настаивала, чтобы я приняла все ее дела и приют на себя. Но я решительно отказалась. Тогда она передала их жене корпусного командира Новосильцевой, очень красивой и милой женщине. Их дом был редкий дом в Минске, где к Татá относились вполне благожелательно и ни в какие Минские дрязги не входили. Но Татá все-таки тесно связывала меня с приютом святой Ирины, о котором мы столько с ней хлопотали, и поручала его и мне. Так как Новосильцева морально была головой выше всех остальных минских дам, мне с ней было по душе.
Губаревские письма также меня радовали, хотя в каждом письме напоминалось, что надо скорее к ним приехать. В двадцатых числах июня гостил Борис Зузин со своей чрезвычайно симпатичной женой. После их отъезда Леля, принимавший в то лето живейшее участие вместе с детьми в уборке отличного сена (лето было великолепное), собрался 22 июня в Корбулак, к мордве. «Иначе, – писал он, – я не могу закончить своей книги, которая должна выйти осенью».
Поездка Лели была удачная: «Съездил очень хорошо в Корбулак. Пробыл там три дня в самой напряженной работе. Вернувшись в Губаревку, увидал, что фонограф испортился. Явилась мысль ехать в Саратов, и поехали вчетвером: Шунечка, Олечка, Альма Ивановна и я. Олечка очень радовалась возможности увидеть Саратов; мы показали ей Волгу, прокатили в Покровскую Слободу, затем обедали в Приволжском вокзале. Хозяйственные дела идут благополучно. Все время работаем с сеном. Теперь убираем могар[171] и т. д.».[172] Могар, так же, как и сераделла, были мной высланы ранней весной для искусственных лугов, приготовленных при мне осенью в Губаревке, и Леля радовал меня сообщая: «С радостью смотрю я на зеленеющие луга с посеянной травой. Это мы тебе обязаны».[173] Еще более радовали его яблоньки, присланные в апреле из Минска. Это были не обычные наши чахлые присадки, двухлетки, а яблоньки четырех-пяти лет с великолепной мочкой. С осени разбитый и распланированный сад на сто семьдесят яблонь уже принялся отлично, и Леля особенно радовался ему, т. к. сад занял большую площадь за его летним домом, с видом на него с террасы на гумно.
Но в то время, когда Леля работал в Корбулаке, в любимый мной с детства праздник Ивана Купалы мы с Витей, засидевшись в Минске, еще раз вырвались из него. Купить что-либо дорогое мы не могли уже рассчитывать, решив вернуть Оленьке ее деньги, но мы хотели еще попытаться так обернуться, чтобы покрыть наши уже значительные расходы, лишавшие нас лично до двух тысяч рублей (размен денег, проценты Оленьки, разъезды и пр.), словом, отыграться и вернуться к первобытному состоянию (!). Комиссионеры перестали даже заходить к Гринкевичу, который был поглощен окраской своих домов в какой-то дикий кирпичный цвет. Но вдруг выручил нас Мышалов, торговец шляп на Губернаторской улице, у которого Витя утром заказывал летнюю фуражку и жаловался, что не может найти себе имение. Через час Мышалов уже привел с собой поверенного графа Платера, и оба стали уговаривать купить имение Альт-Лейцен, бывшее графа Платера, за Двинском: «Совсем недалеко! Но что за имение! Такого имения во всей Минской губернии не сыскать! – в два голоса упрашивали они. – Даже не купить, а взглянуть на него стоит!» Кончилось тем, что Витя взял недельную отлучку, и мы выехали в Альт-Лейцен. А вдруг там, в Курляндии, мы и найдем что-либо подходящее?!
Мы прибыли в Двинск ночью. Утром были в Штоксмонгофе, Рига-Орловской железной дороги. Оттуда по узкоколейке потащились на станцию Мариенбург, где нас ожидала коляска четвериков, высланная поверенным графа Платера, прибывшим раньше нас в Альт-Лейцен. Дорогой нас поразило, что всего в нескольких часах от Двинска мы точно попали за границу: начиная с уютной, обвитой витисом Штоксмонгофской станции, где нас угощала кофеем настоящая немка, тянулись живые изгороди по обе стороны пути; прекрасно обработанные поля, а от станции шло чудесное шоссе, обсаженное старинными деревьями, попадались фермы с черепичными крышами, каменные риги. Словом, Курляндия, культура! Значит, не почва, не климат виноваты, когда тут же в Белоруссии начинается дичь, бездорожье, безлюдье, болота в кочках, пустыри и обглоданные леса!!! Никогда не было мне так больно, обидно и жалко свою Русь, как в это утро!
Осмотрели мы Альт-Лейцен как следует. Целый день проездили по лесу. Чудный, нетронутый лес! Какие сосны, какие ели! Что за воздух в этом лесу! Какие озера, фольварки, заводы скипидарные, лесопильные, сыроварни! Дом деревянный, низкий, но очень большой, хотя и разоренный, совсем без мебели. Когда-то здесь кипела жизнь, здесь выращивались поколения Майендорфов. Да, здесь можно было поселиться и хозяйничать, как хозяйничали здесь много лет, пока граф Платер, сам отличный хозяин, не сделал владельцем имения какого-то хищника Кана, который успел уже на все наложить свою руку. Мы это поняли из слов священника русской церкви у самого шоссе из Пскова на Верро и взглянув на ужасный лесорубочный контракт, по которому большая часть этих лесов сводилась на нет. Когда же я, хотя и самым поверхностным образом, просмотрела приходо-расходные книги, чтобы понять, что это за двадцать тысяч чистого годового дохода, о которых толковал нам поверенный, мы поняли, что никакого чистого дохода в Альт-Лейцене нет! Я нарочно обратила на это внимание поверенного. Он рассмеялся:
– Да если бы имение давало двадцать тысяч, разве граф Платер продавал бы его?
– А сколько же оно дает теперь?
Определенного ответа не последовало. Но в противовес Губаревским дождям июньская засуха уже погубила хлеба и травы. Предстояло даже покупать рожь для прокормления скота и работников-латышей. Последние праздновали этот день Ивана Купалы, пришли к нам под окна в венках цветов и пели дикими голосами на непонятном говоре. Мы дали им на чай, случайные господа в этом заброшенном доме.
Когда на другой день мы покинули Альт-Лейцен, мы, по крайней мере, уносили впечатление о чем-то красивом и могучем! Здесь можно было работать; здесь дышало сытостью, несмотря на грозящую засуху. Быть может, и напрасно мы не остановились на этом имении, испугавшись лесорубочных контрактов. Витя мог бы перевестись служить в Курляндию. Ехали мы обратно по шоссе на Мариенбург, через местечко, прекрасно расположенное на берегу великолепного озера. Это была родина той Екатерины, память о которой в эти самые дни так торжественно праздновалась в Полтаве. Мы остановили лошадей, вышли с Витей из коляски и осмотрели старинную кирку, пастор которой тогда приютил Екатерину.
Удивительно красивое местечко! Оно буквально утопало в зелени, каменные опрятные домики до самых крыш были обвиты гирляндами зелени и цветов. Вернувшись в Двинск, мы повернули на Полоцк, куда и прибыли в пять часов утра после совершенно бессонной ночи в душном вагоне. Тихо, безлюдно было на улицах древней столицы Полоцкой земли!
Мы не расставались с «Россией» Семенова, когда ездили в поисках за землей, и называли его коротко «Спутником», и теперь в шесть часов утра, за чаем у открытого окна небольшой гостиницы, скорее, постоялого двора, я громко читала Вите описание Полоцка и его историю. Затем мы осмотрели его неважные достопримечательности и направились домой, в Минск, по Полоцкой дороге на Молодечно. Но на полпути вышли на станции Полсвилие, чтобы заехать в Куровичи, имение, о котором Витя переписывался с минским помещиком Григоровичем, опекуном малолетних Глинских, владельцев Куровичей Лепельского уезда: тысяча семьсот десятин, цена девяносто пять тысяч, несколько фольварков, имение очень удобное для «порцеляции». Нам нужно было усадьбу с небольшим хозяйством, но с возможностью отпродать лишнюю землю, поэтому, взяв лошадку на станции Подсвилие, мы потащились по ужасной дороге за шесть верст в усадьбу Куровичей. Боже! Что за ужасное впечатление! Когда-то, по-видимому, это была богатая усадьба польских помещиков Глинских. Но они разорились. Глинский проигрался в карты и убил у себя в доме того, кто его разорил. Несчастный убийца теперь скитался в Петербурге, чуть ли не по ночлежкам, а управляющий, заменивший владельца, вконец разорил имение и сжег дом, чтобы скрыть отчеты и документы. На очень высоком обрыве, над гладким зеркальным озером стояли массивные, кирпичные колонны сгоревшего дома. По склону горы за домом к озеру спускался запущенный сад, в котором белели в большом количестве кости лошадей. Нам сказали, что варвар-управляющий Ясневич самолично их стрелял здесь. Сколько ужасов было пережито в этой усадьбе! Не только поселиться, даже переночевать в ней, в небольшом флигеле, мы бы не решились!
И вот опять мы вернулись в «Гарни»! Альт-Лейцен все-таки было чудесное имение! За него просили двести тысяч, с комбинациями, но страшный лесорубочный контракт вязал руки. Неутешен был Мышалов: он давал нам хорошее имение, по совести, потому что в его интересах было привлечь внимание публики к своему шляпному магазину. «При удачной покупке нами Альт-Лейцена, конечно, губернатор, Урванцев и другие высокие господа стали бы покупать шляпы исключительно у него!» – говорил он, печально качая головой.



