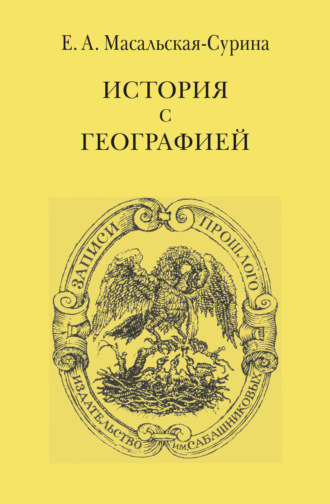
Евгения Масальская-Сурина
История с географией
Часть I. Минск
Глава 1. Октябрь 1908. Перевод в Минск
Осень… Губаревка пустела. Сперва уехал в Петербург Леля[65], в начале сентября, вскоре затем Наташа, забрав своих «душечек» (как называла Тетя-бабушка своих внучек), забрав гувернантку, бонну и свой штат прислуги; сестра Оленька с приятельницей своей старушкой Ольгой Александровной Лидерт уехала в Петербург позже, в десятых числах октября. И нам с мужем пора было уезжать в Минск на службу: месячный отпуск Вити кончался 14 октября, но мне пришлось отпустить его одного, предстояло дожидаться Тетушку[66], у которой все еще не были закончены ее «душевные дела», связанные с ее школами. Я дожидалась ее, потому что она решила зимовать у нас в Минске, а Оленька обещала к нам приехать не раньше как через месяц. Тетушке было теперь под семьдесят лет и, хотя все еще бодрая духом, она начинала сдавать физически, отпускать ее в далекую и непривычную дорогу не хотелось. Но, кроме того, мне предстояло завершить последний акт нашей земельной ликвидации, а наша последняя купчая на Липяги была назначена на конец октября.
За эти три года, начиная с 1905 года, мы продали всю нашу землю. Хозяйничать становилось все труднее. В Саратовском уезде стоял опять период засух и неурожая. Крестьяне совсем не платили аренды, а банк собирал проценты все так же усердно; пени росли с неимоверной быстротой; приходилось занимать деньги и еще на них платить проценты, чтобы не лишиться последнего достояния на торгах Дворянского банка[67] – так, в последние годы, уходила вся помещичья земля, и не в одной Саратовской губернии! Быстро, на нет, сходила вся дворянская Русь.
С помощью Крестьянского банка[68] все земли переходили крестьянам, усадьбы пустели или продавались с молотка. Особенно успешно работал Крестьянский банк после Гессенских иллюминаций[69] лета 1909 года, когда масса усадеб была разорена, сожжена со всеми постройками и ценным инвентарем: не щадили ни племенной скот, ни заводских коней – им вырезали языки, им выпускали кишки! Фруктовые сады и парки вырубались дотла и то, что бы при мирной ликвидации осталось бы тому же народу, во имя которого все это делалось, было сметено с лица земли.
Были не только сожжены, но взорваны минами каменные дворцы, пущены по ветру ценные библиотеки, картинные галереи, произведения искусства, рукописные памятники прошлого… Невозвратимые потери… Немало в этих разоряемых имениях было погублено школ, яслей, больничек и богаделен. Не жалели выгоняемых из своих родных усадеб разоренных людей, но какой смысл руководил и направлял это варварское истребление, это уничтожение культуры, насажденной десятками поколений? И кто жалел это? Кто принимал разумные меры к тому, чтобы погасить этот страшный пожар, гулявший по России? Ведь, если не знали, то кто же не слыхал о таких светочах культуры, как Зубриловка князей Голицыных в Балашовском уезде на Хопре; Надеждино князей Куракиных в Сердобском уезде, Елань Устиновых; имений Воронцовых-Дашковых; Пады Нарышкиных и целый ряд имений, известных всей России, в других губерниях: князей Кочубеев в Полтавской губернии, Юсуповых в Воронежской губернии, Мусиных-Пушкиных в Черниговской губернии, Орловых-Давыдовых, Гагариных и пр., и пр.! Целые уезды были разгромлены, особенно Волчанский и Верхне-Днепровский.[70] Не пощадили и Погорельцы Перовских, хранилище не барских затей, а таких памятников старины, с которыми тесно связаны воспоминания о выдающихся людях нашей родины (графа Алексея Толстого, Жемчужникова и др.), то, чем гордятся в других государствах и что берегут, как зеницу ока.
Как реагировало «начальство», прокуратура? Были ли приняты предупредительные разумные меры? Пострадала тогда и Тамбовская, и Рязанская губернии, и наши тетушки «из племени Бистром». Богатое Солнцево Ивановых было разгромлено и тетю Любу[71] преданные люди вовремя увезли ночью в карете и отправили с нянюшкой в Москву. Наталья Антоновна, Любощинские, Мацкевы не сдавались, защищали свое достояние, но ненадолго. Кто им пришел на помощь? И гибли так сотни, если не тысячи имений, больших и малых, богатых, дававших заработок сотням окрестных крестьян и рабочим, и бедных, еле прокармливающих своих владельцев.
Много было пережито черных страниц в истории России. На нет сводили ее культуру восточные кочевники, Мамай, Тамерлан. Но самоубийство великого народа в припадке белой горячки являлось таким потрясающим зрелищем, еще не виданным ни в мировой истории, ни в истории революций, что корни этой патологической болезни, вероятно, пришлось бы искать в глубине веков.
Забыть эти картины буйного помешательства нельзя! Можно только, и то не всегда, усилием воли их не вспоминать!
Мы тогда случайно остались в стороне от погромной волны. Население было совершенно покойно, и только газеты да нелепые слухи волновали его: еще не прибыли агитаторы, занятые разореньем богатых имений Катковой (князей Щербатовых) по Волге и Елшанке. Была только в конце октября une fausse alarme[72]: будто орда дикой мордвы, тронувшись значительно севернее нас, лавиной двигалась к нам. Но немцы в колониях (в Скатовке и Ягодной Поляне в сорока верстах от нас) выставили против них до тысячи человек и перегородили им дорогу. Погромщики повернули в Аткарский уезд, где снесли с лица земли тридцать пять имений. Я была в ожидании ребенка, и, хотя это событие ожидалось не раньше Рождества, Леля умолял нас переехать к нему в Академию[73], волнуясь за переживаемые впечатления, которые могли отразиться на ребенке. Но оставить Витю одного в Губаревке в такое тревожное время являлось новой трагедией! Только после тревоги из-за мордовской орды, по настоянию самого Вити, я переехала с Тетей и Оленькой в Саратов, куда постоянно наезжал Витя. Но в Саратове начался бунт, еврейский погром. Кровь… Огонь…
Только наконец прискакавший Столыпин[74][75] положил конец безобразию, успокоил население, приняв энергичные меры, проявляя распорядительность и личную смелость. До тех пор полиция и войска, «защищавшие народ от погромщиков», дружно, вместе с последними выпускали пух из подушек и делали облавы на перепуганных торговок, грабя ларьки и мелкие лавчонки. Не так защищал он свою губернию, когда еще до 1905 года начались болезненные проявления грядущего бедствия! И когда в 1907[76] году Столыпин был назначен Министром Внутренних Дел, задетый этим N. N. желчно съязвил: «Ну, и поздравляю! Допустил он сжечь и разорить всю Саратовскую губернию, также допустит он разорить и всю Россию».
Леля продолжал нас усиленно звать, «ради ребенка» (одного я уже потеряла). В ноябре мы переехали в Петербург. Витя остался один. Боже мой, как ужасно было, проезжая Кирсановским уездом, видеть ночью зарева пожаров в окна по обе стороны вагона!
В Петербурге Тетя с Оленькой устроились в квартире вместе с кузиной Граве[77]. Леля с Наташей перетащили меня к себе, в Академию, окружив меня заботами и вниманием. Но и в Петербурге ноябрь 1905 г. был ужасен! А главное, Всероссийская забастовка железной дороги, почты и телеграфа разъединили меня с Витей, остававшимся на своем посту земского начальника в Губаревке! Это удваивало мою тревогу и терзанья.
Как было пережито это время, один Бог ведает! Вдруг, в начале декабря, Министерство внутренних дел перевело Витю в Минск членом губернского присутствия! Перевод этот был совершенно неожидан и даже нежелателен. Произошел он, вероятно, не без ведома тетушки А. П. Козен, которой вовсе не нравилась должность Вити d’un zemski natchalnik. Она отрицала это, может быть, и позабыв свои беседы с Е. Г.[78] Но факт был налицо. Назначение было пропечатано в Правительственном Вестнике. В. М. Пуришкевич[79] прочел об этом и прислал жену спросить меня, известно ли это мне? Конечно, нет! Я была поражена. Телеграф еще не действовал, но обещали скоро восстановить сообщение.
Разновременно было послано Вите три телеграммы: о назначении его в Минск, о рождении у него сына и о кончине ребенка[80]. Эти три телеграммы были получены Витей одновременно в Сочельник, и с первым поездом он прилетел, огорченный нашей горестной утратой и возмущенный назначением в Минск без его спроса. Он приехал отказываться. После всего пережитого не только за последние месяцы, но и на протяжении всего этого несчастного 1905 года мне было все равно. И я предоставила Вите одному решать этот вопрос. Он бурчал, негодовал, подозревал всех тетенек в мире в кознях против него и решительно упирался с переездом в Минск, ссылаясь на необходимость закончить продовольственную компанию в своем участке.
Тем временем и минская администрация встретила назначение Вити из Петербурга с не меньшим возмущением. Губернатор Курлов[81] протестовал, настаивал на своем кандидате, заместителе начальника Минской губернии Глинке. Министерство не уступало и дважды напоминало Вите о необходимости поторопиться в Минск. Но Витя только в марте «согласился» съездить в Минск, и то условно, посмотреть, что его там ожидает. К счастью, в минском губернском присутствии открылась вторая вакансия, что бывает обычно очень редко. Глинка был удовлетворен, и Курлов примирился. Покорился и Витя, побывав в Минске. Его назначение было очень лестное. Непременный член считался третьим лицом в губернии. В начале апреля мы оба переехали в Минск, заняв два больших номера в лучшей гостинице на Захарьевской – отеле «Гарни» польского помещика Ленского. Мы не пытались даже устраиваться с квартирой, как товарищи Вити по службе Глинка и Щепотьев, мы боялись пускать корни в Минске и хотели быть готовыми в любое время вернуться в Саратов. Друзья Вити в Саратове так уверенно это обещали! Кропотов и Юматов, занимая ту же должность в Саратове, со дня на день ожидали повышения вице-губернатора, и тогда Витя непременно заранее будет предупрежден! И мы непременно тогда вернемся в Саратов! Но прошел год, два и три. Ожидаемой перемены не было, а мы все также ожидали ее в том же отеле «Гарни»!
Но после пятнадцати лет тревожной, тяжелой и ответственной службы земского начальника Витя теперь уж не мог не оценить своего нового положения: сравнительное благосостояние, кабинетные занятия (Витя заведовал судебным отделом губернского присутствия), давно не испытанное спокойствие и безопасность.
В темные осенние ночи просто не верилось, что можно еще жить так покойно, ложиться спать, не опасаясь поджогов, нападений в крепких стенах «Гарни» со швейцаром и полицейскими на Захарьевской. Мы жили впервые для себя и друг для друга без душевного разрывания за окружающее; напротив, мы жили в большом, очень дружном и симпатичном обществе, которое встретило нас очень радушно. Отвыкшие в последние годы от общественной жизни, теперь мы с Витей почти ежедневно бывали приглашены на обеды, вечера и, со своей стороны, несмотря на жизнь в отеле, сумели устраивать в ответ и у себя, хотя и скромно, несколько обедов и вечеров. Казалось, нас прибило к какой-то счастливой пристани, где все за что-то нас полюбили и незаслуженно ласкали. Одно отравляло эту счастливую жизнь: разлука с семьей и Губаревкой. Это постоянно терзало и томило меня! Зимой, когда я знала Губаревку под снегом, а семью мою в Петербурге, я была покойна. Но, как только солнышко светило по-весеннему, поднималась тревога: как справятся с посевом, зацвел ли сад? Что жеребята? Всеми фибрами связанная с хозяйством в Губаревке, я следила шаг за шагом за ним путем переписки с преданной Ольгой Тимофеевной, Гагуриным Васей и др.
Но с моим отъездом в Минск и Леле предстояло позаботиться о Губаревке. Как было взваливать на него столь привычные мне заботы о хозяйстве? Ведь он приезжал отдохнуть на два-три летних месяца с семьей и все-таки усиленно тогда работал над своими научными трудами, забираясь с шести часов утра на вышку бельведера. Где же ему было доглядеть за полевыми работами? Свеча горела бы с двух концов. Поэтому все три лета подряд я спешила из Минска в Губаревку, где Тетя с Оленькой тосковали в разлуке с нами. Витя, отпуская меня, и сам вырывался в Губаревку в отпуск, но все это было нелегко! Одного месяца для хозяйства было мало. Когда же Витя оставался в Минске, он страшно тосковал. Тогда сердце разрывалось и за него. С Лелей была семья, a Витя был один! Езды двое суток, не наездишься. В последнее лето 1908 года я провела в Губаревке четыре месяца. Витя приезжал тогда в Губаревку из Минска два раза, его второй отпуск кончался четырнадцатого октября, но подобные отлучки не были терпимы на службе и уже вызывали ропот сослуживцев.
Леля не мог не принять к сердцу все эти вопросы, которые я не умела решать сама. «Я был бы спокоен за Губаревку, – писал он, – а главное и, конечно, прежде всего, лето не было бы отравлено разлукой».[82] В этом-то и была вся беда. Леля совсем не мог жить без семьи. О том говорили все его письма к родителям в детстве и молодости, а теперь он писал то же Шунечке[83] в их редкие и краткие разлуки. Но теперь, счастливый семьянин, хотя он допускал разлуку с нами и по целым зимам, но летом мы все же должны были собираться в Губаревке. Каждое лето, без исключения, мы проводили все вместе в Губаревке. Не удивительно, что мы с ней так сжились, что другого места летом и представить себе не могли. Да и была же она так хороша с ее дивным дубовым парком, яблоневыми садами и холодными ключами, бившими в глубоком овраге прямо из земли семьюдесятью родниками.
Постройки, воздвигнутые дедушкой, не были дворцами, но были еще крепкие, каменные. Мы любили их, и сады, и парк, занимавший до семидесяти десятин, потому что, кроме красоты природы, в них впервые было пережито все то, чем стоит помянуть жизнь и благодарить за нее! Приютившись в глубокой долине, у подножья лесного кряжа гор, Губаревка и окрестности ее, называемые саратовской Швейцарией, не могли не будить восторга своей красотой. За нами теперь поднимались «душечки», дети Лели, и они уже, эти три девочки, начинали слагать стихи, воспевавшие летнее утро, вечернюю зарю, лунную ночь, впервые поразившие их своей красотой в Губаревке, где они проводили лето всегда с самого раннего детства. А кто бывал в Губаревке и любил ее, тот поневоле узнавал тоску о ней, что немцы называют Heimweh, а французы mal du pays, то, что никакими клещами не вырвешь из сердца человеческого, потому что никакая красота чужих стран не заменит родины, не географически раскинутой на сотни верст родины, а того клочка земли, где красота природы тесно связана с переживаниями детства и юности.
И вот переезд в Минск грозил мне этой болезнью. Долго боролась я с ней, вырываясь летом из Минска, но как быть дальше, как согласовывать службу Вити, когда он более не был земским начальником в Губаревке, с хозяйством и жизнью в Губаревке, неразлучно со своей дорогой семьей? Голос благоразумия говорил мне, что нельзя же службу Вити принести в жертву моим фантазиям, что Витя, хотя и глубоко привязан к нашей семье, но он любит самостоятельность и независимость. Благодаря деликатности Лели и Наташи, у нас не было никаких трений в совместной жизни, но Витю подчас тяготил тот однообразный строгий режим, который держался в Губаревке. Леля с Наташей приезжали летом отдыхать от городской суеты, а Витя был живой, общительный и не знал усталости. Он не был большой любитель деревенской жизни и сельского хозяйства, проводить теперь лето в Губаревке без службы на отдыхе было не в его характере.
Тот же голос благоразумно подсказывал, что Витя все реже и короче будет приезжать в Губаревку «в гости», и поэтому реже и меня отпускать, если я не создам ему независимый, собственный угол. Наличие трех домов в усадьбе позволяло нашим семьям жить, не стесняя друг друга, но так как по семейному разделу Губаревка была присуждена Леле, то считать себя хозяином в усадьбе, распоряжаться в ней Витя, конечно, не мог. Мы с сестрой рассчитывали зимой получить ссуду за проданные Липяги, и мне уже приходило в голову купить какую-нибудь усадьбу, только усадьбу поблизости от Губаревки. Мы пробовали поговорить с ближайшими соседями Розенберг в Вязовке, Минхи в Полчаниновке, даже с Трироговыми в Аряши. Но никто не хотел расставаться со своими усадьбами. Впрочем, все это лишь trompe-faim[84], утешала я себя, ничто не заменит мне Губаревки!
И когда в эту долгую теплую осень я особенно хлопотала о разбивке молодого фруктового сада за домом Лели, на бывшем гумнище, о взмете плугом под весенний посев луговых трав, о ремонте конюшни для дома выращенных жеребят, я особенно чувствовала тоску из-за разлуки со всем этим. Мы с сестрой, понимавшей меня, стали фантазировать: почему бы Леле не согласиться получить двенадцать-пятнадцать тысяч из ожидаемой Липяговской ссуды за право считать Губаревку нашей? Ведь это ни на йоту не изменит их дачной жизни, то есть отдыха на лоне природы? У них с Наташей три дочки. Могут появиться три зятя. Ну как они разделят Губаревку? Неужто разделят на кусочки? Не лучше ли ему будет выделять их деньгами? И тогда эти двенадцать-пятнадцать тысяч, в придачу к его капиталу, не испортят дела, а Губаревка останется неделимой и достанется той из них, кого мы с сестрой сочтем наиболее способной любить и холить Губаревку, если и у нас с Витей не будет ребенка в меня, а не в Витю, который всегда предпочел бы выдел деньгами. Но Губаревка должна быть неделимой и неотчуждаемой, как маленький майорат, имение семьи, а не отдельного члена семьи. Леля, получив этот фантастический проект, взволновался. Нет, Губаревка была и ему дорога! Он не хочет к ней относиться, как дачник. Но он был бы счастлив, если бы мы с Оленькой считали себя совладельцами в Губаревке или же взяли ее в долгосрочную аренду. Об этом уже было много разговоров летом. Губаревский климат мало располагал к арендаторской деятельности, а совладенье не решало вопроса. «Не понимает Леля своей пользы, так же, как и я, своего убытка», – говорили мы с сестрой. Отдавая более половины своей ссуды, я лишалась добровольно капитала, который сможет нас с Витей поддержать на жизненном пути… за призрачное право, так как служба Вити все же не позволит мне жить безвыездно в Губаревке, а превратить Витю в фермера немыслимо.
«Я предлагаю такой порядок, – писал Леля, не внимая моим словам, – при котором мы все будем чувствовать себя в Губаревке, как у себя, как, впрочем, мы чувствовали бы себя в чужом имении, при чужом правлении. Для этого я и хочу сделать вас совладельцами Губаревки, а тебе вручить ведение нашего общего дела. Мое предложение ничуть не меняет против того, что было раньше, когда ты хозяйничала в Губаревке. Напротив, оно точнее определяет сложившиеся отношения. Кто помешает тебе работать и заводить что-нибудь в общем нашем имении? Всячески желал бы сохранить тебя для общего нашего дела и удержать тебя от покупки другого имения. Ты, кажется, упускаешь из внимания твои прошлые страданья от безденежья и готова зарыть все деньги опять в землю. Я готов для отвращенья этого поступиться и своими интересами. Но обсудим это дело всесторонне при свидании, а пока оставим вопрос совсем открытым».[85]
Я очень жалела, что подняла этот вопрос с Лелей, да еще путем переписки. Лелю взволновала не так моя просьба, которую он рассчитывал удовлетворить «совладением», а то, будто я огорчусь, получив отказ в ней, будто я рассержусь. Но я нисколько этому не огорчалась, чувствуя несостоятельность этого проекта. Витя одобрял его, потому что не терял надежду скоро-скоро получить перевод в Саратов, и даже не входил в рассужденья об условиях этого приобретения. Оленька горячо настаивала, потому что ей мерещились будущие зятья Лели, которые будто заставят ее на старость лет (она была уверена, что переживет всех нас), «скитаться», покинуть Губаревку, проводить лето по городам. Тетя мечтала о только том, чтобы скорее, вырвав нас из Минска, вернуть в Губаревку. Но мне было достаточно слов Лели, что он любит Губаревку, что он считает ее достоянием своих детей, что его огорчило бы отказаться от нее, чтобы отбить у меня желание фантазировать в этом направлении. «Нами с тобой руководит не эгоизм, а лишь любовь к Губаревке и к нашим семьям, – писала я ему в ответ, – поэтому все образуется к лучшему, и ради Бога, не думай, что я сержусь! Как могу я сердиться на тебя за то, что ты любишь Губаревку так же, как и я. Напротив, счастлива этому и надеюсь, что ты сумеешь в твоих дочках зародить такие же чувства к ней. А пока мы с Витей все еще связаны его службой, а мое дело – и о нем заботиться, о его вкусах, он у меня не любитель сельского хозяйства».



