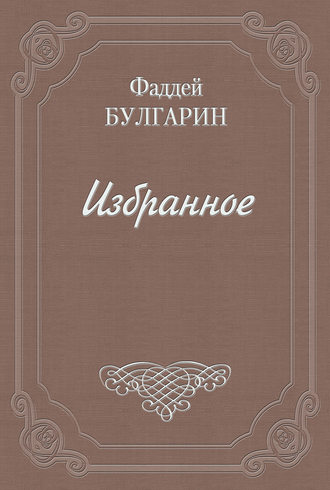
Фаддей Булгарин
Иван Иванович Выжигин
ГЛАВА XVII
РЕШЕНИЕ СТАРЕЙШИН КИРГИЗСКИХ ОТНОСИТЕЛЬНО МОЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА МИЛОВИДИНА
ДУЭЛЬ. БЕГСТВО. ЖИД-РЕНЕГАТ. ПРИБЫТИЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ
ЧТО ТАКОЕ ПЕРА? ИЗМЕНА. РАБСТВО. ОСВОБОЖДЕНИЕ
– Любезный Иван! – сказал мне Арсалан-султан. – Мы в совете старейшин решили твою участь. Я знаю, что ты томишься грустью по отечестве и если останешься между нами, то только из любви ко мне. Поезжай с Богом, Иван! Вот что постановлено нами, в рассуждении тебя.
Арсалан вынул из-за пазухи лоскуток бумаги, который был завернут в несколько платков, как величайшая редкость, и прочел следующее:
"1) Пленник непобедимого, вольного и знаменитого Киргизского народа, Иван Выжигин, освобождается за оказанные им великие услуги превосходному племени Баганалы-Кипчакскому и за спасение драгоценной жизни Арсалан-султана.
2) Вольный Иван Выжигин объявлен сыном благородного и лучшего поколения Баганалы-Кипчакского. Когда б он, Иван Выжигин, прозрев очами мудрости, вздумал возвратиться в благословенную и лучшую под солнцем страну, степь Киргизскую, тогда каждый отец семейства должен принять его в своей юрте как родного сына, каждый воин Киргизский, как своего брата, а каждая девица Киргизская, как жениха или мужа, по воле Ивана Выжигина.
3) Целое превосходное племя Баганалы-Кипчакское обязано кормить, одевать Ивана Выжигина и отапливать его юрту, пока он не будет иметь взрослых детей или сам добровольно не откажется от предоставленного ему права.
4) Всю добычу Ивана Выжигина, равно как лошадей его и верблюдов, старшины берутся продать при первом случае в Оренбурге или в пограничных Русских укреплениях и деньги отослать к нему, куда он прикажет. Между тем на дорогу собраны ему тысяча червонных и дано двенадцать кип лучших товаров, которые и отдадутся ему немедленно.
5) Иван Выжигин имеет право вывезть с собою из степи своих Русских невольников и получает проводников и военное прикрытие до самой границы".
– Доволен ли ты нашим постановлением? – сказал Арсалан. Вместо ответа я бросился ему на шею и залился слезами. При одном воспоминании об отечестве, о России, все мое тщеславие исчезло как дым, и я решился немедленно отправиться.
– Когда же ты хочешь нас оставить? – спросил Арсалан.
– Завтра же, – отвечал я, потупив глаза, как будто стыдясь своей неблагодарности.
– Итак, я займусь приготовлением всего нужного к твоему отъезду, – сказал Арсалан и тотчас подозвал к себе несколько старшин. Чтоб не мешать им советоваться, я удалился в свою юрту.
Когда я объявил Миловидину, что мы завтра же отправляемся в Россию, то он едва не лишился ума от радости: он плакал, смеялся, прыгал, пел и, наконец, успокоившись, поблагодарил Бога со слезами за свое избавление и называл меня своим благодетелем.
– Выжигин! – сказал Миловидин, прижимая меня к груди своей. – Ты возвратил мне отечество и свободу; но это сердце всегда будет твоею собственностью. Я твой навеки!..
Отставной солдат не менее обрадовался, что избавится от нехристей, и просил меня, чтоб я оставил его у себя в услужении, потому что у него на святой Руси нет ни кола ни двора.
Позавтракав жаренною на угольях бараниною и запив брагою, я просил Миловидина кончить свой рассказ.
– Однажды, – продолжал Миловидин, – когда я вышел из дому в сопровождении служителя, чтоб прогуляться в гондоле по взморью, мальчик отдал мне записку и скрылся. Я думал, что это любовное письмо, и спешил прочесть. Но на этот раз обманулся в своей надежде. Записка писана была по-русски и заключала в себе следующее: "Если в тебе сохранилась хоть капля русской дворянской крови и если честь твоя не совершенно померкла на поприще разврата, то явись завтра в 12 часов утра на твердой земле, в трактир Солнца, на берегу Бренты, с парою пистолетов, не объявляя никому о сем в доме. Ты узнаешь меня на месте, где один из нас должен погибнуть".
Не постигая, от кого мог быть этот вызов, я, однако ж, решился явиться в назначенный час и пошел тотчас к одному приятелю моему, англичанину, просить его в секунданты. Переехав в гондоле на площадь Св. Марка, я вошел в кофейный дом, под аркады, надеясь там найти моего приятеля, и у дверей получил другое письмо на французском языке, следующего содержания: "Один из нас должен погибнуть, чтоб другой был счастлив. Завтра в 3 часа пополудни ожидаю вас со шпагою, на твердой земле, в трактире Сирена, на берегу Бренты. Мы люди знакомые, и я не имею нужды подписывать своего имени, потому что при свидании вы узнаете, с кем имеете дело".
Две дуэли в один день, не шутка! Невзирая на то, что умею владеть шпагою и что я почитался в полку одним из искуснейших стрелков, я не мог, однако ж, преодолеть в себе смущения, получив вдруг два вызова. Как ни рассуждай, а весьма неприятно быть убитым или убийцею! Я догадывался, что волокитство мое вовлекло меня в это неприятное положение, но никак не мог проникнуть, какой случай вооружил против меня неизвестного мне земляка. Англичанин не только согласился быть секундантом, но и обрадовался, что будет свидетелем двух смертоубийств. Он признался мне, что национальная болезнь, сплин, уже начала мучить его и что он для того только предпринял путешествие по Европе, чтоб иметь более случаев познакомиться со смертью и возненавидеть жизнь.
Я провел целый день с англичанином. Он старался утопить в вине свой сплин, а я хотел залить мое горе. Мы возвратились домой очень поздно. На другое утро я побежал с оружием к англичанину, и мы отправились тотчас на место свидания, чтоб иметь время позавтракать перед смертью.
Около 12 часов утра мы вышли на большую дорогу, ожидая нашего противника. Один итальянец, приятной наружности, подошел к нам и спросил, который из нас называется Миловидиным. После того он предложил нам прогуляться в парке, где ожидал меня противник. В конце рощи нашел я моего земляка, который прохаживался скорыми шагами, по небольшому лугу. Я подошел к нему и, приподняв шляпу, сказал:
– Милостивый государь! я не имею чести знать вас, и следовательно, не мог вас обидеть умышленно. Мне кажется, что было бы весьма благоразумно, если б мы прежде объяснились.
– Это вовсе не нужно, – отвечал мне земляк. – Обида, нанесенная мне вами, такого рода, что ее ничем нельзя загладить. До моего имени вам также нет нужды. Довольно того, что я русский дворянин, офицер и прибыл сюда нарочно для того только, чтоб драться с вами. Извольте становиться на позицию и стреляйте. Но помните, если вы захотите играть роль великодушного, то будете самоубийцею. Условие дуэли такое: секунданты наши должны отмерить пятнадцать шагов и мы по данному знаку вольны или тотчас стрелять в одно время с черты, или один из нас, дав выстрелить противнику, может подойти на один шаг и выстрелить в него, приставив пистолет ко лбу.
– Это не дуэль, а убийство! – воскликнул я.
– Что, неужели ты уже струсил, развратник! – сказал мой противник грозно. – Но если ты думаешь избегнуть наказания трусостью, то я тебе тотчас раздроблю голову! – Он, как бешеный, бросился на меня с пистолетом, и если б англичанин не успел схватить его за руку, то он, верно бы, в меня выстрелил. Кровь во мне закипела.
– Я покажу мою трусость! – воскликнул я и тотчас стал на черте.
Подали знак, я прицелился, спустил курок и – противник мой упал, облившись кровью, не успев выстрелить. Я бросился, чтоб помочь ему, узнать его имя и причину его ненависти ко мне. Но он грозно возопил, чтоб я удалился и не осквернял своим присутствием последних минут его жизни. Секундант его не хотел также отвечать на мои вопросы и просил нас удалиться. Мы с англичанином возвратились в трактир, изумленные сим непонятным происшествием, и решились дожидаться срока другой дуэли, не возвращаясь в город.
Около условленного времени мы поехали к другому трактиру, где нашли также секунданта. Он ввел меня в комнату, где, к величайшему моему удивлению, застал я графа Сенсибили.
– Ваши уроки русского языка, – сказал он, обращаясь ко мне, – произвели такое действие над моею женой, что она вознамерилась, взяв свою часть имения и детей наших, отправиться в Россию. Итак, я решился, г. профессор, дать вам урок другого рода. Я мог бы вооружить против вас наемных убийц, как то делают другие наши мужья; но, быв в военной службе, я имею другие правила и хочу доставить себе удовольствие лично отмстить вам за нанесенную мне обиду. Я все знаю!
– Об обиде ни слова, – отвечал я, – но если вы предполагаете, что я научил жену вашу оставить вас и отправиться в Россию, то клянусь вам, что вы ошибаетесь и что я в первый раз об этом от вас слышу.
– Полноте, сударь, полноте, – отвечал граф, – не украшайте ложью двойной своей измены; жене вашей – и… но я прибыл сюда не для объяснений. Пойдемте в сад.
Нельзя было отказываться, и я должен был драться на шпагах с несчастным мужем. Сначала я старался только защищаться и нанесть моему противнику легкую рану, чтоб прекратить бой; но граф так сильно напирал на меня и с таким жаром стремился лишить меня жизни, что я сам разгорячился и в свою очередь стал нападать на моего противника. В отчаянии он хотел ухватиться за шпагу мою и бросился на меня с размаху. Но острие моей шпаги вонзилось в грудь его, и он упал без чувств на землю.
Мы с англичанином перенесли раненого в трактир, послали за доктором и, оставив графа на попечении его секунданта, поспешили в город. Приехав домой, я встретил жену мою, которая мне объявила, что граф и графиня Цитерины заперлись в своих комнатах и находятся в величайшей горести; что граф отказался даже видеть прелестную Петронеллу, а графиня не велела пускать меня к себе и просила перебраться на другую квартиру. Жена моя узнала от камердинера, что сын графа, бывший ротмистром в гусарском полку, которого мы прежде вовсе не знали, тайно приехал в Венецию, смертельно ранен на поединке и на одре смерти написал к родителям такое письмо, от которого графине приключились три обморока, истерика и нервный пароксизм, а граф почувствовал усиленный припадок подагры и род паралича. Я догадался тотчас, что мой непримиримый земляк был сын графа Цитерина, но скрыл это перед моею женой. Чрез полчаса я получил письмо от графини Сенсибили, в котором она упрекала меня в смерти отца ее детей, называла извергом, убийцею и запрещала являться на глаза. В отчаянии побежал я к приятелю моему, англичанину, и там узнал, что правительство ищет убийцу графа Сенсибили и приезжего иноземца и что если к вечеру я не уберусь за границу, то буду арестован и заключен в тюрьму. Я возвратился домой, собрал все наличные мои деньги и драгоценные вещи, написал к жене письмо, в котором уведомил ее обо всем случившемся, и советовал возвратиться в дом отца и ждать меня. После того я нанял гондолу и поехал на рейд. Один генуэзский корабль поднимал якорь, чтоб, воспользовавшись благополучным ветром, отплыть в Константинополь. Капитан, которого я накануне потчевал в кофейном доме, согласился взять меня с собою, не спрашивая о паспорте. В 9 часов вечера я уже был в открытом море. Слезы полились у меня из глаз при мысли о моей несчастной жене, которой я не переставал любить и которую своим легкомыслием и, сказать правду, беспутством увлек в пропасть! Но делать было нечего, и я, скрепя сердце, решился твердо перенесть мое несчастье. Раскаянье терзало меня, и я поклялся исправиться.
В числе пассажиров находился один турок. Он говорил очень хорошо по-французски и по-итальянски и, видя мою задумчивость, старался развлекать меня разговорами. Он был лет пятидесяти, много путешествовал по Европе и Азии, был в Египте и приобрел большие сведения чтением и наблюдением. Он признался мне, что он гамбургский жид, учился медицине в Лейдене и на тридцатом году от рождения, прибыв в Константинополь, решился принять магометанскую веру, из убеждения, а не из каких-либо видов. Не имея привычки спорить о религии, я не входил в расспросы по сему предмету; но, приметив, что он начинает чаще заводить разговор о вере, выхваляя исламизм, я объявил ему решительно, чтобы он никогда не говорил со мною об этом предмете, если желает пользоваться моею беседою. Ренегат исполнил мою волю и ограничился только похвалою турецкого правительства, что я слушал терпеливо для того только, чтоб знакомиться с правами и обычаями турок. Более всего он превозносил честность поклонников Магомета, их твердость в слове и утверждал, что исламизм излечил его самого от врожденных привычек израильтян, которые, по его мнению, поныне не перестали поклоняться золотому тельцу, переделанному в червонцы.
Плавание наше было благополучно, и мы вскоре прибыли в Константинопольскую гавань. Я переехал в Перу, к одному итальянцу, который содержал род постоялого двора. Разбирая мой чемодан, я чуть не упал в обморок, не нашед в нем ни денег, ни драгоценных вещей. В отчаянье я побежал к корабельному капитану и объявил ему о покраже. Он ручался за свой экипаж, но не отвечал за пассажиров.
– Если б вы отдали деньги и вещи на сохранение мне, то, верно, с вами не случилось бы этого несчастья, – сказал он. – Теперь пеняйте на себя. Я сам человек небогатый и не могу вам помочь многим. Но вот десять червонных: вы мне отдадите, когда будете в состоянии.
С грустью в сердце возвращался я на постоялый двор и на пути встретил знакомого моего, ренегата, которому рассказал мое несчастье.
– Магомет повелевает помогать в бедствии, не только единоверцам, но и всем добрым людям, – сказал он. – Почитаю вас таковым и предлагаю вам в моем доме квартиру и стол, без всякого вознаграждения. Впрочем, если вы когда-либо будете в состоянии заплатить мне, тогда я не откажусь от платы. А теперь об этом не должно и говорить. Возьмите свои вещи из трактира; я вас провожу в дом мой.
Я не знал, как благодарить ренегата за его великодушное предложение, и немедленно оным воспользовался.
Порта была тогда в войне с Россиею, и потому в Константинополе не было нашего посланника. Я никому не говорил, что я русский, и сказался славянином из Бока-ди-Катаро. В кофейных домах в Пере я познакомился с несколькими из Христианских жителей Константинополя, что доставляло мне некоторое рассеяние и даже пропитание. В доме ренегата я почти не видал людей; он редко говорил со мною, быв беспрестанно занят какими-то делами. Мне приносили кушанье в мою каморку; но хлеб подаяния был не только горький, но и слишком легковесный. Мне на день отпускали столько пилаву, сколько надобно было по расчету медицины, чтоб я не умер с голоду, и если б я не имел помощи от греков, то, верно бы, получил чахотку от истощения.
Жизнь в Константинополе вряд ли может понравиться человеку образованному и чувствительному. Европейцы почти не имеют непосредственных сношений с турками, которые, в гордости своей и невежестве, презирают всех христиан и тогда только удостоивают их принятием в свое общество, когда предчувствуют какую-нибудь выгоду от сего знакомства. К тому ж образ жизни турок удаляет их от европейцев. Магометанин, если не занят какою-нибудь государственною службой, то проводит большую часть жизни в своем гареме и не знает другого наслаждения, как курить трубку и пить кофе в кофейном доме, смотря на конец своего носа и слушая вздоры трактирных болтунов или рассказчиков, составляющих особый класс. Турки весьма скупы на слова и тогда только многоречивы, когда бранят франков, то есть европейцев и всех гияуров, особенно раев, или христианских подданных Порты. Иногда и сам султан подвергается брани мусульман, особенно если он предпринимает какие-либо нововведения, которые всегда почитаются нарушением ислама. В кофейных домах, под воротами сераля также смело бранят султана, могущего по произволу рубить головы кому заблагорассудится, как у нас в Европе, в так называемых оппозиционных журналах бранят министров. Впрочем, единообразная жизнь турок и их невежество не может доставить европейцу удовольствия в их обществе, и если иногда путешественники ищут знакомства с турками, то это из одного только любопытства, для наполнения своих путевых записок полуложными известиями.
Все дела в Константинополе, политические и торговые, исправляют пероты, или жители предместья, называемого Пера, составляющего не только отдельный город, но и отдельное царство, отдельный народ! Здесь живут потомки европейцев: итальянцев (большею частью венециан), илирийцев и других южных славян, армян, католиков, малого числа французов и еще меньшего англичан и немцев. Пероты могут гордиться тем, что предки их были равного достоинства с первыми основателями Рима, во время Ромула, с тою разницею, что первые основатели Рима снискивали пропитание силою оружия и явно грабили на больших дорогах, а предки перстов делали то же украдкою. Пероты имеют и то преимущество пред римлянами, что они не переменили обычаев своих предков. Беспечность турецкой полиции в отношении к европейцам привлекла в Константинополь рыцарей промышленности и банкрутов всех наций, которые стали селиться в Пере, под защитою знамени Магометова. Язык перотов есть итальянский, всех наречий Италии, с примесью турецких, греческих и славянских слов, с особенным произношением. Невежество их во всем, что касается до наук и художеств, равняется турецкому, но хитрость заменяет все качества, а познание многих языков составляет всю их мудрость. Дети, едва начиная лепетать, уже приучаются говорить по-турецки, по-гречески, по-французски и по-итальянски. Это языкознание ведет перотов к богатству и почестям, предавая в их руки все дипломатические дела Порты, ибо из них избираются драгоманы, или толмачи, при европейских миссиях. Можно легко догадаться, с какою верностью служат они европейцам, когда удостоверятся, что перот ничего в мире не знает превосходнее своей грязной Перы, ничего величественнее турка, ничего мудрее и могущественнее султана и ничего хуже всех народов и всех людей, которые не исповедывают римско-католической веры или не имеют чести быть мусульманами. Честолюбие перота не простирается; далее места драгомана, а единственная цель жизни – накопление денег. Они также принимают на себя звание европейских торговых консулов и маклеров, а разбогатевшие, с грехом пополам, делаются банкирами. Пероты ненавидят греков и вредят им, где только могут, опасаясь влияния их на дела общественные. За то и греки платят им тем же. Греки оттого только не любят римских католиков, что их вера есть вера перотов. Между греками назвать кого перотом значит то же, что у нас назвать в укоризну иезуитом. Европейские путешественники и чиновники разных посольств более всего обращаются с перстами, потому, что образ их жизни более похож на европейский и что с ними можно сообщаться без познания восточных языков. Женщины играют главную роль в обществе перотов. Все их упражнение состоит в том, чтоб летом сидеть целый день на софе, а зимою при тандуре. Этот тандур есть род четвероугольного низкого стола, покрытого ватованным одеялом, а сверху зеленым сукном. Под столом находится жаровня с раскаленными угольями, которая сообщает теплоту честной компании, помещающейся на малых софах вокруг тандура, спрятав ноги под стол и покрывшись до половины тела одеялом. Печей и каминов, как тебе может быть известно, нет в Константинополе. При сих тандурах играют в карты, рассказывают сплетни, восхваляют султана, когда он рубит головы и берет в казну имение своих подданных, не имеющих чести быть перстами, и заводят любовные интриги, передавая под одеялами записочки. Перотские женщины знамениты своею склонностью к любовным похождениям и по большей части помогают своим мужьям, братьям и отцам к возвышению, к обогащению и открытию политических таинств. По недостатку образованного европейского общества, послы иностранные приглашают пероток на свои балы, для танцев, и они-то составляют константинопольский большой свет, смотря по достатку и связям. Меня ввел один грек в общество перотов, но как я не имел денег и не хотел более испытывать счастья в любви, то был принимаем сухо; мне самому не весьма нравилось в сих беседах, где я не находил пищи ни для ума, ни для сердца. Между греками я нашел более искренности, более ума и более обходительности, нежели между перстами. Гречанки почти все красавицы, когда, напротив того, между перотками красота есть редкость. Жены и дочери греческих бояр, или потомков древних греческих фамилий, отличаются умом и любезностью; но они не появляются в европейских обществах, потому что перотки стараются удалять их всеми средствами. Армяне занимаются только торговлею, променом и переводом денег, водятся между собою и живут по своему обычаю. Жиды, как повсюду, ветошники, брадобреи, мелкие продавцы, рассыльщики и плуты, исключая нескольких богатых ювелиров, которые отличаются тем, что обманывают en grand, _оптом_. Полиция турецкая весьма строго наблюдает за всем, что касается до торговли и городского порядка, имеющих влияние на спокойствие и потребности жизни мусульманина. На дела и поступки франков она не обращает ни малейшего внимания, пока не принесется жалоба на плутовство или на убийство. Но и тогда она позволяет откупаться деньгами. Оттого в целом мире нет такого раздолья для плутов, как в Константинополе. Это их отечество, и удивительнее всего, что, кроме чиновников европейских посольств и путешественников, самые честные люди в Константинополе суть неверные, то есть турки.
Я провел в Константинополе четыре месяца весьма скучно, не зная, на что решиться, как вдруг пронесся слух, что в некоторых частях города показывается чума. Зная, что бедному человеку, и притом христианину, трудно взять предосторожности от заразы, и не желая быть жертвою ее, я намеревался отправиться из Константинополя на острова архипелага или в Россию. Один приятель мой уверял меня, что я, как сын восточной церкви, буду хорошо принят на островах, где следуют греческому исповеданию, но не советовал мне искать прибежища у греков римско-католиков. Я объявил моему хозяину о сем намерении. Но он сильно воспротивился этому.
– Ты не знаешь греков, – сказал он мне. – Выгода есть одно их божество, которому они постоянно поклоняются, а раздоры и несогласия одни только их знания в жизни. Без денег ты будешь принят как нищий, хотя б ты одарен; был всеми талантами в свете. Послушай меня: я давно уже пекусь о твоем жребии и наконец нашел для тебя местечко. Здесь находится персидский купец, один из первых богачей на Востоке. Он имеет нужду в европейском приказчике, для своей торговли. Отбрось на время свое дворянство и послужи у купца. Через пять или шесть лет ты будешь сам миллионщиком, возвратишься в отечество, снова прикроешься своею дворянскою мантиею и заживешь по обычаю вашей касты, переливая целый век из пустого в порожнее.
Подумав несколько, я согласился на предложение ренегата, и на другой день мы условились идти к персиянину.
Персиянин говорил немного по-русски и бывал несколько раз в Москве и в Петербурге.
– Мне нужен человек, знающий французский и итальянский языки, – сказал персиянин, – но тем лучше, что ты сверх того, знаешь еще по-русски. Завтра будь готов к отъезду с моим караваном. Если ты будешь хорошо вести себя, то тебе будет у меня хорошо.
Я хотел узнать, на каких условиях купец принимает меня к себе в службу. Но ренегат запретил мне это, уверяя, что я испорчу все дело видом корыстолюбия.
– Во всех не образованных по-европейски странах, – примолвил он по-французски, – купцы не платят известного годового жалованья своим приказчикам, но делят с ними барыши. Ты не должен показываться сребролюбивым; напротив, должен радеть только о выгодах своего хозяина, будто не помышляя о своих. Тогда купец примет тебя в долю и ты сделаешься его товарищем. Но пока он тебя узнает и полюбит, ты должен обходиться с ним раболепно, как водится на Востоке между господами и слугами. Решайся, любезный друг, на малые неприятности для обеспечения твоего состояния на всю жизнь. Ты сам сказал мне, что у тебя нет состояния в твоем отечестве и что ты даже не имеешь никакой надежды приобресть там богатство. Нельзя же всегда жить на чужой счет и лучше всего быть самому себе обязанным своим достатком.
Слова ренегата: нельзя жить на чужой счет – заставили меня на все решиться. В тот же вечер я перешел в караван-сарай к персиянину и на другой день отправился с ним в путь.
Я не буду тебе описывать ни городов, ни стран, чрез которые мы прошли, ни обычаев разных племен азиятских, которых я видал на пути; это заняло бы много времени. Опишу тебе все виденное в нескольких словах. Невежество, жестокость, грубость нравов составляют главнейшие свойства сих народов, с тою разницею, что в азиятских городах, где торговля процветает, нега и малодушие заменяют в жителях любовь к познаниям, художествам и утонченной роскоши и что кочующие азиятские племена, напротив того, отличаются дикою храбростью и хищничеством. Любезный друг! между европейцами есть люди, которые вопиют противу просвещения. Пусть они взглянут на Малую Азию и сравнят состояние, в котором она была под владычеством мудрых халифов, любителей и покровителей просвещения, с нынешним ее положением. Невежество унижает человечество до состояния бессмысленного животного, и самый опасный род зверей на земном шаре есть полупросвещенный народ, который, отступив от первой дикости, разбирает одни только буквы в _великой книге просвещения_ и берет слова за вещи, а вещи за слова. Только одни порочные себялюбцы могут желать невежества, чтоб, пользуясь мраком, обманывать в промене своих поддельных товаров и фальшивой монеты. Но, любезный друг, я не могу лучше изобразить тебе пользы просвещения, как рассказав анекдот, который остался у меня в памяти от детства.
– С каким намерением заводишь ты академии, школы, распространяешь науки? – сказал визирь Муссафер халифу Аарону-Аль-Рашиду. – Не думаешь ли ты, государь, что просвещенный народ будет лучше повиноваться тебе?
– Без сомнения, – отвечал халиф, – просвещенный народ будет лучше судить о справедливости моих законов и чистоте моих намерений.
– Но лучше ли он станет платить подати?
– Конечно: он в просвещении найдет более средств к своему обогащению и, сверх того, поймет, что я не требую лишнего.
– Воины твои лучше ли будут сражаться?
– Гораздо лучше, постигая, что счастье каждого семейства зависит от блага и славы отечества, и притом они будут сражаться успешнее, под предводительством искусных начальников.
– Но твои умники, твои мудрецы не вздумают ли вмешиваться в правление? не дерзнут ли они искать ошибок в делах твоих?
– Пусть ищут, находят и скажут мне: я буду осторожнее в будущем времени и поступлю лучше.
– Как! ты позволишь, о светильник мира! мудрецам своим говорить смело обо всем, что им придет на мысль?
– Иначе они не могли бы просвещать людей.
– Но разве самые мудрецы не могут ошибаться, не могут принять заблуждения за истину?
– Один ошибется, а другой заметит и поправит ошибку.
– Государь! я наконец должен открыть тебе все: с того времени, как народ твой стал просвещаться, некоторые дерзкие люди осмеливаются даже осуждать поступки твоих любимцев, облеченных твоею доверенностию, и даже меня, меня самого!
– Понимаю, – сказал халиф и вышел из комнаты.
Эту притчу я велел бы написать золотыми буквами на каком-нибудь публичном памятнике, для обличения ханжей и плутов, желающих водворить невежество, чтоб в мутной воде ловить рыбу. Желательно, чтоб все законодатели имели перед глазами примеры халифа Аарон-Аль-Рашида, который, водворив просвещение в грубом азиятском народе, доставил ему силу, богатство и славу. Упало просвещение в Азии, – упала и монархия халифов!
Множество купцов и странников соединились с нами для безопасного путешествия: ибо в странах невежества нельзя иначе путешествовать, как с прикрытием вооруженных воинов. Мы нанимали стражу от города до города. Хозяин мой поручил мне смотрение за караваном и обходился со мною весьма ласково, как с равным. Но когда мы приехали в персидские владения, то он объявил мне, что я его невольник и что он купил меня у жида-ренегата. Тщетно я уверял его, что ренегат не имел права продавать меня, потому что я никогда не был взят в плен, но приехал в Константинополь добровольно, как путешественник, под покровительством законов и прав народных. Персиянин возражал мне, что ныне война между турками и русскими, что ренегату известно, что я русский, следовательно, каждому турку позволено брать в неволю русского, где ни попало, и что, кроме того, я должен ренегату за квартиру и пишу столько, что во всю жизнь не в состоянии выплатить.
– Ты не торговался с ренегатом, – примолвил персиянин, – следовательно, он волен поставить на твой счет миллион секинов!
Для большего убеждения меня в законности моего рабства, персиянин показал мне какую-то бумагу, которую он назвал купчею крепостью, засвидетельствованною Кадием в Константинополе. Надобно было молчать и повиноваться! Проехав чрез знаменитые персидские города, Тавриз и Тегеран, мы прибыли наконец в город Астрабад, где мой хозяин имел постоянное свое пребывание и вел обширную торговлю с Бухарой, Хивою и Россиею. Он вовсе не употреблял меня по торговым делам, но поручил мне обучать языкам сына своего, мальчика лет двенадцати, объявив, что всякое мое покушение избавиться рабства будет наказано смертию, а безропотное повиновение и смирение будут вознаграждены хорошим содержанием и ласковым обхождением. В самом деле, со мною обходились в доме довольно человеколюбиво, как наши помещики, находясь в хорошем расположении духа, обходятся с дядьками их сыновей или приходскими учителями.
Однажды я был в комнате моего хозяина, когда пришел к нему купец покупать галантерейные вещи. Мой господин разложил на столе кучу перстней, серег и ожерелий европейских, и я весьма удивился, увидев между оными все мои вещи, украденные на корабле. Когда покупатель, поторговав и посмотрев вещи, вышел из комнаты, я сказал персиянину:
– Хозяин! между этими драгоценностями я вижу вещи, мне принадлежащие. Я не могу подозревать тебя в дурном поступке, потому что ты не был на корабле, на котором у меня похитили мою собственность. Но скажи, пожалуйста, каким образом ты достал эти вещи?
– Я купил их в Константинополе у прежнего твоего хозяина, жида-ренегата, – отвечал Персиянин.
– Итак, вот честность, которой научился жид в магометанской вере! – воскликнул я невольно.
– Приятель! – возразил персиянин. – Не вера виновата, а человек. Даю тебе совет: остерегайся всегда доморощенного волка и человека, из подлых видов своекорыстия переменившего веру.
Я с лишком три года пробыл в неволе и наконец решился бежать, невзирая на угрожающую мне смерть. Я познакомился с одним бухарским купцом и обещал ему богатый выкуп, если он проведет меня в Россию. По счастью, этот бухарец бывал в Москве и знал моего дядю, продав ему несколько шалей для его домоуправительницы. Бухарец вывез меня с собою из Астрабада и присоединил к каравану, идущему в Россию чрез киргизскую степь. Остальное ты знаешь. Тебе обязан я свободою. Возвращаясь в Москву, я намерен отыскать жену мою, исправиться совершенно от двух несчастных слабостей: волокитства и мотовства; определиться на службу и трудами снискивать хотя бедное, но честное пропитание.







