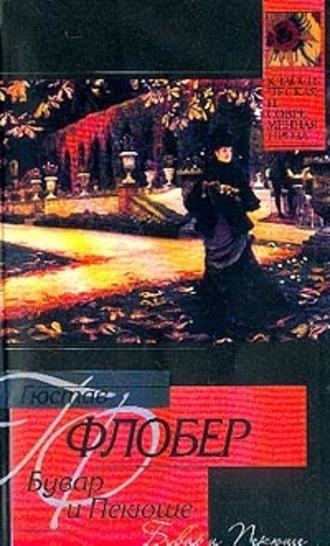
Гюстав Флобер
Бувар и Пекюше
I
Стояла жара – тридцать три градуса, и на бульваре Бурдон не было ни души.
Внизу, замкнутый двумя шлюзами, тянулся ровной линией канал Сен-Мартен с темною, как чернила, водою.
Посредине стояла баржа, груженная лесом, а на берегу громоздились бочки, сложенные в два ряда.
По ту сторону канала, между строений, разделявших дровяные склады, виднелась лазурь широкого чистого неба; в солнечном сиянии белые фасады домов, шиферные крыши, гранитные набережные ослепительно сверкали. Где-то далеко в теплом воздухе разносился смутный гул; все словно замерло в праздничном бездействии, в томительной печали летнего дня.
На бульваре появились два человека.
Один шел от площади Бастилии, другой – от Ботанического сада. Первый, высокого роста, в полотняном костюме, шагал, сдвинув шляпу на затылок, расстегнув жилет и держа галстук в руке. Другой, ростом пониже, в наглухо застегнутом коричневом сюртуке, семенил мелкими шажками, понурив голову и нахлобучив на лоб картуз с острым козырьком.
Дойдя до середины бульвара, они уселись, оба разом, на одну и ту же скамью. Вытирая лоб, оба они сняли головные уборы и положили рядом с собой; низенький прочел на подкладке шляпы своего соседа надпись «Бувар», а тот, заглянув в картуз незнакомца, разобрал слово «Пекюше».
– Вот занятно, – сказал он, – нам обоим пришло в голову написать на шляпе свою фамилию.
– Ну да, ведь мой картуз могли бы обменять у нас в конторе.
– И у меня, я тоже служу в конторе.
Тут они присмотрелись друг к другу.
Приятная внешность Бувара сразу очаровала Пекюше.
Голубые глаза из-под полуопущенных век озаряли улыбкой его румяное лицо. Просторные панталоны топорщились внизу, на касторовых штиблетах, и обтягивали живот, вздувая рубашку у пояса, а светлые волосы в легких завитках придавали его физиономии что-то ребячливое. Он постоянно что-то насвистывал, выпятив губы.
Бувара поразила серьезная мина Пекюше.
Черные пряди волос так гладко облегали его высокий череп, что их можно было принять за парик. Лицо из-за длинного висячего носа было как будто постоянно обращено к вам в профиль. Ноги в узких люстриновых брюках казались несоразмерно короткими в сравнении с туловищем; говорил Пекюше низким глухим голосом.
У него вырвалось восклицание:
– Как хорошо сейчас в деревне!
Но Бувар возразил, что за городом невыносимо от кабацкого шума и гама. Пекюше согласился, но все-таки пожаловался, что начинает тяготиться столичной жизнью. Бувар испытывал то же.
Они обводили глазами груды строительного камня, грязную воду канала, где плавали пучки соломы, фабричные трубы, торчавшие вдали; из сточной канавы несло вонью. Они обернулись в другую сторону: там перед ними тянулись стены хлебных амбаров.
– Право же, – удивился Пекюше, – на улице еще жарче, чем дома!
Бувар посоветовал ему снять сюртук. Наплевать ему на приличия – пусть говорят, что хотят!
Тут по аллее проковылял какой-то пьянчуга, выписывая кренделя ногами; заговорив по этому поводу о рабочих, они перешли на политические темы. У обоих оказались одинаковые взгляды, хотя, пожалуй, из них двоих Бувар был либеральнее.
По мостовой, в вихре пыли, с лязгом и грохотом прокатили три коляски по направлению к Берси; там ехали невеста с букетом, несколько горожан в белых галстуках, дамы, утопавшие до самых плеч в пышных юбках, две-три девочки, школьник-подросток. При виде свадебного поезда Бувар и Пекюше заговорили о женщинах и пришли к выводу, что все они легкомысленны, сварливы, упрямы. Правда, встречаются иной раз женщины лучше мужчин, но обычно они все-таки хуже. Словом, гораздо спокойнее жить без них; потому-то Пекюше и остался холостяком.
– А я вдовец, – заявил Бувар, – и детей у меня нет.
– Может быть, это и к лучшему. А впрочем, одиночество под конец становится тягостным.
На набережной появилась уличная девица под руку с военным, черноволосая, бледная, с рябым лицом. Она шла вперевалку, опираясь на руку солдата и шаркая туфлями по панели.
Дав ей отойти подальше, Бувар отпустил непристойную шутку. Пекюше густо покраснел и, видимо, желая переменить тему, указал ему на священника, который к ним приближался.
Аббат величаво проплыл по аллее, обсаженной вдоль тротуара тощими вязами; как только его треугольная шляпа исчезла из виду, Бувар вздохнул с облегчением и заявил, что терпеть не может иезуитов. Пекюше, не защищая их, все же признался, что относится к религии с уважением.
Между тем наступили сумерки, и в доме напротив подняли жалюзи. Прохожих стало больше. Пробило семь часов.
Их беседа лилась неиссякаемым потоком; за анекдотами следовали рассуждения, за личными мнениями философские идеи. Они раскритиковали в пух и прах ведомство путей сообщения, пошлины на табак, торговые дома, театры, морское министерство и весь род человеческий, – как будто они все испытали и во всем разочаровались. Каждый из них, слушая другого, вспоминал свое забытое прошлое, узнавал самого себя. И хотя они вышли из возраста наивных восторгов, оба испытывали что-то новое, неизведанное, расцвет чувств, прелесть зарождающейся дружбы.
Раз двадцать они вставали со скамьи, садились опять, прохаживались вдоль бульвара, от верхнего шлюза до нижнего, то и дело собирались уйти, но не в силах были расстаться, будто их приворожили.
Наконец они распрощались, как вдруг, при последнем рукопожатии, Бувар воскликнул:
– Погодите! А что, если нам пообедать вместе?
– Я уж думал об этом, – подхватил Пекюше, – но не решался вам предложить.
Бувар повел его в ресторанчик против ратуши, где, по его словам, уютная обстановка.
Он сам заказал обед.
Пекюше остерегался пряностей, как слишком возбуждающего средства. Это послужило поводом поспорить о медицине. Затем они начали превозносить науку: сколько интересного можно узнать, сколько исследований произвести… если бы только хватало времени! Увы, все их время уходило на то, чтобы заработать на хлеб. И тут выяснилось, что оба они служат переписчиками; от изумления сотрапезники всплеснули руками и, перегнувшись через стол, едва не бросились в объятия друг друга. Бувар работал в одном торговом доме, а Пекюше – в морском министерстве, что не мешало ему вечерами уделять время научным занятиям. Он сообщил, что выискал много ошибок в сочинении Тьера, зато отозвался с величайшим почтением о некоем профессоре Дюмушеле.
У Бувара были другие достоинства. Изящная часовая цепочка, сплетенная из волос, манера сбивать соус – все обличало в нем человека бывалого, умеющего пожить; за обедом, зажав салфетку под мышкой, он забавлял Пекюше уморительными историями. У Пекюше был характерный смех – басистый, на одной ноте, с долгими паузами. Бувар смеялся благодушно, звонко, скаля зубы, поводя плечами, и посетители невольно оборачивались на него.
Отобедав, они зашли выпить кофе в другое заведение. Пекюше, оглядевшись при свете газовых рожков, поворчал на излишне роскошную обстановку, затем презрительным жестом отбросил газеты. Бувар был гораздо снисходительнее. Он любил всех писателей без разбору, а в юности намеревался поступить актером в театр.
Ему вдруг захотелось показать ловкие фокусы с бильярдным кием и двумя шарами, какие при нем проделывал его приятель Барберу. Но шары беспрестанно падали на пол, под ноги посетителей, и закатывались куда-то в угол. Лакей, которому всякий раз приходилось, ползая на четвереньках, доставать их из-под скамеек, в конце концов начал ворчать. Пекюше наорал на него; явился хозяин, но Пекюше не пожелал слушать извинений и разругал все кушанья в ресторане.
После этого он предложил мирно закончить вечер у него на дому; это совсем рядом, на улице Сен-Мартен.
Войдя, он напялил какую-то полотняную курточку и повел гостя осматривать помещение.
Письменный стол елового дерева стоял, загораживая проход, как раз посреди комнаты, а повсюду вокруг – на полках, на стульях, на старом кресле и по углам – в беспорядке громоздились книги: несколько томов «Энциклопедии» Pope, «Руководство для магнетизера», томик Фенелона; там же, вперемешку с кипами бумаг, лежали два кокосовых ореха, всевозможные медали, турецкая феска и несколько раковин, привезенных Дюмушелем из Гавра. Стены, когда-то выкрашенные в желтый цвет, были покрыты бархатным слоем пыли. На краю постели, с которой свисали простыни, валялась сапожная щетка. На потолке чернело большое пятно от коптящей лампы.
Бувар, не выносивший спертого воздуха, попросил позволения отворить окно.
– Но ведь бумаги разлетятся! – вскричал Пекюше, который пуще всего боялся сквозняков.
Однако и сам он задыхался в тесной комнатушке, накалившейся с утра от шиферной кровли.
– На вашем месте я бы снял фуфайку, – сказал Бувар.
– Как можно!
Пекюше, ужаснувшись при мысли, что расстанется с фланелевым набрюшником, предохранявшим от простуды, пожал плечами.
– Проводите-ка меня до дому, – предложил Бувар, – на свежем воздухе вы проветритесь.
И Пекюше пришлось снова натягивать сапоги.
– Вы просто околдовали меня, честное слово! – ворчал он.
Несмотря на расстояние, он проводил приятеля до самого дома, до угла улицы Бетюн, против моста Турнель.
У Бувара была большая комната с навощенным до блеска полом, перкалевыми занавесками, мебелью красного дерева и с балконом, выходившим на реку. Главными украшениями служили погребец на комоде и дагерротипы у зеркала, изображавшие друзей хозяина. В алькове висела картина масляными красками.
– Мой дядя, – сказал Бувар и, подняв свечу, осветил портрет пожилого господина.
Рыжие бакенбарды обрамляли широкое лицо, увенчанное взбитой прической с завитком на хохолке. Пышный галстук и тройной воротник – от сорочки, бархатного жилета и фрака – туго стягивали шею. На жабо блестела бриллиантовая булавка. Глаза его щурились над обвислыми щеками, а губы лукаво усмехались.
– Его скорее можно принять за вашего отца! – невольно заметил Пекюше.
– Это мой крестный, – небрежно отозвался Бувар и добавил, что его нарекли при крещении Франсуа-Дени-Бартоломе. Пекюше носил имя Жюст-Ромен-Сирил; они оказались ровесниками; обоим было по сорока семи лет. Такое совпадение их обрадовало, хоть и удивило. Каждый считал другого гораздо старше. Тут оба принялись восторгаться мудростью провидения, чьи пути неисповедимы.
– Подумать только; если бы мы не встретились нынче на прогулке, мы бы так и умерли, не узнав друг друга.
Обменявшись адресами по месту службы, они пожелали один другому покойной ночи.
– Смотрите, не заверните к девочкам! – крикнул Бувар, провожая гостя на лестницу.
Пекюше спустился по ступенькам, ничего не ответив на эту нескромную шутку.
На другое утро во дворе конторы братьев Декамбо «Эльзасские ткани», на улице Отфей, 92, кто-то громко позвал:
– Бувар! Господин Бувар!
Бувар высунул голову в окошко и узнал Пекюше.
– Я не простудился, я ее снял! – крикнул тот еще громче.
– Что такое?
– Я ее снял, фуфайку! – объяснил Пекюше, показывая на грудь.
Их вчерашние разговоры, жара в комнате и тяжесть в животе не давали ему заснуть, так что, не выдержав, он скинул с себя фланелевый набрюшник. Наутро, удостоверившись, что это не имело дурных последствий, он поспешил поделиться новостью с Буваром, который теперь еще более возвысился в его мнении.
Пекюше был сыном мелкого торговца и не помнил своей матери, рано умершей. Пятнадцати лет ему пришлось уйти из школы и поступить на службу к частному приставу. В один прекрасный день в дом явились жандармы, и вскоре его хозяина сослали на галеры. Пекюше до сих пор не мог вспомнить этой истории без ужаса. После этого он перепробовал много профессий: был аптекарским учеником, репетитором, счетоводом на пакетботе Верхней Сены. Наконец какой-то начальник, восхитившись его почерком, нанял его писцом в контору. Пекюше, при его пытливом уме, мучило сознание, что он недостаточно образован. Нрава он был раздражительного и жил совершенно один, без родных, без любовницы; по воскресным дням, в виде развлечения, ходил наблюдать за строительными работами.
Самые ранние воспоминания Бувара были связаны с фермой на берегу Луары. Потом дядя повез мальчика в Париж обучать торговому делу. Достигнув совершеннолетия, он получил в банке несколько тысяч франков. Тогда он женился и открыл кондитерскую лавку. Полгода спустя его супруга сбежала, прихватив с собою кассу. Кутежи с друзьями, чревоугодие, а главное, лень очень скоро довели его до полного разорения. Но он догадался пустить в ход свой талант – красивый почерк, и вот уже двенадцать лет работал на том же месте, в конторе торговцев тканями, братьев Декамбо, улица Отфей, 92. О своем дяде, когда-то приславшем ему на память пресловутый портрет, Бувар ничего не слыхал, не знал даже его адреса и больше не рассчитывал на его помощь. Полутора тысяч франков дохода и жалованья переписчика ему хватало, чтобы вечером посидеть и подремать в кофейне.
Итак, случайная встреча стала важным событием в жизни обоих. Их сразу неодолимо потянуло друг к другу. Чем, в сущности, можно объяснить взаимную симпатию? Почему иные характерные черты, иные недостатки, безразличные или нетерпимые в одном человеке, восхищают вас в другом? Так называемая любовь с первого взгляда встречается в жизни нередко. Короче говоря, к концу недели Бувар и Пекюше перешли на ты.
Они то и дело навещали друг друга на службе. Как только один появлялся, другой запирал свой стол, и они отправлялись гулять по улицам. Бувар шел, широко шагая, а Пекюше, путаясь в длинном сюртуке, едва поспевал за ним, будто катясь на роликах. Так же мало совпадали их личные вкусы. Бувар курил трубку, любил сыр, после обеда неизменно выпивал чашечку кофе. Пекюше нюхал табак, за десертом ел только варенье и макал сахар в свой кофе. Один был доверчив, беспечен, великодушен, другой скрытен, серьезен и скуповат.
Желая доставить удовольствие Пекюше, Бувар познакомил его с Барберу. Это был биржевой делец, в прошлом коммивояжер, славный малый, патриот, волокита, любивший щегольнуть крепким словцом. Пекюше нашел его несносным и повел Бувара к Дюмушелю. Этот ученый (он опубликовал книжку по мнемонике) преподавал литературу в пансионе молодых девиц, высказывал ортодоксальные взгляды и держался с необычайной серьезностью. Бувару он скоро наскучил.
Приятели не скрывали своих мнений, и каждый признал правоту другого. Вскоре они изменили прежним привычкам и, отказавшись от домашнего пансиона, стали день за днем обедать вместе.
Они беседовали о нашумевших пьесах, о политике правительства, росте цен на провизию, о мошенничестве в торговле. Иногда вспоминали дело об ожерелье королевы или процесс Фюальдеса, рассуждали о причинах революции.
Они бродили по лавкам старьевщиков, посетили Музей искусств и ремесел, аббатство Сен-Дени, фабрику гобеленов, Дом инвалидов, осмотрели все выставки, все коллекции.
Когда у них требовали пропуск, они делали вид, что потеряли его, или выдавали себя за иностранцев, за двух англичан.
В галереях Музея естественной истории они подолгу стояли у чучел четвероногих, любовались бабочками, равнодушно проходили мимо витрин с металлами; ископаемые возбуждали их любопытство, а моллюски не вызывали никакого интереса. Они разглядывали теплицы сквозь стекла, содрогаясь при мысли о ядовитых испарениях. Кедр поразил их тем, что когда-то мог уместиться в шляпе.
В Лувре они принуждали себя восхищаться Рафаэлем. В Национальной библиотеке пытались выяснить точное число томов.
Как-то раз они зашли в Коллеж де Франс на лекцию об арабском языке и, к величайшему удивлению профессора, принялись старательно что-то записывать. При помощи Барберу им удалось проникнуть за кулисы бульварного театра. Дюмушель достал им билеты на заседание Академии. Они интересовались научными открытиями, читали книжные каталоги и, по свойственной обоим любознательности, развивали свой ум. Кругозор их расширился, каждый день им открывалось что-то новое, что-то смутное и чудесное.
Любуясь старинной мебелью, они сокрушались, что не жили в те времена, хотя о самой эпохе не имели ни малейшего представления. Слыша названия стран, мечтали о далеких краях, тем более прекрасных, что они ничего о них не знали. Книги с непонятными заглавиями привлекали их обаянием тайны.
Новые идеи приносили им новые страдания. Когда на улице им встречалась почтовая карета, их неодолимо тянуло уехать куда-то вдаль. На Цветочной набережной они тосковали о лугах.
Однажды в воскресенье, ранним утром, они отправились на прогулку пешком; прошли через Медон, Бельвю, Сюрен, Отейль, весь день бродили среди виноградников, рвали мак на полях, отдыхали на траве, пили молоко, закусывали в загородных кабачках под акациями; вернулись они поздно ночью, изнуренные, счастливые, все в пыли. Они часто повторяли такие прогулки, но наутро им становилось так тоскливо, что пришлось от них отказаться.
Однообразная работа в конторе обоим им опротивела. Все те же ножички и резинки, те же перья и чернильницы, все те же сослуживцы! Бувар и Пекюше считали конторщиков болванами и все меньше с ними разговаривали. Те обижались и дразнили их. Чуть ли не каждое утро оба приятеля опаздывали на службу и получали выговор.
Прежде они были вполне довольны своим положением, но с тех пор как высоко о себе возомнили, их профессия стала казаться им унизительной. Они внушали это один другому, подстрекали, раззадоривали друг друга. Пекюше перенял вспыльчивость Бувара, Бувар усвоил угрюмую манеру Пекюше.
– Уж лучше быть паяцем в ярмарочном балагане! – вздыхал один.
– Или стать тряпичником! – восклицал другой.
Ужасное положение! Безвыходное! Безнадежное!
И вот однажды (это было 20 января 1839 года), когда Бувар работал в конторе, почтальон принес ему письмо.
Бувар всплеснул руками, голова его медленно запрокинулась назад, и он упал на пол без чувств.
Конторщики бросились к нему, развязали ему галстук, послали за врачом. Бувар открыл глаза; на обращенные к нему вопросы он отвечал бессвязно:
– Ах!.. Это пустяки… На воздухе мне станет лучше. Нет, оставьте меня! Позвольте выйти!
Несмотря на свою тучность, он во весь дух помчался в морское министерство; он вытирал лоб, стараясь успокоиться, ему казалось, будто он сходит с ума.
Он просил вызвать Пекюше.
Пекюше явился.
– Мой дядя умер! Оставил мне наследство!
– Быть не может!
Бувар показал извещение:
Нотариальная контора г-на Тардивеля
Савиньи в Септене,
14 января 1839 г.
Милостивый государь!
Прошу вас пожаловать в мою контору, чтобы ознакомиться с завещанием Вашего отца, г-на Франсуа-Дени-Бартоломе Бувара, бывшего негоцианта в городе Нанте, скончавшегося в нашем округе 10-го числа сего месяца. В завещании содержится весьма важное распоряжение в Вашу пользу.
Примите уверение в моем глубоком уважении.
Нотариус Тардивель
Пекюше, ослабев от волнения, присел на тумбу во дворе. Вернув бумагу, он произнес запинаясь:
– Лишь бы только… это не оказалось… шуткой!
– Ты думаешь… это кто-то подшутил? – спросил Бувар сдавленным голосом, похожим на предсмертный хрип.
Однако почтовые штемпеля, печатный бланк нотариальной конторы, подпись нотариуса – все подтверждало подлинность документа. Они пристально смотрели друг на друга, губы у них дрожали, а в глазах стояли слезы.
Им не хватало воздуха. Они дошли пешком до Триумфальной арки и зашагали обратно по набережным, мимо собора Парижской Богоматери. Бувар побагровел. Он дубасил Пекюше кулаком в спину и бормотал какую-то чепуху.
Оба они не могли удержаться от смеха. Уж конечно, Бувар получит не меньше…
– Ох, это было бы слишком хорошо! Не стоит говорить об этом.
И все-таки заговорили. Что им мешает сразу же попросить разъяснений? Бувар написал нотариусу.
Нотариус прислал копию завещания, которое заканчивалось словами:
«Вследствие чего я завещаю Франсуа-Дени-Бартоломе Бувару, моему внебрачному сыну, признанному мною, полагающуюся ему по закону часть моего состояния».
Старик Бувар тщательно скрывал грех своей молодости, воспитывал сына вдали от города, выдавая за племянника, и тот всегда называл его дядей, хотя догадывался обо всем. К сорока годам Бувар-отец женился, потом овдовел. Два его законных сына огорчали его дурным поведением, и он стал раскаиваться, что бросил на произвол судьбы своего первенца. Не будь он под башмаком у своей кухарки, он выписал бы сына к себе. Когда из-за семейных раздоров кухарка ушла от них, старик, оставшись в одиночестве, решил перед смертью искупить давнюю вину, завещав все, что мог, плоду своей первой любви. Наследство составляло около полумиллиона, на долю скромного переписчика приходилось двести пятьдесят тысяч франков. Старший из братьев, г-н Этьен, заявил, что признаёт завещание.
Бувар ходил как одурелый. Блаженно улыбаясь, точно пьяный, он все шептал:
– Пятнадцать тысяч франков ренты!
Пекюше, хоть голова у него была покрепче, тоже не мог опомниться.
Их сразу отрезвило письмо Тардивеля с неприятным известием. Младший сын, г-н Александр, объявил о своем намерении оспорить завещание в суде и, если удастся, признать его недействительным; он требовал опечатать имущество, составить опись, наложить арест и прочее! У Бувара разлилась желчь. Едва оправившись, он поехал в Савиньи, но вернулся ни с чем, не добившись никакого решения и досадуя, что даром потратился на дорогу.
Потянулись бессонные ночи, мучительные переходы от отчаяния к надежде, от восторгов к полному упадку сил. Наконец, через полгода несносный Александр смирился, и Бувар вступил во владение наследством.
Первым делом он воскликнул:
– Вот теперь мы переедем в деревню!
Это решение разделить с другом свалившееся на него счастье показалось Пекюше вполне естественным: союз этих двух людей стал тесным и неразрывным.
Однако Пекюше заявил, что не желает жить на счет Бувара и никуда не поедет, покуда не дослужит до пенсии. Еще два года – подумаешь! Он был тверд и непоколебим; на том они и порешили.
Выбирая место, где поселиться, они перебрали все провинции. На севере плодородные земли, но слишком холодно; на юге климат чудесный, но отравляют жизнь москиты, а в центральных областях, по правде сказать, нет ничего интересного. Бретань, пожалуй, подошла бы, но там живут одни святоши. О восточных округах из-за местного диалекта нечего и думать. Однако есть же и другие края. Что такое, к примеру, Форе, Бюже, Румуа? В географических картах ничего о них не сказано. Впрочем, не важно, в том или другом месте они поселятся, – главное, у них будет свой дом.
Они уже представляли себе, как будут без пиджаков работать в саду, подрезать розовые кусты, рыть, копать, рыхлить землю, пересаживать тюльпаны. Проснувшись рано, под пение жаворонка, они пойдут на пашню, отправятся с корзинкой собирать яблоки, станут наблюдать, как сбивают масло, молотят, стригут овец, подкармливают пчел, будут наслаждаться мычанием коров, запахом свежего сена. И никакой переписки! Никакого начальства! Никаких платежей в срок. Ведь у них будет свой собственный дом! Куры из своего птичника, овощи со своего огорода, обеды по-домашнему в затрапезном платье.
– Мы будем делать все, что душе угодно. Хоть бороды отрастим.
Они купили садовый инвентарь, разные мелочи, «которые могут пригодиться», ящик с инструментами (необходимый в хозяйстве), потом весы, землемерную цепь, ванну на случай болезни, градусник и даже барометр системы Гей-Люссак для физических опытов: а вдруг им придет охота этим заняться? Не мешает иметь в доме литературу для чтения – не все же время работать в саду; они даже начали подыскивать книги, часто не зная хорошенько, подходят ли они для домашней библиотеки.
Наконец Бувар принял решение:
– К черту! Нам не понадобится библиотека.
– К тому же можно взять мою, – сказал Пекюше.
Они строили планы. Бувар перевезет свою мебель, Пекюше – большой черный стол; если прихватить еще занавески да немного кухонной утвари, этого будет достаточно.
Они условились хранить все в тайне, но лица у обоих сияли, и сослуживцы подшучивали над ними. Бувар писал, лежа грудью на конторке, расставив локти, чтобы аккуратнее выводить косые буквы, и все время весело насвистывал, хитро подмигивая из-под тяжелых век. Пекюше, взгромоздясь на высокий соломенный стул, писал так же старательно, как и прежде, тем же четким почерком с нажимом, но невольно раздувал ноздри и кусал себе губы, словно боясь проговориться.
Уже больше полутора лет они искали, где бы поселиться, но ничего не могли найти. Путешествовали по окрестностям Парижа, ездили от Амьена до Эвре, от Фонтенбло до Гавра. Их тянуло в деревню, в настоящую сельскую местность, пускай не слишком живописную, но на широком просторе.
Они избегали слишком многолюдных поселков и вместе с тем опасались одиночества.
Иногда они уже делали выбор, эатем, боясь разочароваться, отменяли решение, ссылаясь на нездоровую местность или на резкий морской ветер, на близкое соседство фабрики или на неудобное сообщение.
На помощь им пришел Барберу.
Узнав об их заветной мечте, он сообщил им в один прекрасный день, что слыхал о продаже поместья в Шавиньоле, между Каном и Фалезом. Поместье состояло из фермы в тридцать восемь гектаров, господского дома и фруктового сада, приносящего доход.
Друзья поспешили съездить в Кальвадос и пришли в восторг. Однако за ферму вместе с домом (их не продавали порознь) с них запросили сто сорок три тысячи франков, а Бувар не давал больше ста двадцати тысяч.
Пекюше спорил с ним, убеждал пойти на уступки и объявил наконец, что доплатит недостающие деньги из своих личных средств. На это ушло все его состояние – материнское наследство и собственные сбережения. Этот капитал он хранил в тайне от всех на черный день.
Вся сумма была уплачена полностью к концу 1840 года, за полгода до выхода Пекюше на пенсию.
Бувар уже не работал переписчиком. Первое время, еще не уверенный в будущем, он ходил на службу, но лишь только решился вопрос о наследстве, вышел в отставку. Однако он охотно заглядывал в контору братьев Декамбо и накануне отъезда угостил пуншем всю компанию.
Пекюше, напротив, угрюмо распрощался с сослуживцами и, уходя в последний раз, сердито хлопнул дверью.
Ему еще надо было последить за упаковкой вещей, исполнить множество поручений, закупить кое-что и нанести прощальный визит Дюмушелю.
Профессор обещал вести с ним переписку, сообщать ему все литературные новости, потом еще раз поздравил и пожелал доброго здоровья.
Барберу простился с Буваром гораздо сердечнее – даже бросил неоконченную партию в домино. Он дал слово приехать к нему в гости, заказал две рюмки анисовки и крепко обнял на прощание.
Вернувшись домой, Бувар вышел на балкон и, вздохнув полной грудью, воскликнул: «Наконец-то!» В воде канала отражались огни набережной, вдали затихал шум омнибусов. Бувару вспомнились счастливые дни, прожитые в этом огромном городе, кутежи в ресторане, вечера в театре, болтовня привратницы, все его прежние привычки, и он почувствовал стеснение в груди, печаль, в которой не решался признаться самому себе.
Пекюше до двух часов ночи расхаживал из угла в угол. Никогда больше он не вернется сюда, и слава Богу! Однако, чтобы оставить что-то на память о себе, он нацарапал свое имя на стенке камина.
Тяжелую кладь они отправили еще вчера. Садовые инструменты, кровати, тюфяки, столы, стулья, жаровню, ванну и три бочки бургундского решили везти баржой по Сене до Гавра, а оттуда доставить в Кан, где Бувар их дождется и переправит в Шавиньоль.
Портрет отца, кресла, погребец с ликерами, книги, стенные часы и прочие ценные вещи погрузили в фургон, который должен был ехать через Нонанкур, Верней и Фалез. Пекюше вызвался его сопровождать.
Надев самый старый сюртук, шарф, рукавицы, упрятав ноги в меховой мешок, которым пользовался в конторе, он уселся на скамье рядом с проводником и в воскресенье 20 марта, на рассвете, выехал из столицы.
Первое время его увлекала быстрая езда и новые впечатления. Но вскоре лошади пошли шагом, и он повздорил из-за этого с кучером и проводником. Для ночлега они выбирали самые омерзительные постоялые дворы, и, хотя хозяева отвечали за сохранность багажа, Пекюше от излишней мнительности ночевал там же.
Наутро они пускались в путь с рассветом, и все та же дорога тянулась перед ними до самого горизонта. Мелькали кучи щебня, канавы, полные воды, расстилались широкие, однообразные поля холодного зеленого цвета, по небу бежали облака, то и дело моросил дождь. На третий день поднялась буря. Брезентовый верх, плохо привязанный, хлопал на ветру точно парус. Пекюше ежился, нахлобучив фуражку на нос, и всякий раз, открывая табакерку, поворачивался спиной к ветру, чтобы уберечь глаза. При сильных толчках он слышал, как перекатывается позади него вся их кладь, и надоедал проводнику советами. Увидев, что это не помогает, он переменил тактику: принял добродушный тон, шутил, угождал, помогал возчикам толкать фургон на крутых подъемах и даже угощал их кофеем с водкой после обеда. Тогда они покатили так резво, что, не доезжая Гобюржа, у них треснула ось, и повозка завалилась на бок. Пекюше тут же бросился проверять поклажу: фарфоровые чашки разбились вдребезги. Он простирал руки к небу, скрежетал зубами, осыпая проклятиями обоих болванов. Наутро кучер напился, и они потеряли целый день, но у Пекюше уже не хватало сил возмущаться: чаша горечи была переполнена.
Бувар выехал из Парижа только через день, так как ему захотелось еще раз отобедать с Барберу. Он примчался на почтовую станцию в последнюю минуту, а проснувшись, увидел перед собой Руанский собор: впопыхах он ошибся дилижансом.
Вечером все места на Кан были заняты; не зная, как убить время, Бувар пошел в театр. Там, любезно улыбаясь, он рассказывал соседям, что он – коммерсант, удалившийся от дел, владелец нового поместья в окрестностях города. Когда наконец он добрался до Кана, его багаж еще не прибыл. Получил он его лишь в воскресенье и отправил в Шавиньоль на телеге, известив фермера, что сам поедет следом через несколько часов.
В Фалезе на девятый день пути Пекюше нанял еще пристяжную, и до захода солнца лошади бежали рысью. Миновав Бретвиль, они свернули с большака на проселочную дорогу, и Пекюше все ждал, что вот-вот покажутся крыши Шавиньоля. Между тем колеи на проселке становились все мельче, наконец исчезли совсем, и фургон очутился среди вспаханного поля. Надвигалась темнота. Что делать? Пекюше слез с повозки и, шлепая по грязи, отправился на поиски. Когда он подходил ближе к фермам, на него лаяли собаки. Он кричал во все горло, прося показать дорогу. Никто не отвечал. Наконец ему стало страшно, и он побежал назад. Вдруг в темноте загорелись два фонаря. Пекюше разглядел коляску и бросился навстречу. В коляске сидел Бувар.







