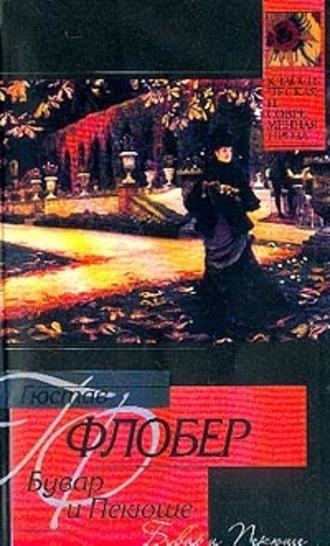
Гюстав Флобер
Бувар и Пекюше
В их саду цвели помаренник и ландыши; у этих мареновидных вовсе не было чашечки, таким образом, утверждение, начертанное на доске, оказывалось ошибочным.
– Это исключение, – заявил Пекюше.
Но им случайно, в траве, попалась шерардия, и у нее чашечка оказалась на месте.
– Вот тебе на! Уж если сами исключения неверны, так кому же верить?
Однажды во время прогулки они услышали крик павлинов, заглянули поверх забора и поначалу не узнали своей собственной фермы. Рига была покрыта черепичной кровлей, изгороди – новые, дорожки вымощены. Показался дядя Гуи:
– Возможно ли? Кого я вижу?
Как много событий случилось за три года, – между прочим, у него умерла жена! Сам же он был по-прежнему крепок, как дуб.
– Зайдите на минутку.
Было начало апреля; вокруг трех домиков раскинулись бело-розовые ветви цветущих яблонь. На синем небе не было ни облачка; во дворе на веревках висели простыни, скатерти, салфетки, вертикально прикрепленные деревянными зажимами. Дядюшка Гуи приподнимал их, чтобы можно было пройти, как вдруг они наткнулись на г-жу Борден, простоволосую, в домашней кофте, и Марианну с грудой белья в руках.
– Здравствуйте, господа! Будьте как дома! А я присяду, совсем с ног сбилась.
Фермер предложил выпить по стаканчику.
– Не сейчас, – сказала она, – мне и без того жарко.
Пекюше не отказался и вместе с дядей Гуи, Марианной и Виктором направился к погребку.
Бувар сел на землю возле г-жи Борден.
Ренту он получал исправно, жаловаться ему было не на что, и он уже не сердился на нее.
Лицо ее заливал яркий свет; одна из черных прядей спустилась у нее ниже других, а короткие завитки на затылке пристали к смуглой коже, влажной от испарины. При каждом вздохе груди ее приподнимались. Благоухание трав сливалось с нежным запахом ее крепкого тела, и Бувар почувствовал прилив чувственности, преисполнивший его радостью. Он стал расхваливать ее владения.
Комплименты привели ее в восторг, и она заговорила о своих планах.
Чтобы расширить двор, она намерена срыть насыпь.
Как раз в это время Викторина карабкалась по откосу – она собирала примулы, гиацинты и фиалки, не боясь старой кобылы, которая поблизости пощипывала траву.
– Не правда ли, она мила? – спросил Бувар.
– Еще бы! Маленькие девочки – всегда прелесть!
Вдова вздохнула, и в этом вздохе, казалось, излилось горе целой жизни.
– У вас могла бы быть дочка.
Вдова потупилась.
– Это зависело только от вас.
– Почему?
Он бросил на нее такой взгляд, что она покраснела, словно от грубой ласки, но тут же ответила, обмахиваясь платком:
– Опоздали, дорогой мой.
– Не понимаю.
Не поднимаясь с земли, он стал пододвигаться к ней.
Она долго смотрела на него сверху вниз, потом, устремив на него влажный взгляд и улыбаясь, сказала:
– Это ваша вина.
Простыни, висевшие вокруг, укрывали их, как занавески кровати.
Он склонился, облокотившись, и коснулся лицом ее колена.
– Чем же я виноват? Скажите, чем?
Она молчала, а он был в таком состоянии, когда за клятвами дело не станет, – поэтому он стал оправдываться, каялся в безрассудстве, гордыне:
– Простите! Будемте друзьями, как прежде. Хорошо?
Он взял ее руку, она не отнимала ее.
Сильный порыв ветра приподнял простыни, и перед ними оказались два павлина – самец и самка. Самка стояла неподвижно, подогнув ноги и приподняв зад. Самец прогуливался вокруг нее, распустил хвост, пыжился, квохтал, потом вспрыгнул на нее, пригнув перья, которые прикрыли ее, как полог, и обе огромные птицы затрепетали в единых содроганиях.
Бувар почувствовал такой же трепет в ладони г-жи Борден. Она быстро отняла руку. Перед ними стоял Виктор; он смотрел на них, разинув рот и как бы оцепенев; чуть подальше Викторина, раскинувшись на спине на самом солнцепеке, вдыхала аромат собранных ею цветов.
Старая кобыла, испуганная павлинами, метнулась в сторону, порвала одну из веревок, запуталась в ней и, помчавшись по трем дворам, потащила за собою белье.
На крик взбешенной г-жи Борден прибежала Марианна. Дядюшка Гуи бранил свою кобылу: «Черт бы тебя побрал, старая кляча! Мерзавка! Дура!»; он бил ее ногою в брюхо, колотил ручкой хлыста по ушам.
Бувар возмутился таким обращением с животным.
Крестьянин ответил:
– Имею полное право. Лошадь моя.
– Это еще не довод.
Подошедший Пекюше заметил, что и у животных есть права, ибо они наделены душой, как и мы, – если только душа существует.
– Вы нечестивец! – воскликнула г-жа Борден.
Ее приводили в отчаяние три обстоятельства: необходимость перестирать белье, оскорбление, нанесенное ее верованиям, и опасения, что ее только что застали в двусмысленной позе.
– Я думал, вы смелее, – сказал Бувар.
Она внушительно возразила:
– Не люблю озорников.
А Гуи обрушился на них, утверждая, что они искалечили его кобылу, – у нее из ноздрей шла кровь. Он ворчал себе под нос:
– Проклятые! Только и жди от них какой-нибудь пакости! Я как раз собирался ее запрячь.
Приятели удалились, негодуя.
Виктор спросил, за что они рассердились на Гуи.
– Он злоупотребляет силою, а это дурно.
– Почему дурно?
Неужели у детей совершенно нет понятия о справедливости? Может ли это быть?
В тот же вечер Пекюше, вооружившись кое-какими заметками и усадив справа от себя Бувара, а прямо перед собою – питомцев, приступил к курсу нравственности.
– Эта наука учит нас управлять своими поступками.
В основе поступков обычно лежит одно из двух побуждений: удовольствие или корысть; но есть еще и третье, самое властное: долг.
Долг бывает двоякого рода:
1. Долг по отношению к нам самим, и состоит он в уходе за телом, в ограждении себя от каких-либо неприятностей. Это дети поняли отлично.
2. Долг по отношению к другим, а это значит всегда быть честным, благожелательным и даже братски-отзывчивым, ибо род человеческий не что иное как единая семья. Зачастую нам бывает приятно то, что вредит окружающим; выгода отличается от добра, ибо добро самодовлеюще. Тут дети ничего не поняли. Вопрос о санкциях, диктуемых долгом, он отложил на следующий раз.
При всем том он, по мнению Бувара, не дал определения добра.
– А как, по-твоему, его определить? Его чувствуют.
В таком случае уроки нравственности годны только для людей нравственных, и курс Пекюше дальше не пошел.
Они стали читать детям небольшие рассказы, долженствовавшие внушить им любовь к добродетели. Виктор изнывал от скуки.
Чтобы воздействовать на его воображение, Пекюше повесил в его комнате картинки, изображавшие жизнь добродетельного человека и человека порочного.
Первый из них, Адольф, ласкался к матери, учил немецкий язык, помогал слепому и поступил в Политехнический институт.
А дурной, Эжен, в детстве не слушался отца, затеял драку в кабачке, бил жену, напивался мертвецки пьяным, взломал шкаф, а на последней картинке он был изображен уже на каторге, где некий господин, сопутствуемый юношей, говорил, указывая на него:
– Видишь, сын мой, как пагубно дурное поведение.
Но для детей будущее не существует. Сколько им ни вдалбливали истину: «Труд почетен, богачи порою бывают несчастны», – они знавали тружеников, отнюдь не пользовавшихся почетом, и вспоминали замок, где людям жилось, по-видимому, недурно.
Муки совести им расписывали с такими преувеличениями, что они чуяли тут какой-то подвох и начинали сомневаться во всем остальном.
Друзья пробовали воспитывать их, воздействуя на их самолюбие, на интерес к общественному мнению, на честолюбие; с этой целью им расхваливали великих деятелей, особенно людей, принесших человечеству пользу, вроде Бельзенса, Франклина, Жаккара. Виктор не проявлял ни малейшей охоты им подражать.
Однажды, когда он правильно решил задачку, Бувар пришил к его куртке ленточку, означавшую орден. Виктор щеголял ею, но стоило ему забыть обстоятельства смерти Генриха IV, как Пекюше нахлобучил на него ослиный колпак. Мальчишка принялся реветь по-ослиному, да так пронзительно и долго, что пришлось избавить его от ослиных ушей.
Сестра его, как и он, гордилась похвалой, зато была совершенно равнодушна к порицанию.
Чтобы развить у них чувствительность, им подарили черного кота, за которым они должны были ухаживать, и выдавали им по два-три су для раздачи нищим. Они находили это несправедливым – деньги они считали своей собственностью.
По желанию воспитателей, дети называли Бувара «дядюшкой», а Пекюше – «дружочком», но обращались к ним на ты, и половина учебного времени обычно проходила в препирательствах.
Викторина изводила Марселя; она залезала ему на спину, дергала за вихры, она подшучивала над его заячьей губой и, передразнивая его, гнусавила, а бедняга так любил ее, что не решался жаловаться. Как-то вечером его хриплый голос раздался непривычно громко. Бувар и Пекюше побежали в кухню. Оба воспитанника уставились на очаг, а Марсель, сложив руки, восклицал:
– Вытащите его! Довольно! Довольно!
Крышка котла взлетела, словно разорвавшаяся бомба. Какая-то сероватая масса подскочила до самого потолка, потом стала дико, с отвратительным криком, вертеться волчком.
Бувар и Пекюше узнали кошку – ободранную, без шерсти, – хвост ее превратился в веревку, глаза готовы были выскочить из орбит – они были молочно-белые, как бы пустые, но все-таки смотрели.
Безобразное животное продолжало выть, бросилось в очаг, исчезло в нем, потом замертво свалилось в золу.
Эту чудовищную жестокость совершил Виктор. Приятели отпрянули, побледнев от изумления и ужаса. На упреки тот отвечал, как стражник, когда ему говорили о сыне, и как фермер, когда речь шла о лошади:
– А что ж тут такого? Ведь она моя. – И говорил он без тени смущения, простодушно, невозмутимо, как существо, утолившее свой инстинкт.
Пол был залит кипятком из котла; на каменных плитах валялись миски, щипцы, подсвечники.
Марсель усердно занялся уборкой кухни; с его помощью хозяева похоронили несчастного кота в саду, возле пагоды.
Потом Бувар и Пекюше долго говорили о Викторе. В нем сказывалась отцовская кровь. Как же быть? Вернуть его де Фавержу или доверить еще кому-нибудь значило бы признать свое бессилие. А может быть, он исправится?
Как бы то ни было, надежды было мало, нежное чувство к нему исчезло. А ведь как приятно было бы иметь возле себя подростка, интересующегося твоими мыслями, наблюдать за его успехами и чувствовать, что со временем он станет тебе другом! Но у Виктора недоставало ума, а сердца и подавно. Пекюше вздохнул, обхватив руками колено.
– И сестра его не лучше, – заметил Бувар.
Он представил себе девочку лет пятнадцати, с нежной душой, веселого нрава, украшающую дом своею юностью и изяществом, и, словно то была его дочь и она вдруг умерла, заплакал.
Потом, пытаясь оправдать Виктора, он сослался на слова Руссо: «Ребенок не несет никакой ответственности, он не может быть ни нравственным, ни безнравственным».
А по мнению Пекюше, их питомцы находятся уже в сознательном возрасте, и они стали обсуждать, как их исправить. Чтобы наказание принесло пользу, говорит Бентам, – оно должно соответствовать проступку, которым оно вызвано. Если ребенок разбил стекло в окне, не надо вставлять новое: пусть страдает от холода; если, уже насытившись, он просит еще какого-нибудь кушанья – дайте ему; расстройство желудка не замедлит вызвать у него раскаяние. Если он ленив, пусть сидит без дела: скука заставит его взяться за работу.
Но Виктор не стал бы страдать от холода – организм его мог выдержать любые крайности, а безделье было бы ему только на руку.
Педагоги остановились на противоположной системе оздоровительных наказаний: стали задавать дополнительные уроки – мальчик становился еще ленивее: его лишали сластей – он делался еще большим лакомкой. Может быть, принесет пользу ирония? Однажды он явился к завтраку с грязными руками; Бувар принялся высмеивать его, назвал его щеголем, модником, франтом. Виктор слушал, насупившись, потом вдруг побледнел и швырнул в Бувара тарелкой; потом, взбешенный тем, что промахнулся, бросился на него. Троим мужчинам еле удалось унять его. Он катался по земле, пытался их укусить. Пекюше издали вылил на него графин воды; он сразу утихомирился, но на два дня охрип. Средство оказалось негодным.
Они попробовали другое: при малейшем проявлении гнева они стали обращаться с ним как с больным, укладывали его в постель; Виктор чувствовал себя в ней отлично и целыми днями распевал. Однажды он обнаружил в библиотеке старый кокосовый орех и уже принялся раскалывать его, как вдруг появился Пекюше:
– Мой орех!
То была памятка о Дюмушеле! Он привез его в Шавиньоль из Парижа; Пекюше в негодовании всплеснул руками. Виктор расхохотался. «Дружок» вышел из себя и дал ему такую затрещину, что тот кувырнулся в угол; затем Пекюше, дрожа от волнения, пошел жаловаться Бувару.
Бувар разбранил его:
– Дурак ты со своим кокосом! От побоев только тупеют, страх озлобляет. Ты сам себя унижаешь.
Пекюше возразил, что в некоторых случаях телесные наказания необходимы. К ним прибегал Песталоцци, а знаменитый Меланхтон признается, что без них ничему бы не научился. Но жестокие наказания могут довести детей до самоубийства – такие случаи упоминаются в литературе. Виктор забаррикадировался в своей комнате. Бувар стал вести с ним переговоры через дверь и, чтобы он отпер ее, посулил пирожок со сливами.
Мальчишка становился все несноснее.
Они вспомнили средство, предложенное епископом Дюпанлу: «Суровый взгляд». Они тщились придать своим лицам свирепое выражение, но никакого эффекта не добились.
– Остается испробовать религию, – сказал Бувар.
Пекюше возмутился. Ведь они исключили ее из своей программы.
Но доводы разума пригодны не для всех случаев. Сердце и воображение требуют иного. Для некоторых душ сверхъестественное необходимо, и они решили отправить детей на уроки катехизиса.
Рен вызвалась провожать их. Она снова стала их навещать и расположила к себе детей ласковым обращением.
Викторина сразу изменилась, стала сдержанной, слащавой, преклоняла колени перед Мадонной, восторгалась жертвоприношением Авраама, презрительно усмехалась, когда речь заходила о протестантах.
Она объявила, что ей велено поститься, – они справились; оказалось, что это неправда. В праздник Тела Христова с одной из клумб исчезли ночные фиалки – ими был украшен переносный престол; девочка бессовестно отрицала, что сорвала их. В другой раз она стащила у Бувара двадцать су и за всенощной положила их на тарелку пономарю.
Они заключили из этого, что нравственность расходится с религией; если у нее нет дополнительных основ, ее значение второстепенно.
Как-то вечером, когда они обедали, к ним зашел Мареско; при виде его Виктор скрылся.
Нотариус отказался присесть и пояснил, что его привело: Виктор поколотил и чуть не убил его сына.
Происхождение маленького Туаша было общеизвестно, вдобавок все его недолюбливали, мальчишки называли его каторжником, а теперь он до того обнаглел, что избил Арнольда Мареско. У милого Арнольда на теле остались следы.
– Мать его в отчаянии, костюм разорван в клочья, нанесен ущерб здоровью! К чему это приведет в дальнейшем?
Нотариус требовал сурового наказания и настаивал на том, чтобы Виктора во избежание новых стычек больше не пускали на уроки катехизиса.
Бувар и Пекюше, хоть и сильно задетые его высокомерным тоном, обещали удовлетворить все его претензии, со всем согласились.
Что побудило Виктора к такому поступку: чувство собственного достоинства или жажда мести? Во всяком случае, он не трус.
Но грубость мальчишки пугала их; музыка смягчает нравы, и Пекюше вздумал обучать его сольфеджио.
Виктор с немалым трудом научился читать ноты и не путать термины адажио, престо и сфорцандо.
Учитель постарался объяснить ему, что такое гамма, полный аккорд, диатоническая гамма, хроматическая и два вида интервалов, именуемых мажором и минором.
Он заставлял его сидеть совершенно прямо, выпятив грудь, опустив плечи и широко раскрыв рот, и, показывая ему пример, издавал фальшивые звуки; голос Виктора с трудом вырывался из гортани – так он сжимал ее; если такт начинался с паузы, мальчик либо вступал преждевременно, либо опаздывал.
Тем не менее Пекюше приступил к двуголосному пению. Он вооружился палочкой, заменявшей ему смычок, и величественно размахивал рукою, словно позади него был целый оркестр. Однако, занятый одновременно двумя делами, он порою сбивался со счета, а его ошибка влекла за собою ошибки ученика; невзирая на них, насупившись, напрягши шейные мускулы, они продолжали петь до конца страницы.
Наконец Пекюше сказал Виктору:
– Тебе не блистать в хоре.
И на этом обучение музыке закончилось.
К тому же Локк, быть может, и прав: «Музыка вовлекает человека в такие распутные компании, что предпочтительнее заниматься чем-нибудь другим».
Не собираясь сделать из Виктора литератора, они все же подумали, что неплохо было бы ему научиться писать письма. Но тут их остановило такое соображение: эпистолярному стилю научиться нельзя, ибо он является исключительным достоянием женщин.
Затем они решили обогатить его память несколькими литературными отрывками и, затрудняясь в выборе, обратились к помощи сочинения г-жи Кампан. Она рекомендует сцену Элиасена, хоры из Эсфири, Жана-Батиста Руссо – целиком.
Все это старовато. А что до романов, – то она их вообще запрещает, потому что они изображают мир в чересчур привлекательном свете.
Впрочем, она разрешает Клариссу Гарлоу и Отца семейства мисс Опи. А кто такая мисс Опи?
В Биографиях Мишо они ее имени не обнаружили. Оставались волшебные сказки.
– Они станут мечтать об алмазных замках, – сказал Пекюше. – Литература развивает ум, зато распаляет страсти.
Именно за страсти Викторину прогнали с уроков катехизиса. Ее застигли в тот момент, когда она целовала сына нотариуса, и Рен отнюдь не шутила: лицо ее, под чепцом с крупными оборками, было вполне серьезно.
Можно ли после такого срама держать в доме эту развратную девчонку?
Бувар и Пекюше обозвали кюре старым дураком. Служанка защищала его, ворча:
– Знаем мы вас! Знаем!
Они дали ей отпор, и она удалилась, сердито тараща глаза.
Викторина и в самом деле питала нежные чувства к Арнольду; он казался ей красавцем: он ходил в бархатной куртке с вышитым воротничком, волосы у него были надушены, и, пока ее не выдал Зефирен, она постоянно приносила ему букеты цветов.
Что за вздор вся эта история, – ведь они еще совсем дети!
Следует ли открыть им тайну деторождения?
– Не вижу в этом ничего дурного, – сказал Бувар. – Философ Базедов объяснял ее своим ученикам, ограничиваясь, правда, только беременностью и родами.
Пекюше придерживался иного мнения. Виктор начинал беспокоить его.
Он подозревал его в дурной привычке. Что ж, вполне возможно. Случается, что даже солидные люди предаются ей всю жизнь; говорят, будто не чужд ей был и герцог Ангулемский.
Он стал так настойчиво расспрашивать своего питомца, что навел того на некоторые мысли, и вскоре все его сомнения рассеялись.
Тут он обозвал его преступником и с воспитательной целью заставил прочесть сочинение Тиссо. По мнению же Бувара, шедевр этот не столь полезен, сколь опасен. Лучше внушить мальчику какое-нибудь поэтическое чувство: Эме Мартен рассказывает, что некая мать в подобном случае дала своему сыну «Новую Элоизу», и юноша, желая стать достойным любви, вступил на стезю добродетели.
Но Виктор был не из тех, кто способен мечтать о какой-то Софи.
Не лучше ли отвести его к девицам?
У Пекюше публичные женщины вызывали глубокое отвращение.
Бувар считал, что это глупо, и даже заикнулся о специальной поездке в Гавр.
– Ты понимаешь, что говоришь? Если увидят, как мы туда входим…
– Ну так купи ему прибор.
– Бандажист может подумать, что я покупаю для самого себя, – возразил Пекюше.
Следовало бы придумать для мальчишки какое-нибудь увлекательное развлечение вроде охоты, что ли, но тогда придется потратиться на ружье, на собаку. Они предпочли утомлять его ходьбой и стали совершать прогулки по окрестностям.
Они сменяли друг друга, но мальчишка от них удирал; зато сами они так уставали, что вечером у них не хватало сил держать в руках газету.
Дожидаясь Виктора, они беседовали с прохожими и в педагогическом рвении старались внушить им основы гигиены, сокрушались по поводу излишнего расходования воды и неэкономного обращения с навозом, громили предрассудки вроде чучела дрозда на гумне, освященной ветки самшита в хлеву, мешка с червями, который кладут к ногам страдающего лихорадкой.
Дошло до того, что они стали проверять кормилиц и возмущались тем, как ухаживают за младенцами; одни кормят их кашицей, от которой дети хиреют и гибнут; другие еще до шестимесячного возраста пичкают их мясом, и те мрут от несварения, многие утирают их собственной слюной, и все обращаются с ними варварски.
Если они видели над воротами пригвожденную сову, они выходили на ферму и говорили:
– Напрасно вы так поступаете; совы питаются крысами, полевыми мышами; в желудке одного сыча нашли множество личинок гусениц.
Сельские жители хорошо знали их, во-первых, как лекарей, во-вторых, как скупщиков старинной утвари, наконец, как собирателей камушков, и поэтому отвечали:
– Бросьте вы шутки шутить! Хватит с нас ваших чудачеств!
Их уверенность была поколеблена. Ведь воробьи очищают огороды, зато клюют вишни; совы пожирают насекомых, но также и летучих мышей, которые приносят пользу, и если кроты едят слизняков, то вместе с тем они и разворачивают почву. Единственное, в чем они были уверены, – это в том, что надо уничтожить всю дичь, ибо она вредит сельскому хозяйству.
Однажды вечером, гуляя в Фавержском лесу, они оказались возле охотничьего домика и увидели егеря Сореля, – он стоял у обочины с тремя мужчинами и возбужденно размахивал руками.
Один из них был сапожник Дофен, маленький, щупленький, с хмурой физиономией. Второй, папаша Обен, сельский посредник, был одет в поношенный желтый сюртук и синие тиковые брюки. Третий, Эжен, лакей Мареско, выделялся своей бородой, подстриженной, как у судейских.
Сорель показывал им затяжную петлю из медной проволоки на шелковом шнуре, с кирпичом на конце, то есть то, что называется силком; он застал сапожника за установкой этого приспособления.
– Вы свидетели, не правда ли?
Эжен утвердительно кивнул головой, а папаша Обен молвил:
– Раз уж вы так говорите.
Особенно злило Сореля то, что негодяй имел дерзость расставить западню около его дома в расчете, что никому не придет в голову искать ее тут.
Дофен захныкал:
– Я наступил на нее, я даже норовил ее сломать.
Вечно его обвиняют, все обижают его, несчастный он человек!
Сорель, ни слова не отвечая, вынул из кармана записную книжку, перо и чернильницу, намереваясь составить протокол.
– Нет, зачем же! – сказал Пекюше.
Бувар добавил:
– Отпустите его, он славный малый!
– Славный малый? Браконьер?
– Ну и что же?
Они стали заступаться за браконьеров: как известно, кролики грызут поросль, зайцы приносят вред нивам, один только бекас, пожалуй…
– Оставьте меня в покое.
Егерь писал, стиснув зубы.
– Вот упрямец! – прошептал Бувар.
– Еще слово – и я вызову жандармов.
– Вы грубиян! – крикнул Пекюше.
– А вы не такие уж важные птицы, – отрезал Сорель.
Бувар вышел из себя, обозвал его тупицей, солдафоном, а Эжен твердил:
– Спокойнее! Спокойнее! Надо уважать закон!
Папаша Обен вздыхал, сидя на камнях в трех шагах от них.
Перепалка взбудоражила собак, и все они выскочили из своих конур; за оградой видно было, как они носятся во все стороны и как горят глаза на их черных мордах; поднялся страшный лай.
– Перестаньте морочить мне голову, – вскричал хозяин, – иначе я спущу собак, и у вас от штанов останутся одни лохмотья!
Друзья удалились, но все же они были довольны, что поддержали прогресс, цивилизацию.
На другой день они получили повестки с приглашением явиться в полицию в связи с оскорблениями, нанесенными сторожу; им будет объявлено о взыскании с них проторей и убытков, «не считая штрафа в порядке прокурорского надзора за совершенные правонарушения. Стоимость повестки шесть франков семьдесят пять сантимов. Судебный пристав Тьерслен».
При чем тут прокурорский надзор? У них голова пошла кругом; немного успокоившись, они стали готовиться к защите.
В назначенный день Бувар и Пекюше явились в мэрию часом раньше. Ни души; вокруг овального стола, накрытого скатертью, стояли стулья и три кресла; в стене была ниша для печки, а надо всем возвышался стоявший на подставке бюст императора.
Они прошлись по зданию вплоть до чердака, где валялись пожарный насос, несколько знамен, а в уголке, прямо на полу, громоздились другие гипсовые бюсты: великий Наполеон без короны, Людовик XVIII в мундире с эполетами, Карл X, которого легко было узнать по оттопыренной губе, Луи Филипп с бровями дугой и пирамидообразной прической; покатая крыша касалась его темени. Все было засижено мухами и покрыто слоем пыли. Зрелище это повергло Бувара и Пекюше в уныние. Они вернулись в зал с чувством презрения ко всем правительствам.
Здесь они застали Сореля и стражника; один был с нашивкой на рукаве, другой в кепи. Человек двенадцать присутствующих беседовали между собой; всем им вменялось в вину какое-нибудь нарушение порядка – кто плохо подметал улицу, кто выпускал собак без присмотра, другие ездили в повозках без фонарей или не закрывали трактиры во время мессы.
Наконец появился Кулон, выряженный в черную саржевую мантию и круглую шапочку с бархатной оторочкой. Писарь поместился слева от него, мэр с перевязью – справа. Вскоре приступили к разбирательству иска Сореля к Бувару и Пекюше.
Луи Марсиаль Эжен Леневер, служивший лакеем в Шавиньоле (Кальвадос), воспользовался своим положением свидетеля, чтобы выложить все, что он знает относительно множества вещей, не имеющих никакого отношения к делу.
Мастеровой Никола Юст Обен боялся не угодить Сорелю и повредить господам; ругательства он слышал, но все-таки не совсем в этом уверен; он ссылался на свою глухоту.
Мировой судья велел ему сесть, потом обратился к стражнику:
– Вы настаиваете на своем заявлении?
– Разумеется.
Затем Кулон спросил у обвиняемых, что они могут показать.
Бувар утверждал, что не оскорблял Сореля; заступаясь за браконьера, он только защищал интересы крестьян; он напомнил о злоупотреблениях в феодальные времена, о разорительных охотах знати.
– Однако нарушение…
– Я протестую! – воскликнул Пекюше. – Словам «нарушение», «проступок», «преступление» – грош цена. Так классифицировать наказуемые действия – значит становиться на путь произвола. Это все равно что сказать гражданам: «Не беспокойтесь о значении своих поступков, оно определяется только карою, налагаемой властями». Да и вообще Уголовный кодекс представляется мне нелепым, необоснованным.
– Возможно, – заметил Кулон.
Он собрался объявить свое решение, но тут представитель прокурорского надзора Фуро поднялся с места. Сторожу нанесено оскорбление при исполнении им служебных обязанностей. Если перестанут уважать земельную собственность – все погибло.
– Поэтому я призываю господина судью применить высшую меру наказания, предусмотренного в данных обстоятельствах.
Это равнялось десяти франкам, которые полагались Сорелю в возмещение понесенного убытка.
– Браво! – воскликнул Бувар.
Кулон еще не договорил:
– Обвиняемые присуждаются, кроме того, к штрафу в сумме пяти франков как виновные в правонарушении, установленном прокуратурой.
Пекюше обратился к присутствующим:
– Для богатого человека штраф – пустяк, но для бедняка – разорение. А мне на него наплевать.
Он словно издевался над судом.
– Право же, я удивляюсь, как умные люди… – начал было Кулон.
– Закон освобождает вас от необходимости обладать умом, – ответил Пекюше. – Мировой судья исполняет свои обязанности неопределенный срок, судья верховного суда считается способным судить до семидесяти пяти лет, а судья первой инстанции только до семидесяти.
Но тут Фуро сделал знак Плаквану, и тот подошел к ним. Они запротестовали.
– Вот если бы судей назначали по конкурсу!
– Или назначил Государственный совет!
– Или собрание доверенных, после основательного обсуждения!
Плакван подталкивал их к выходу, и они удалились под улюлюканье остальных обвиняемых, которые надеялись подхалимством снискать расположение судьи.
Чтобы дать выход своему негодованию, друзья вечером отправились к Бельжамбу; в кабачке было уже пусто, ибо солидные посетители обычно расходятся часов в десять. Огонь лампы был приспущен, стены и стойка как бы тонули во мгле; вошла женщина. То была Мели.
Она, видимо, не чувствовала ни малейшей неловкости и, улыбаясь, налила им два бокала. Пекюше стало не по себе, и он поспешил удалиться.
Бувар вскоре снова отправился туда один; он позабавил нескольких обывателей выпадами против мэра и с того вечера стал частенько посещать кабачок.
Полтора месяца спустя с Дофена обвинение было снято за отсутствием улик. Какой срам! Опорочены были те самые свидетели, которым поверили, когда они выступали против Бувара и Пекюше.
Их негодование стало беспредельным, когда им напомнили о необходимости уплатить штраф. Бувар стал поносить казначейство, как учреждение, причиняющее вред собственности.
– Ошибаетесь! – ответил чиновник казначейства.
– Полноте! Оно собирает треть общественных повинностей.
– Хотелось бы, чтобы налоги были менее обременительными, кадастр усовершенствован, чтобы ипотечная система была изменена, а Государственный банк вовсе упразднен, ибо он занимается ростовщичеством.
Жирбаль растерялся, упал в общественном мнении и больше не появлялся.
Между тем Бувар пришелся трактирщику по душе; он привлекал посетителей, а в ожидании завсегдатаев запросто беседовал со служанкой.
Он высказал несколько любопытных мыслей относительно начальной школы. По окончании школы молодежь должна уметь лечить больных, разбираться в научных открытиях, интересоваться искусствами. Непомерные его требования рассорили его с Пти, а капитана он обидел, заявив, что вместо того, чтобы тратить время на муштровку, лучше бы солдаты выращивали овощи.
Когда возник вопрос о свободе торговли, он привел с собою Пекюше. И всю зиму завсегдатаи трактира обменивались негодующими взглядами, презрительными улыбками, бранились, кричали и так стучали кулаком по столу, что подпрыгивали бутылки.
Ланглуа и прочие торговцы отстаивали отечественную коммерцию, прядильщик Удо и ювелир Матье – отечественную промышленность, землевладельцы и фермеры – отечественное сельское хозяйство, причем каждый требовал для себя льгот в ущерб большинству. Речи Бувара и Пекюше настораживали.
В ответ на обвинения в том, что они не соблюдают церковных обрядов, призывают к нивелировке и безнравственности, они выставляли три предложения: заменить все фамилии регистрационными номерами; ввести для французов определенную иерархию, причем для того, чтобы сохранить свой ранг, надо будет время от времени подвергаться испытанию; отменить все наказания и награды, зато ввести во всех деревнях личные листы о поведении, которые затем передавать потомкам.







