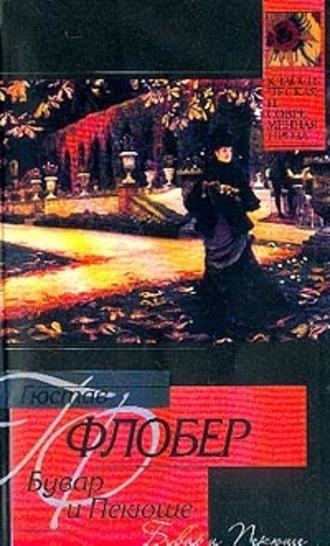
Гюстав Флобер
Бувар и Пекюше
Он узнал все же, что существует очищение активное и очищение пассивное, видение внутреннее и видение внешнее, четыре вида молитвы, девять совершенств в области любви, шесть ступеней в смирении и что нанесение душевной раны мало чем отличается от святотатства.
Некоторые пункты смущали его.
Раз плоть проклята, почему же надо благодарить Создателя за то, что нам дарована жизнь? Какого соотношения следует придерживаться между страхом, необходимым для спасения, и надеждой, которая столь же необходима? В чем надо видеть знамение благодати? И т. д.
Ответы аббата Жефруа были просты:
– Не мучайте себя. Стремясь углубить любой вопрос, человек оказывается на опасной дорожке.
«Катехизис постоянства» Гома настолько опротивел Бувару, что он взялся за сочинение Луи Эрвье. Это был краткий курс современной экзегетики, запрещенный правительством. Барберу купил его, так как был республиканцем.
Книга внушила Бувару некоторые сомнения, и прежде всего относительно первородного греха.
– Если Бог создал человека грешным, то он не должен был его наказывать; зло существовало еще до грехопадения, раз тогда уже были вулканы, хищные звери. Словом, этот догмат опрокидывает все мои представления о справедливости.
– Что же вам на это сказать? – отвечал кюре. – Это одна из тех истин, которую все принимают, хотя доказать ее невозможно. Мы сами вымещаем на детях прегрешения отцов. Таким образом, и нравы, и законы подтверждают эту волю провидения; она проявляется и в природе.
Бувар покачал головой. Ад тоже вызывал у него сомнение.
– Всякая кара должна быть направлена на исправление виновника, а это невозможно, если наказание будет вечным. Между тем сколько душ осуждено на вечные муки! Подумайте только – все жившие до Христа, евреи, мусульмане, язычники, еретики и дети, умершие до крещения, дети, сотворенные Богом, и с какой целью? Чтобы покарать их за грех, которого они не совершали!
– Таково мнение Блаженного Августина, – сказал священник, – а святой Фульгенций считает, что проклятие распространяется даже на зародыши. Церковь, правда, не высказалась на этот счет. Все же надо сделать следующее замечание: проклятие налагается не Богом, но самим грешником, а так как оскорбление бесконечно, поскольку Бог бесконечен, то и кара должна быть вечной. Это все, что вы хотели спросить?
– Объясните мне триединство, – сказал Бувар.
– Охотно. Прибегнем к сравнению: возьмем стороны треугольника, или, вернее, нашу душу, содержащую в себе три начала – бытие, познание и волю. То, что у человека именуется свойством, у Бога является лицом. Вот в этом и заключается тайна.
– Но каждая из сторон треугольника сама по себе еще не треугольник; три свойства души не составляют три души, а у вас Троица – это три бога.
– Богохульство!
– В таком случае есть только одно лицо, один Бог, субстанция, воспринимаемая трояко.
– Будем верить, не пытаясь понять, – сказал кюре.
– Ну что ж, – сказал Бувар.
Он боялся прослыть безбожником, вызвать неудовольствие в замке.
Теперь они приходили сюда три раза в неделю, зимой, часам к пяти, и согревались за чашкой чая. Граф своим обхождением напоминал «изысканность старого двора»; графиня, толстая и благодушная, обо всем судила весьма здраво. Мадемуазель Иоланда, их дочь, представляла собою «идеал девушки», ангела из модных альбомов, а г-жа де Ноар, их компаньонка, напоминала Пекюше – у нее был такой же заостренный нос.
Когда они впервые входили в гостиную, она за кого-то заступалась.
– Он изменился, уверяю вас. Доказательством тому его подарок.
Этот «кто-то» был Горжю. Он только что преподнес будущим супругам готический аналой. Подарок принесли в гостиную. Он был украшен цветными рельефными гербами обоих семейств. Г-ну де Маюро он, видимо, понравился; г-жа де Ноар сказала, обращаясь к жениху:
– Вы не забудете моего подопечного?
Затем она привела в гостиную двух детей – мальчишку лет двенадцати и его сестренку, которой было, пожалуй, лет десять. Сквозь дырки их рубища виднелось тело, покрасневшее от стужи. На одном были старые туфли, на другой – только одно сабо. Лбы у них были скрыты копнами волос; они дико озирались вокруг, блестя горящими глазами, как испуганные волчата.
Госпожа де Ноар сказала, что они попались ей утром на большой дороге. Плакван не мог сообщить о них никаких сведений.
Спросили, как их зовут.
– Виктор, Викторина.
– Где их отец?
– В тюрьме.
– А до этого чем он занимался?
– Ничем.
– Откуда они родом?
– Из Сен-Пьера.
– Из какого Сен-Пьера?
Вместо ответа малыши твердили, посапывая:
– Не знаю, не знаю.
Мать их умерла, и они побирались.
Госпожа де Ноар стала рассуждать о том, какие бедствия грозят им в будущем, если оставить их на произвол судьбы; она растрогала графиню, задела чувство чести у графа; склонив на свою сторону мадемуазель, она проявила настойчивость и одержала победу. Заботу о них возьмет на себя жена егеря. Со временем им подыщут работу, а сейчас, поскольку они не умеют ни читать, ни писать, г-жа де Ноар сама будет заниматься с ними, чтобы подготовить их к урокам катехизиса.
Когда в замок приходил аббат Жефруа, посылали за ребятишками; он спрашивал их, потом давал им наставление, причем, принимая во внимание присутствующих, делал это не без расчета на эффект.
Однажды он рассказал им о патриархах; уходя из замка вместе с аббатом и с Пекюше, Бувар резко напал на них.
Иаков был склонен к плутням, Давид совершал убийства, Соломон предавался разгулу.
Аббат возразил, что надо смотреть шире. Жертвоприношение Авраама есть образ страстей Христовых, Иаков является одним из образов Мессии так же, как и Иосиф, медный змий, Моисей.
– Вы думаете, именно он сочинил Пятикнижие? – спросил Бувар.
– Да, несомненно.
– А ведь там описывается его смерть. То же замечание можно сделать насчет Иисуса Навина, а что касается Книги Судей, то автор ее предупреждает, что во времена, которые он описывает, у евреев еще не было царей. Следовательно, он писал при царях. Удивляют меня также и пророки.
– Теперь вы начнете отрицать пророков!
– Вовсе нет! Но их распаленному воображению Иегова представлялся в различных обликах – огня, купины, старца, голубя, и сами они были не вполне уверены в откровении, раз требовали все новых знамений.
– Где же это вы почерпнули столь высокоумные мысли?
– У Спинозы.
При этом имени кюре подскочил.
– Вы его читали? – спросил Бувар.
– Избави Боже!
– Однако наука…
– Нельзя быть ученым, не будучи христианином.
К науке он относился саркастически.
– Может ваша наука произвести на свет хоть один колос? И вообще, что мы знаем? – говорил он.
Зато он знал, что мир создан для нас; знал, что архангелы выше ангелов; знал, что тело человека воскреснет в том виде, каким оно было годам к тридцати.
Его пастырская самоуверенность раздражала Бувара, и он, не доверяя Луи Эрвье, обратился с письмом к Варло. А Пекюше, более осведомленный, попросил у Жефруа объяснений насчет Священного Писания.
Шесть дней, о которых говорится в Книге Бытия, означают шесть великих эпох. Драгоценные сосуды, похищенные евреями у египтян, означают духовные богатства, ремесла, тайну которых они похитили. Исайя не разделся донага, ибо nudus по-латыни означает «обнаженный до пояса»; Вергилий советует именно так обнажаться, когда пашешь, а этот поэт не стал бы предписывать непристойность. Нет ничего необыкновенного в том, что Езекииль пожирал книгу; ведь мы же говорим: «пожирать брошюру, газету».
Но если всюду видеть одни метафоры, то что же станется с фактами? Между тем аббат отстаивал их подлинность.
Такое их истолкование показалось Пекюше нечестным. Он углубился в разыскания и принес статью о противоречиях в Библии.
Исход говорит, что в течение сорока лет жертвоприношения совершались в пустыне, а по Амосу и Иеремии их вообще не совершали. Книги Паралипоменон и Ездры расходятся между собою в исчислении народа. Во Второзаконии Моисей видит Господа лицом к лицу, по Исходу же видеть его ему не удалось. Где же в таком случае боговдохновенность?
– Это только лишний повод, чтобы признать ее, – возразил Жефруа, улыбнувшись. – Обманщикам приходится сговариваться друг с другом, правдивым этого не требуется. Если душа наша смущена, прибегнем к помощи церкви. Она всегда непогрешима.
Кому присуща непогрешимость?
Базельский и Констанцский соборы приписывают ее соборам. Но соборы часто противоречат один другому – примером может служить их отношение к Афанасию и Арию; соборы Флорентийский и Латеранский считают непогрешимым папу. Между тем Адриан VI объявил, что папа может ошибаться, как и всякий другой.
Это – крючкотворство, и оно никак не может поколебать незыблемость догматов.
В книге Луи Эрвье приведены случаи их видоизменения: некогда крещение предназначалось только для взрослых, соборование стало таинством лишь в одиннадцатом веке; преосуществление было декретировано в тринадцатом веке, чистилище признано в пятнадцатом, а непорочное зачатие совсем недавно.
В конце концов Пекюше так запутался, что не знал, что и думать о Христе. Три Евангелия изображают его человеком. У апостола Иоанна в одном месте он как бы равен Богу, в другом месте того же Евангелия он признает себя ниже его.
Аббат возражал, ссылаясь на послание царя Абгара, на действия Пилата и на свидетельство сивилл, «которое в существе своем истинно». Пекюше напоминал, что образ Девы можно найти у галлов, предвестие искупителя – в Китае, Троицу – всюду, крест – на шапке далай-ламы, в Египте – в руках богов; он даже показал аббату гравюру с изображением ниломера, представлявшего собою, по мнению Пекюше, фаллос.
Жефруа тайком обращался за советами к своему другу Прюно, и тот отыскивал ему в литературе требуемые доказательства. Разгорелась ученая война, и Пекюше, подстегиваемый самолюбием, заделался трансценденталистом, мифологом.
Он сравнивал Богоматерь с Изидой, евхаристию с хаома персов, Вакха с Моисеем, Ноев ковчег с кораблем Кситура; по его мнению, такие черты сходства доказывают тождество всех религий.
Но не может быть нескольких религий, поскольку есть только один Бог. Исчерпав все доводы, человек в сутане восклицал:
– Это тайна!
Что означает это слово? Недостаточность знаний? Отлично! Но если оно означает нечто, в самом определении которого заключено противоречие, то это уже бессмыслица. И теперь Пекюше не оставлял в покое аббата; он настигал его в саду, поджидал возле исповедальни, следовал за ним в ризницу.
Священник придумывал всевозможные уловки, чтобы спастись от него.
Однажды, когда он отправился в Сасето, чтобы причастить кого-то, Пекюше вышел на дорогу, рассчитывая, что аббату не удастся уклониться от разговора.
Это произошло вечером, в конце августа. Алое небо потемнело, набежала огромная туча, ровная внизу, с нагромождением завитков в верхних слоях.
Сначала Пекюше поговорил о вещах безразличных, потом, ввернув как бы ненароком слово «мученик», спросил:
– Сколько их было, по-вашему?
– Миллионов двадцать по крайней мере.
– Ориген говорит, что меньше.
– Ну, знаете ли, Оригену доверяться нельзя.
Пронесся резкий порыв ветра, склонивший траву в оврагах и оба ряда вязов, тянувшиеся до самого горизонта.
Пекюше продолжал:
– К мученикам причислено много галльских епископов, убитых в стычках с варварами, а это уже к делу не относится.
– Уж не собираетесь ли вы защищать императоров?
Пекюше считал, что их оклеветали.
– История фиванского легиона – выдумка. Я не признаю также Симфоросу и ее семь сыновей, Фелицитату и ее семь дочерей, семь анкирских девственниц, приговоренных к изнасилованию несмотря на свой семидесятилетний возраст, и одиннадцать тысяч дев святой Урсулы, из коих одну называют именем, принятым за число Undecemilla,[7] не признаю и десять мучеников из Александрии.
– Позвольте… Позвольте… Ведь их упоминают писатели, вполне достойные доверия.
Упало несколько капель дождя. Кюре раскрыл зонтик, и они оказались под его защитой. Пекюше осмелился заметить, что католики создали куда больше мучеников среди евреев, мусульман, протестантов и вольнодумцев, чем в древности римляне.
Священник воскликнул:
– Но ведь только за время от Нерона до Цезаря Гальбы насчитывают десять гонений!
– Ну, а избиение альбигойцев? А Варфоломеевская ночь? А отмена Нантского эдикта?
– Все это, конечно, прискорбные крайности, однако не станете же вы равнять этих пострадавших со святым Стефаном, святым Лаврентием, Киприаном, Поликарпом и множеством миссионеров?
– Простите! Я напомню вам Ипатию, Иеронима Пражского, Яна Гуса, Бруно, Ванини, Ана Дюбура!
Дождь усиливался, и его струи низвергались с такою силою, что отскакивали от земли в виде маленьких белых ракет. Пекюше и Жефруа медленно шли, прижавшись друг к другу, и кюре говорил:
– После чудовищных пыток их бросали в котлы!
– Такие пытки применяла инквизиция и тоже сжигала свои жертвы.
– Знатных женщин помещали в лупанарии.
– А вы думаете, что драгуны Людовика XV вели себя безупречно?
– Примите во внимание, что христиане никогда не злоумышляли против государства!
– Да и гугеноты не злоумышляли!
Ветер гнал, рассеивал дождевые струи. Они барабанили по листьям, текли по краям дороги, а небо, принявшее грязноватый оттенок, сливалось с оголенными, сжатыми полями. Укрыться было негде. Только вдали виднелась пастушья хижина.
Тоненькое пальто Пекюше промокло до нитки. Струйки воды текли у него по спине, забирались в сапоги, в уши, в глаза, несмотря на козырек Аморосова картуза; кюре одной рукой поддерживал полу своей сутаны, открывая ноги, а с треуголки текли ему на плечи потоки воды, словно из воронки соборного желоба.
Им пришлось остановиться; повернувшись спиной к ветру, они стояли друг против друга, живот к животу, держа четырьмя руками вырывавшийся у них зонтик.
Жефруа по-прежнему защищал католиков.
– Разве они распинали ваших протестантов, как был распят святой Симеон, разве они бросали человека на съедение зверям, как то случилось со святым Игнатием, который был растерзан двумя тиграми?
– А разве пустяк, по-вашему, множество женщин, разлученных с мужьями, младенцев, отнятых у матерей? А изгнание бедняков, которым приходилось бродить по снежным равнинам, окруженным пропастями! Ими забивали тюрьмы, а когда они умирали, над ними еще и глумились.
Аббат усмехнулся:
– Позвольте этому не поверить! Зато наши мученики не вызывают сомнений. Святую Бландину раздели донага, обмотали сетью и бросили разъяренному быку. Святая Юлия погибла под ударами. Святому Тараку, святому Пробу и святому Андронику молотом раздробили зубы, разорвали бока железными гребнями, вонзили в руки раскаленные гвозди, содрали с головы кожу.
– Преувеличиваете, – сказал Пекюше. – В те времена смерть мучеников служила поводом для риторики!
– То есть как для риторики?
– Конечно. А я ссылаюсь на историю. В Ирландии католики вспарывали животы беременным женщинам, чтобы завладеть младенцами!
– Вздор!
– И бросить их на съедение свиньям.
– Перестаньте!
– В Бельгии их закапывали живьем!
– Басни!
– Известны их имена!
– И все же, – возразил священник, в негодовании тряся зонтом, – их нельзя считать мучениками. Нет мучеников вне церкви.
– Позвольте. Если заслуга мученика зависит от вероучения, которое он отстаивает, то почему мученичество доказывает превосходство этого вероучения?
Дождь стихал; до самой деревни они не проронили больше ни слова.
Но на пороге церковного дома аббат сказал:
– Мне вас жаль! Искренне жаль!
Пекюше рассказал Бувару о стычке, а часом позже, сидя возле пылающего камина, они читали Кюре Мелье. Его тяжеловесные опровержения возмутили Пекюше; потом, подумав, что он, пожалуй, недооценил героев, он перелистал страницы житий, посвященные наиболее прославленным мученикам.
Как ревела чернь, когда они выходили на арену! Если же львы и ягуары оказывались чересчур смирными, мученики жестами и криками поощряли их. Обливаясь кровью, страстотерпцы улыбались, обратив взор к небесам; святая Перепетуя стала заплетать косы, чтобы не выдавать своих страданий. Пекюше задумался. Окно было распахнуто, ночь тиха, на небе сияло множество звезд. В душе христианских мучеников, вероятно, происходило нечто такое, о чем мы уже не имеем представления, – ликование, божественный восторг. Пекюше, сосредоточенно размышлявший над этим, в конце концов сказал, что понимает их, что и он поступил бы так же.
– Ты?
– Разумеется.
– Шутки в сторону! Веришь ты или нет?
– Не знаю.
Он зажег свечу. Потом сказал, обратив взор на распятие, висевшее в алькове:
– Сколько несчастных искало у него помощи!
И, помолчав, добавил:
– Его извратили. Виноват в этом Рим, политика Ватикана.
А Бувара церковь восхищала своим великолепием, ему хотелось бы в средние века быть кардиналом.
– Согласись, пурпур был бы мне к лицу.
Картуз Пекюше, положенный поближе к огню, еще не просох. Расправляя его, Пекюше нащупал в подкладке какой-то предмет – из картуза выпал образок святого Иосифа. Они растерялись; случай казался им совершенно необъяснимым.
Госпожа де Ноар стала расспрашивать Пекюше, не чувствует ли он своего рода облегчения, радости, и своими вопросами выдала себя. Однажды, пока он играл на бильярде, она зашила ему в картуз образок.
Несомненно, она была в него влюблена; они могли бы пожениться; она была вдова, но он не догадывался о ее любви, которая, быть может, составила бы счастье его жизни.
Хотя он был более предрасположен к вере, чем Бувар, она все же препоручила его святому Иосифу, великому пособнику в делах обращения неверующих.
Никто лучше ее не знал всевозможных молитв и милостей, которыми они вознаграждаются, действия реликвий, силы святых источников. Цепочка ее часов была когда-то положена на оковы апостола Петра.
Среди ее брелоков блистала золотая жемчужина – копия с той, в которой хранится слеза Христова в алуанской церкви; на мизинце она носила кольцо, в котором были волосы арского священника; она собирала для больных целебные травы, поэтому комната ее напоминала не то ризницу, не то аптеку.
Целыми днями она писала письма, навещала бедных, расторгала незаконные сожительства, распространяла фотографии храма Сердца Христова. Некто посулил прислать ей «тесто мучеников» – смесь из воска пасхальных свечей и человеческого праха, вырытого в катакомбах; снадобье это применяется в безнадежных случаях в виде пилюль или мушек. Она обещала дать его Пекюше.
Его покоробило от такого материализма.
Как-то вечером лакей из замка принес ему целую корзинку брошюр, содержавших благочестивые речи великого Наполеона, меткие словечки кюре, сказанные им на постоялых дворах, рассказы о страшной смерти, постигшей многих нечестивцев. Г-жа де Ноар знала все это наизусть, не считая множества чудес.
Она рассказывала о чудесах нелепейших, бессмысленных, точно Бог совершал их только для того, чтобы ошеломить людей. Ее собственная бабушка положила однажды в шкаф сливы, покрыв их салфеткой; через год, когда она отворила шкаф, слив оказалось тринадцать, и они сами собой разместились на салфетке в виде креста.
– Попробуйте-ка это объяснить!
Так заканчивала она свои россказни, достоверность которых отстаивала с ослиным упрямством; а впрочем, это была славная женщина, весьма благодушного нрава.
Однажды она все же «вышла из себя». Бувар стал оспаривать чудо в Педзиле: ваза, в которой во время революции спрятали облатки для причастия, чудесным образом позолотилась.
– Может быть, на дне вазы образовался желтый налет от сырости?
– Да нет же, говорят вам, нет! Позолота образовалась от прикосновения облаток.
В доказательство она привела свидетельство епископов.
– Они говорят, что это как бы щит… как бы покров над перпиньянской епархией. Да вы спросите у аббата Жефруа!
Бувар не выдержал и, полистав еще раз своего Луи Эрвье, вместе с Пекюше отправился к священнику.
Они застали его за обедом. Рен подала им стулья, потом, по знаку хозяина, достала две рюмки и налила в них «розолио».
Бувар объяснил, зачем они пришли.
Аббат ответил уклончиво:
– Бог всесилен, а чудеса доказывают истинность религии.
– Однако существуют определенные законы.
– Это ничего не значит. Бог нарушает их, чтобы поучать, исправлять.
– Откуда вы знаете, что он их нарушает? – возразил Бувар. – Пока природа следует привычной дорожкой, никто об этом не думает, но стоит случиться чему-нибудь необыкновенному – и мы видим в этом руку Божью.
– Возможно, что так оно и есть, – сказал аббат, – но что же можно возразить, когда чудо подтверждается свидетелями?
– Свидетели поверят чему угодно, бывают ведь и лжечудеса!
Священник покраснел.
– Конечно… случается.
– Как отличить их от истинных? А если истинные чудеса, приводимые в доказательство, сами нуждаются в доказательствах, то зачем на них ссылаться?
В разговор вмешалась Рен и наставительно, подражая хозяину, сказала, что нужно послушание.
– Жизнь мимолетна, зато в смерти жизнь вечная.
– Короче говоря, – добавил Бувар, глотая «розолио», – чудеса былых времен доказаны ничуть не лучше, чем нынешние; одни и те же доводы приводятся в защиту как христианских, так и языческих верований.
Кюре бросил вилку на стол.
– То были выдумки, повторяю еще раз. Нет чудес вне церкви!
«Вот как! – подумал Пекюше. – Тот же аргумент, что и в отношении мучеников: учение опирается на факты, а факты – на учение».
Жефруа осушил стакан воды и продолжал:
– Вы отрицаете чудеса и в то же время в них верите. Двенадцать рыбаков обратили целый мир – вот, по-моему, прекраснейшее чудо!
– Вовсе нет!
Пекюше понимал это иначе.
– Монотеизм идет от евреев, Троица – от индусов, Логос – создание Платона, Матерь-Дева – создание Азии.
Все равно! Жефруа цеплялся за сверхъестественное, не допуская, что христианство имеет с человеческой точки зрения какое-либо основание, хотя и не отрицал наличия у всех народов предпосылок для христианства или для его искажений. Насмешливое безбожие XVIII века он еще допускал, но современная критика с ее холодной логикой приводила его в ярость.
– Я предпочитаю кощунствующего безбожника рассуждающему скептику!
Он взглянул на них вызывающе, как бы прогоняя их.
Пекюше вернулся домой грустный. Он надеялся согласовать веру с разумом.
Бувар дал ему прочесть отрывок из Луи Эрвье:
«Чтобы постичь бездну, разделяющую их, сопоставьте их аксиомы.
Разум говорит нам, часть содержится в целом, а вера отвечает: в силу пресуществления Христос, приобщаясь вместе с апостолами, держал тело свое в руках, а голову во рту.
Разум говорит: человек не ответствен за преступление, содеянное другими, а вера отвечает на это первородным грехом.
Разум говорит: три состоят из трех, а вера утверждает, что три есть одно».
Они перестали ходить к аббату.
В то время шла война в Италии.
Благонамеренные люди трепетали за папу. Проклинали Эммануила. Г-жа де Ноар доходила до того, что желала ему смерти.
Бувар и Пекюше выражали свое возмущение робко. Когда перед ними отворялась дверь гостиной и они мимоходом видели свое отражение в высоких зеркалах, в то время как за окнами тянулись аллеи и на зелени выделялся красный жилет лакея, – им становилось приятно; роскошь этого дома ослепляла их, и они относились снисходительно к тому, что здесь говорилось.
Граф предоставил им все сочинения де Местра. Он излагал его учение в кругу друзей: тут бывали Гюрель, кюре, мировой судья, нотариус и барон, будущий зять графа, приезжавший время от времени в замок на сутки.
– Самое отвратительное – это дух восемьдесят девятого года, – говорил граф. – Начинается с того, что оспаривают Бога, затем принимаются критиковать правительство, потом провозглашается свобода. Свобода оскорблений, бунта, разгула или, вернее, грабежа, так что церкви и властям приходится преследовать вольнодумцев, инакомыслящих. Станут, конечно, вопить о гонениях, словно палачи подвергают преступников гонениям. Резюмирую: нет государства без Бога. Закон может вызывать уважение, только если он исходит свыше, и сейчас вопрос идет не об итальянцах, а о том, кто одержит верх – революция или папа, сатана или Христос.
Жефруа выражал одобрение односложно, Гюрель – улыбкой, мировой судья – кивками, Бувар и Пекюше обращали взор в потолок; г-жа де Ноар, графиня и Иоланда рукодельничали в пользу бедных, а де Маюро, сидя около невесты, просматривал газеты.
Порою все умолкали, как бы углубившись в решение какого-то вопроса. Наполеон III перестал быть спасителем, больше того – он подавал прискорбный пример, разрешая каменщикам работать в Тюильри по воскресеньям.
«Не следовало бы допускать этого», – так обыкновенно говорил граф.
О политической экономии, искусстве, литературе, истории, научных теориях – обо всем он судил безапелляционно, как христианин и отец семейства; дай-то Бог, чтобы правительство было столь же непреклонно, как граф в своем доме! Только правительство может судить об опасностях, заключающихся в науке; при слишком широком распространении она порождает в народе пагубные устремления. Народ, бедняга, был куда счастливее, когда знать и духовенство умеряли неограниченную власть короля. Теперь народ эксплуатируют промышленники. Скоро его поработят.
Все сокрушались о гибели старого режима: Гюрель – из подхалимства, Кулон – по невежеству, Мареско – как натура художественная.
Вернувшись домой, Бувар стал ради закалки читать Ламетри, Гольбаха и т. п. Пекюше тоже отдалился от религии, поскольку она стала всего-навсего орудием власти. Де Маюро причащался только в угоду дамам и ходил в церковь ради слуг.
Математик, дилетант, умевший сыграть на рояле вальс, поклонник Тепфера, он отличался скептицизмом хорошего вкуса. Россказни о злоупотреблениях в эпоху феодализма, об инквизиции и иезуитах – все это предрассудки; зато он восхвалял прогресс, хотя и презирал всех, кто не принадлежал к аристократии или не кончил Политехнический институт.
Аббат Жефруа им тоже не нравился. Он верил в колдовство, подшучивал над идолами, утверждал, будто все языки исходят из еврейского; его красноречию недоставало непосредственности; он неизменно упоминал о затравленной лани, о меде и полыни, золоте и свинце, о благоухании, о драгоценных сосудах, а душу христианина постоянно сравнивал с часовым, который должен бросать в лицо греху: «Не пройдешь!».
Чтобы не слышать его поучений, они приходили в замок как можно позже.
Однажды они все-таки застали его там.
Он уже целый час дожидался своих учеников. Вдруг появилась г-жа де Ноар.
– Девочка куда-то пропала. Я привела Виктора. Ах, несчастный!
Она обнаружила у него в кармане серебряный наперсток, пропавший три дня тому назад, и, задыхаясь от слез, стала рассказывать:
– Это еще не все! Не все! Пока я его бранила, он показал мне задницу!
Граф с графиней еще не успели вымолвить слова, как она добавила:
– Впрочем, это моя вина! Простите меня!
Она скрыла, что сироты – дети Туаша, который теперь на каторге.
Как быть?
Если граф выгонит их – они погибнут, и его благодеяние будет истолковано как барская прихоть.
Аббат Жефруа не удивился. Человек грешен от рождения, поэтому, чтобы исправить его, надо его наказывать.
Бувар возражал. Ласка предпочтительнее.
Но граф вновь распространился насчет железной руки, столь же необходимой для детей, как и для народов. У обоих сирот множество пороков: девочка – лгунья, мальчишка – грубиян. Кражу эту, в конце концов, можно бы простить, зато дерзость – ни в коем случае, ибо воспитание должно быть прежде всего школою почтительности.
А потому егерь Сорель должен немедленно выпороть подростка.
Де Маюро надо было переговорить о чем-то с Сорелем, и он взялся передать ему и это поручение. Он достал в передней ружье и позвал Виктора, стоявшего, понурив голову, посреди двора.
– Пойдем, – сказал барон.
Идти к егерю надо было мимо Шавиньоля, поэтому Жефруа, Бувар и Пекюше отправились вместе с ними.
В сотне шагов от замка барон попросил спутников не разговаривать, пока они пойдут вдоль леса.
Местность спускалась к реке, где высились глыбы скал. Под лучами заходящего солнца на воде блестели золотые пятна. Подальше зеленые холмы уже покрывались тенью. Дул резкий ветер.
Вылезшие из нор кролики пощипывали травку.
Раздался выстрел, потом еще и еще; кролики подпрыгивали, разбегались. Виктор кидался на них, стараясь поймать; он был весь потный, запыхался.
– На кого ты похож! – воскликнул барон.
Куртка у мальчишки была изорвана, выпачкана кровью. Бувар не мог видеть крови. Кровопролития он не допускал.
Жефруа возразил:
– Иной раз этого требуют обстоятельства. Если виновный не жертвует своею кровью, нужна кровь другого, – этой истине учит нас искупление.
По мнению Бувара, искупление ни к чему не привело, поскольку почти все люди осуждены на муки, несмотря на жертву, принесенную Христом.
– Но жертву Христос продолжает приносить ежедневно в виде евхаристии.
– Чудо совершается словами священника, как бы ни был он недостоин, – возразил Пекюше.
– В этом и заключается тайна.
Тем временем Виктор не сводил глаз с ружья и даже пытался потрогать его.
– Руки прочь!
Де Маюро свернул на тропинку, уходившую в лес.
Бувар и Пекюше шли вслед за ним рядом со священником, который сказал Бувару:
– Осторожнее, не забывайте Debetur pueris.[8]
Бувар стал уверять, что преклоняется перед Создателем, но возмущен тем, что его превратили в человека. Боятся его мести, стараются прославить его, он наделен всеми добродетелями, дланью, оком, ему приписывают определенный образ действий, пребывание в определенном месте. Отче наш, сущий на небесах! Что все это значит?
Пекюше добавил:
– Вселенная расширилась, теперь земля уже не считается ее центром. Земля вертится среди сонма подобных ей небесных тел. Многие превосходят ее размерами, и это умаление нашей планеты дает нам о Боге более возвышенное представление.
Следовательно, религия должна преобразоваться.
Рай с его блаженными праведниками, вечно созерцающими, вечно поющими и взирающими с высоты на муки осужденных, представляется чем-то ребяческим. Подумать только, что в основе христианства лежит яблоко!
Кюре рассердился.
– Уж отвергайте само Откровение, – это будет проще.
– Как же, по-вашему, Бог мог говорить? – спросил Бувар.
– А вы докажите, что он не говорил, – возражал Жефруа.
– Я спрашиваю: кем это доказано?
– Церковью.
– Ну и доказательство, нечего сказать!
Спор этот наскучил де Маюро, и он на ходу сказал:
– Слушайте кюре – он знает больше вашего.
Бувар и Пекюше знаками сговорились пойти другой дорогой и, дойдя до Круа-Верт, распрощались со спутниками:
– Будьте здоровы!
– Честь имею кланяться, – сказал барон.
Все это, вероятно, будет доложено де Фавержу, и, возможно, последует разрыв. Что поделаешь! Они чувствовали, что аристократы презирают их. Их никогда не приглашают к обеду, они устали от г-жи де Ноар с ее нескончаемыми нравоучениями.







