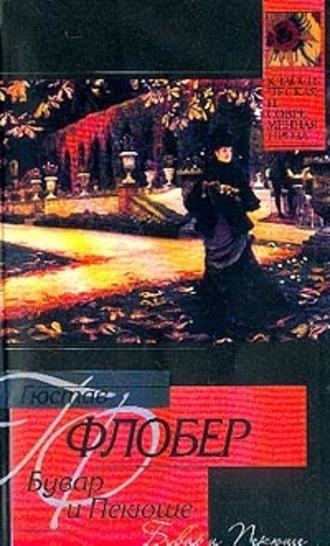
Гюстав Флобер
Бувар и Пекюше
VII
Потянулись тоскливые дни.
Боясь разочарований, они перестали заниматься наукой; жители Шавиньоля сторонились их, из официальных газет невозможно было ничего почерпнуть, и они оказались в глубоком одиночестве, в полной праздности.
Порою они раскрывали книгу, но вскоре откладывали ее; к чему читать? Иной раз им приходило в голову, что пора почистить сад – через четверть часа их уже одолевала усталость; или что следует осмотреть ферму – они возвращались домой полные отвращения; или что надо заняться домашним хозяйством – Жермена начинала вопить; от всего этого они отказались.
Бувар надумал было составить каталог музея, но потом пришел к выводу, что все их безделушки – вздор.
Пекюше занял у Ланглуа ружье, чтобы пострелять жаворонков; ружье взорвалось при первом же выстреле и чуть не убило его.
Итак, они скучали, как скучают в деревне, когда белесое небо томит своим однообразием сердце, утратившее надежду. Прислушиваешься к шагам человека в сабо, проходящего вдоль изгороди, или к каплям дождя, падающим на землю с крыши. Время от времени опавший лист коснется оконного стекла, потом закружится и исчезнет. Ветер доносит издалека неясный похоронный звон. Из хлева слышится мычанье коровы.
Они зевали, сидя друг против друга, заглядывали в календарь, посматривали на часы, ждали, когда настанет время обедать; а горизонт был все тот же: прямо перед ними – поля, справа – церковь, слева – вереница тополей; вершины их раскачивались в тумане беспрерывно, с жалобным скрипом.
Некоторые привычки, на которые они до сих пор старались не обращать внимания, теперь раздражали их. Пекюше становился совершенно несносен тем, что постоянно клал свой носовой платок на скатерть; Бувар не расставался с трубкой и при разговоре раскачивался из стороны в сторону. У них возникали распри из-за кушаний или из-за качества масла. Сидя друг возле друга, они думали о разных вещах.
Неожиданное событие ошеломило Пекюше.
Два дня спустя после Шавиньольского бунта, прогуливаясь в надежде отвлечься от политических огорчений, он вышел на дорогу, осененную густыми вязами, и вдруг услышал позади себя крик:
– Остановись!
То была госпожа Кастильон. Она бежала в противоположную сторону и не заметила его. Мужчина, шедший перед ней, остановился. То был Горжю; они подошли друг к другу неподалеку от Пекюше, от которого их отделял только ряд деревьев.
– Это правда? – спросила она. – Ты идешь драться?
Пекюше юркнул в ров, чтобы подслушать.
– Ну да, иду драться, – отвечал Горжю. – А тебе-то что?
– И ты еще спрашиваешь! – воскликнула она, заломив руки. – А если тебя убьют? Ангел мой, не ходи!
Ее синие глаза умоляли красноречивее слов.
– Не приставай! Я должен пойти.
Она злобно усмехнулась.
– Значит, другая позволила?
– Не смей о ней говорить!
Он поднял кулак.
– Нет, дорогой мой, нет. Я молчу, я – ни слова!
Крупные слезы потекли по ее щекам в складки воротничка.
Был полдень. Над желтеющей нивой сияло солнце. Вдали плыл верх медленно двигавшейся коляски. В воздухе все замерло: ни крика птицы, ни жужжания насекомого. Горжю срезал себе тросточку и очищал ее от коры. Г-жа Кастильон по-прежнему стояла, опустив голову.
Бедная женщина думала о тщете всех жертв, о его долгах, которые она покрыла, о будущих платежах, о своей погубленной репутации. Она не жаловалась, а только напоминала ему о днях их любви, когда она каждую ночь ходила к нему в сарай, так что однажды муж, приняв ее за вора, выстрелил через окно из пистолета. Пуля до сих пор еще в стене.
– Как только я увидела тебя, ты показался мне прекрасным, как принц. Я обожаю твои глаза, твой голос, походку, запах.
Она добавила тише:
– Я схожу по тебе с ума!
Он улыбался; он был польщен.
Она обняла его, откинув голову, как бы в благоговении.
– Дорогой! Бесценный! Душа моя! Жизнь моя! Хочешь, поговорим? Скажи, что тебе надобно? Деньги? Так мы их добудем. Я была не права. Я тебе докучала. Прости меня! Закажи себе платье у портного, пей шампанское, кути, я тебе все позволяю, все, все!
В порыве отчаяния она прошептала:
– Даже ее! Только вернись ко мне.
Он склонился к ее губам, обхватив ее за талию, чтобы она не упала, а она твердила:
– Дорогой мой! Бесценный! Какой ты красавец! Боже, какой красавец!
Пекюше замер во рву, край которого приходился ему под подбородок, и смотрел, еле переводя дыхание.
– Не распускайся! – сказал Горжю. – Из-за тебя я еще опоздаю на дилижанс. Готовится славная потеха, и я хочу принять в ней участие. Дай мне десять су вознице на выпивку.
Она вынула из кошелька пять франков.
– Ты мне их скоро вернешь. Чуточку терпения! Ведь он теперь в параличе! Подумай хорошенько! А если хочешь, пойдем в часовню Круа-Жанваль, и там, любовь моя, я перед Пресвятой Девой поклянусь, что выйду за тебя, как только он умрет!
– Да муж твой и не собирается умирать!
Горжю пошел от нее прочь. Она нагнала его, стала цепляться за его плечи.
– Возьми меня с собою! Я буду твоей служанкой. Ведь нужен же тебе кто-то. Только не уходи! Не бросай меня! Легче умереть! Убей меня!
Она валялась у него в ногах, ловила его руки, целовала их; чепец свалился у нее с головы, потом упал гребень, и ее короткие волосы разметались. Они были седые на висках. Она смотрела на него снизу вверх, вся в слезах, с покрасневшими веками и припухшими губами; он так озлобился, что оттолкнул ее.
– Отвяжись, старуха! Прощай!
Она поднялась, сорвала с груди золотой крестик и кинула ему вслед:
– Вот тебе! Сволочь!
Горжю удалялся, постегивая тросточкой ветки деревьев.
Госпожа Кастильон не плакала. Рот у нее приоткрылся, взгляд погас; она стояла неподвижно, окаменев от отчаяния; она была уже не живым существом, а всего лишь развалиной.
То, что подсмотрел Пекюше, было для него словно открытием мира, целого мира с ослепительным сиянием, беспорядочным цветением, океанами, бурями, кладами и бездонными пропастями. От этого мира веяло ужасом? Ну что ж! Он стал мечтать о любви, ему захотелось испытать такую же страсть, какая владела этой женщиной, самому внушать ее.
Все же он ненавидел Горжю и однажды в казарме еле удержался, чтобы не выдать его.
Он чувствовал себя униженным при виде тонкой талии любовника г-жи Кастильон, его пушистой бороды, изящных завитков на висках; ведь у него-то самого волосы липли к черепу, как мокрый парик, туловище, облаченное в какую-то хламиду, напоминало диванный валик; у него недоставало двух зубов и вид был хмурый. Он считал, что судьба к нему несправедлива, что он обездолен и что друг разлюбил его.
Бувар каждый вечер оставлял его в одиночестве. После смерти жены ничто не мешало ему подыскать себе другую, и теперь она холила бы его, вела бы хозяйство. Правда, он состарился, теперь уже поздно думать об этом.
Бувар, однако, взглянул на себя в зеркало. Щеки его не утратили румянца, волосы курчавились, как и прежде, все зубы были целы, и при мысли, что еще может понравиться, он почувствовал прилив молодости. В памяти его возник образ г-жи Борден. Ведь она заигрывала с ним: первый раз – во время пожара скирд, второй раз – у них за обедом, потом в музее, когда он декламировал, а недавно она, забыв обиду, приходила три воскресенья подряд. И он отправился к ней, потом стал бывать чаще в надежде увлечь ее.
С тех пор как Пекюше обратил внимание на молоденькую служанку, черпавшую воду из колодца, он стал чаще заговаривать с нею; подметала ли она коридор, развешивала ли белье или орудовала кастрюлями, он не мог вдоволь налюбоваться ею и сам удивлялся своим чувствам. Он пламенел и томился, словно вновь стал подростком; воспоминание о г-же Кастильон, обнимающей Горжю, преследовало его.
Он стал расспрашивать Бувара о том, как ведут себя распутники, когда хотят покорить женщину.
– Делают подарки, угощают в ресторанах.
– Так, так. А дальше?
– Некоторые женщины делают вид, будто упали в обморок, чтобы их отнесли на диван, другие нарочно роняют носовой платок. Лучшие из них откровенно назначают свидание.
Бувар пустился в описания; они воспламеняли воображение Пекюше, как непристойные картинки.
– Первое правило – не верить их словам. Я знавал таких, которые казались святыми, а на самом деле были настоящими Мессалинами! Прежде всего – смелость.
Но смелым не становишься по заказу. Пекюше со дня на день откладывал решение, да и присутствие Жермены смущало его.
Надеясь, что она потребует расчета, он заставлял ее все больше работать, не пропускал случая сделать ей замечание, когда она напивалась, вслух возмущался ее нечистоплотностью, леностью и добился того, что ей отказали от места.
Теперь он был свободен!
С каким нетерпением ожидал он момента, когда Бувар уйдет из дома! Как билось у него сердце, когда за Буваром захлопывалась дверь!
Мели шила за столиком у окна, при свече; время от времени она зубами перекусывала нитку, потом прищуривалась, чтобы продеть ее в ушко.
Прежде всего он поинтересовался, какого рода мужчины ей нравятся. Такие, например, как Бувар? Вовсе нет; она предпочитает худых. Он осмелился спросить, были ли у нее любовники.
– Никогда!
Подойдя поближе, он любовался ее тонким носиком, маленьким ртом, контуром ее лица. Он говорил ей комплименты и призывал быть умницей.
Склоняясь над нею, он видел под корсажем белые выпуклости груди, от которых исходило теплое благоухание, согревавшее ему щеку. Однажды вечером он прикоснулся губами к пушку на ее затылке, и его охватил трепет, проникший до мозга костей. В другой раз он поцеловал ее в подбородок и еле удержался, чтобы не укусить, так упоительна была ее кожа. Она ответила на его поцелуй. Комната завертелась. Глаза его заволокло туманом.
Он подарил ей башмаки и часто угощал рюмочкой анисовой…
Чтобы помочь ей, он вставал спозаранку, колол дрова, разжигал плиту, простирал свою заботу до того, что вместо нее чистил обувь Бувара.
Мели не падала в обморок, не роняла платок, и Пекюше не знал, на что решиться; желание его распалялось от страха утолить его.
Бувар упорно ухаживал за г-жой Борден.
Она принимала его несколько чопорно, затянутая в сизое шелковое платье, которое потрескивало, как конская сбруя, и при этом для важности играла своей длинной золотой цепочкой.
Темою их бесед были обитатели Шавиньоля или «покойный ее супруг», некогда судебный пристав в Ливаро.
Однажды она осведомилась о прошлом Бувара, желая узнать об «его юношеских проказах»; попутно она поинтересовалась его состоянием и тем, что связывает его с Пекюше.
Он восторгался порядком в ее доме, а когда обедал у нее – тщательностью сервировки, изысканностью кухни. Вереница отменнейших блюд, прерываемых через равные промежутки бургундским, приводила их к десерту, и тут они подолгу потягивали кофе; г-жа Борден, раздувая ноздри, окунала в блюдечко свою полную губу, осененную темным пушком.
Однажды она вышла к нему в декольте. Плечи ее обворожили Бувара. Сидя возле нее на низеньком стуле, он вздумал погладить ее руки. Вдова разгневалась. Он больше не осмеливался, но охотно представлял себе ее полные, изумительно упругие прелести.
Как-то вечером, когда стряпня Мели особенно опротивела ему, он с радостью направился в гостиную г-жи Борден. Вот где ему следовало бы жить!
От лампы, прикрытой розовым абажуром, разливался спокойный свет. Вдова сидела около камина, ножка ее выступала из-под подола платья. После первых же слов разговор иссяк.
Она смотрела на него, чуть прищурившись, томно и пристально.
Бувар не выдержал; он опустился на колени и пролепетал:
– Я люблю вас! Выходите за меня замуж!
Госпожа Борден глубоко вздохнула, потом кокетливо сказала, что он шутит, над ними, конечно, станут смеяться, это неразумно. Своим признанием он смутил ее.
Бувар возразил, что они не нуждаются ни в чьем согласии.
– Что вас останавливает? Приданое? На белье у нас одинаковая метка «Б». Мы сольем их в одну.
Такой довод ей понравился. Но одно важное обстоятельство не позволяло ей дать ответ до конца месяца. Бувар огорчился.
Она проявила чуткость и проводила его до дому в сопровождении Марианны, несшей фонарь.
Друзья скрывали друг от друга свои увлечения.
Пекюше рассчитывал, что его интрижка с прислугой останется тайною. Если же Бувар станет возражать, он увезет ее куда-нибудь, хоть в Алжир; там жизнь недорога. Но как ни был он поглощен своею любовью, все же, строя такие планы, он постоянно думал о последствиях.
Бувар рассчитывал превратить музей в супружескую спальню, если на это согласится Пекюше; в противном случае он переедет к жене.
Как-то днем, неделю спустя, они были у нее в саду; почки начинали распускаться, на небе, между облаками, виднелись большие синие просветы. Она склонилась, чтобы нарвать фиалок, потом, подавая их ему, сказала:
– Поздравьте госпожу Бувар!
– Как? Правда?
– Истинная правда.
Он хотел было обнять ее, но она его отстранила.
– Что за несносный человек!
Потом, перейдя на серьезный тон, она предупредила его, что вскоре попросит об одном одолжении.
– На все согласен!
Они решили, что подпишут брачный договор в будущий четверг.
До самой последней минуты никто не должен был об этом знать.
– Пусть так!
Он ушел от нее легкой походкой, обратив взор к небесам.
В тот день, утром, Пекюше решил умереть, если не добьется благосклонности служанки, и пошел вслед за нею в погреб, надеясь, что потемки придадут ему смелости.
Она несколько раз порывалась уйти, но он удерживал ее, чтобы пересчитать бутылки, перебрать планки или проверить днища бочек – всем этим они занимались постоянно.
Она стояла перед ним, освещенная слуховым оконцем, опустив глаза и чуть приподняв уголки губ.
– Любишь меня? – выпалил Пекюше.
– Люблю.
– Ну так докажи это!
Обняв ее левой рукой, он правою стал расстегивать ей корсет.
– Вы хотите обидеть меня?
– Нет, ангелочек мой! Не бойся.
– А вдруг господин Бувар…
– Я ему ничего не скажу! Не беспокойся!
Неподалеку были свалены вязанки хвороста. Она упала на них; груди ее выбились из-под рубашки, голова запрокинулась; потом она закрыла лицо рукой, и тут любой на месте Пекюше понял бы, что она не так уж неопытна.
К обеду вернулся Бувар.
Обед прошел в молчании, каждый боялся выдать себя; Мели подавала им, равнодушная, как всегда; Пекюше отводил глаза, чтобы не встретиться с ее взглядом. Бувар, уставившись в стену, мечтал о будущих усовершенствованиях.
Неделю спустя, в четверг, он вернулся вне себя от ярости.
– Стерва!
– Кто стерва?
– Госпожа Борден.
Он признался, что до такой степени спятил, что надумал жениться на ней, но четверть часа тому назад, у Мареско, со всем этим покончено.
Она возымела желание получить в виде свадебного подарка Экайскую мызу, которою он не мог располагать, ибо купил ее, как и ферму, частично на чужие деньги.
– Совершенно верно! – сказал Пекюше.
– А я-то имел глупость обещать, что исполню любую ее просьбу! Вот какая оказалась просьба! Но я заупрямился, – ведь если бы она меня любила, так не стала бы настаивать.
Вдова же, напротив, разразилась бранью, стала издеваться над его внешностью, над его пузом.
– Это у меня-то пузо! Подумай только!
Меж тем Пекюше несколько раз выходил из дому и шагал, широко расставив ноги.
– Ты нездоров? – спросил Бувар.
– Да, нездоров.
Пекюше, затворив дверь, после долгих колебаний, признался, что обнаружил у себя дурную болезнь.
– Сам обнаружил?
– Сам.
– Ах, бедняга! От кого же это?
Он еще гуще покраснел и сказал еще тише:
– Не иначе, как от Мели.
Бувар остолбенел.
Первым делом они решили уволить девушку. Она оправдывалась с невинным видом.
Недуг Пекюше, однако, оказался серьезным, но больной, стыдясь своей глупости, не решался обратиться к врачу.
Бувар предложил прибегнуть к помощи Барберу. Они послали ему подробное описание болезни, чтобы тот показал его какому-нибудь доктору, врачующему по переписке. Барберу всполошился, вообразив, что речь идет о Буваре, обозвал его старым озорником и в то же время поздравил с успехом.
– В моем-то возрасте! – сокрушался Пекюше. – Не прискорбно ли это? Но зачем она так поступила?
– Ты ей нравился.
– Она должна была меня предупредить.
– Да разве страсть рассуждает?
Бувар начал жаловаться на г-жу Борден.
Он несколько раз заставал ее с Мареско возле Экайской мызы беседующими с Жерменой; столько ухищрений из-за клочка земли!
– Она жадная. Этим все и объясняется.
Так они перебирали свои невзгоды, сидя в маленькой гостиной, у камина; Пекюше глотал лекарства, Бувар курил трубочку; темою их рассуждений были женщины.
– Странная потребность! Да и потребность ли это? Они толкают нас на преступления, на подвиги и на подлость. Ад под юбкой, рай в поцелуе; голубиные перышки, змеиные извивы, кошачьи когти; коварство моря, изменчивость луны!
Они повторяли все пошлости, какие говорят о женщинах.
Именно желание обладать женщиной прервало на время их дружбу. Они почувствовали раскаяние.
– Теперь – никаких женщин, не правда ли? Будем жить без них!
Друзья нежно обнялись.
Нужно было какое-то противоядие, и когда Пекюше выздоровел, Бувар пришел к мысли, что им будет весьма полезно водолечение.
Жермена, вернувшаяся в дом после ухода Мели, каждое утро вкатывала в коридор ванну.
Друзья, голые, как дикари, окачивали себя из ведер водою, потом разбегались по своим комнатам. Кто-то увидел их сквозь изгородь; многих это возмутило.
VIII
Такой режим очень нравился им, и они решили укрепить свое здоровье еще и гимнастикой.
Они добыли руководство Амороса и перелистали приложенный к нему атлас.
Тут было изображено множество юношей, присевших на корточки, запрокинувшихся, стоявших прямо, сгибавших колени, расставивших руки, сжимавших кулаки, поднимавших тяжести, сидевших верхом на бревне, карабкавшихся на лестницу, кувыркавшихся на трапеции; такие примеры силы и ловкости вызывали у них зависть.
Их, однако, огорчило великолепие стадиона, описанного в предисловии. Ведь им никогда не устроить у себя ни такого навеса для экипажей, ни ипподрома для скачек, ни бассейна для плавания, ни «горы славы» – насыпного холма в тридцать два метра высотой.
Деревянный конь для вольтижирования с волосяной набивкой обошелся бы очень дорого – они отказались от него; срубленная в саду липа послужила им горизонтальным бревном, а когда они научились проходить по нему из конца в конец и потребовалась вертикальная мачта, они водрузили на прежнее место один из шестов шпалерника. Пекюше взобрался до самого верха. Бувар скользил, неизменно срывался вниз и в конце концов отказался от этой затеи.
Им больше пришлись по вкусу «ортосометрические шесты», представлявшие собою две палки от метел, перевязанные двумя веревками, из коих одну просовывают под мышки, а на другую кладут кисти рук; целыми часами держали они этот снаряд, задрав голову, выпятив грудь, прижав локти к туловищу.
Гирь у них не было, но каретник выточил им из ясеня четыре чурбана в форме сахарных голов, с ручками вроде бутылочных горлышек. Эти дубинки надо выбрасывать вправо, влево, вперед, назад. Но они оказались чересчур тяжелыми и вырывались из рук, грозя переломать им ноги. Тем не менее они увлекались «персидскими палицами» и даже каждый вечер натирали их воском и суконным лоскутом, чтобы они не треснули.
Затем они стали подыскивать ров. Наконец нашли подходящий и стали прыгать через него, опираясь на длинный шест; оттолкнувшись левой ногою, они перескакивали на другую сторону и начинали сначала. Местность была ровная, их было видно издалека, и крестьяне недоумевали: что за диковинные фигуры подпрыгивают на горизонте?
С наступлением осени они обратились к комнатной гимнастике, но она им скоро надоела. Отчего нет у них качалки или почтового кресла, придуманного аббатом Сен-Пьером в царствование Людовика XIV? Как оно было устроено? Где бы узнать? Дюмушель даже не соблаговолил ответить им на запрос.
Тогда они соорудили в пекарне ручные качели. По двум блокам, привинченным к потолку, проходила веревка с поперечной планкой на каждом конце. Ухватившись за нее, один отталкивался от пола ногами, другой опускал руки до земли; первый подтягивал своей тяжестью второго, а тот, понемногу отпуская веревку, сам начинал подниматься; не проходило и пяти минут, как с обоих начинал катиться пот.
Следуя указаниям Амороса, они старались сделаться левшами – и доходили до того, что некоторое время вовсе не пользовались правой рукой. Более того, Аморос приводит несколько стихотворений, которые надо напевать во время занятий гимнастикой, поэтому Бувар и Пекюше, маршируя, декламировали гимн № 9:
Король, справедливый король – великое благо…
Ударяя себя в грудь:
Друзья! Корона и слава, и т. д.
Во время бега:
Сюда, робкая лань!
Догоним ее, быстроногую!
Да, мы победим!
Бежим, бежим, бежим!
Дыша, как запаленные лошади, они подбадривали себя звуком собственных голосов.
Особенно восхищала их одна особенность гимнастики: возможность применить ее при спасении погибающих.
Но нужны были дети, чтобы научиться переносить их в мешках; они попросили учителя предоставить им несколько ребятишек. Пти возразил, что родители могут возмутиться. Тогда они ограничились подачею помощи раненым. Один прикидывался потерявшим сознание, другой со всевозможными предосторожностями вез его в тачке.
Что касается военных атак, то для этого автор рекомендует лестницу Буа-Розе, названную так по имени капитана, который в свое время взял приступом Фекан, вскарабкавшись по скале.
Руководствуясь картинкой из книги, они укрепили на канате поперечные палки и привязали его к потолку сарая.
Сев на нижнюю палку и ухватившись за третью, подбрасывают ноги вверх, чтобы вторая палка, только что находившаяся на уровне груди, оказалась как раз под ляжками. Потом выпрямляются, берутся за четвертую палку и продолжают дальше. Несмотря на чудовищные выкрутасы, им так и не удалось забраться на вторую ступеньку.
Быть может, легче цепляться руками за камни, как поступали солдаты Бонапарта при осаде Фор-Шамбре? Чтобы научиться этому приему, в заведении Амороса имеется особая башня.
Ее можно заменить полуразрушенной стеной. Они попытались штурмовать ее.
Но Бувар, слишком поспешно вынув ногу из расщелины, испугался и почувствовал головокружение.
Пекюше объяснял неудачу изъянами в их методе; они пренебрегли наставлениями относительно суставов, надо вернуться к изучению основных принципов.
Его уговоры остались втуне; тогда он, преисполненный гордыни и самоуверенности, взялся за ходули.
Казалось, он был предназначен для них самой природой, ибо он сразу стал на самые высокие, подножки которых возвышались на четыре фута над землей, и, сохраняя равновесие, носился по саду, напоминая огромного, диковинного аиста.
Бувар, стоявший у окна, вдруг увидел, как Пекюше зашатался и камнем рухнул на бобы; подпорки их, ломаясь, смягчили удар. Когда его подобрали, он был весь выпачкан в земле, смертельно бледен, из носа у него шла кровь; он боялся, что нажил себе грыжу.
Решительно гимнастика не подходит для людей их возраста; они отказались от нее и уже не отваживались двинуться с места, остерегаясь несчастных случаев; они целыми днями сидели в музее, обдумывая, чем бы теперь заняться.
Перемена режима повлияла на здоровье Бувара. Он отяжелел, после еды пыхтел, как кашалот, решил похудеть, стал меньше есть и ослабел.
Пекюше тоже чувствовал, что здоровье его «подорвано»; у него стало почесываться тело, появилась мокрота.
– Плохо дело, – говорил он, – плохо.
Бувар надумал сходить в трактир и купить там несколько бутылок испанского вина, чтобы подкрепить силы.
Когда он выходил из заведения, писарь из конторы Мареско и еще трое мужчин вносили к Бельжамбу большой ореховый стол. Господин Мареско горячо благодарил за него. Стол вел себя отлично.
Так Бувар узнал о новейшей моде на вертящиеся столы. Он посмеялся над писарем.
Между тем всюду, в Европе, в Америке, в Австралии и в Индии, миллионы смертных проводят жизнь за верчением столов и теперь научились превращать чижей в пророков, давать концерты, не прибегая к инструментам, общаться друг с другом при посредстве улиток. Печать в серьезном тоне преподносила этот вздор публике, поощряя ее легковерие.
Стучащие духи обосновались в замке графа де Фавержа, оттуда распространились по селу; главным вопрошающим их был нотариус.
Задетый скептицизмом Бувара, он пригласил приятелей на сеанс вертящихся столов.
Уж не ловушка ли это? Там будет, вероятно, г-жа Борден. К нотариусу отправился один Пекюше.
В числе присутствующих были мэр, податной инспектор, капитан, несколько обывателей с женами, г-жа Вокорбей и, как и следовало ожидать, г-жа Борден; кроме того, была мадемуазель Лаверьер, бывшая учительница г-жи Мареско, чуточку косившая, с седыми локонами, спадавшими на плечи по моде 1830-х годов. В кресле восседал кузен хозяйки, парижанин в синем сюртуке, весьма нахальный с виду.
Комнату украшали две бронзовые лампы, горка с безделушками; на рояле лежали ноты с виньетками, на стенах красовались крошечные акварели в огромных рамках – все это неизменно приводило жителей Шавиньоля в изумление. Но в этот вечер все взоры были прикованы к столу красного дерева. Сейчас его подвергнут испытанию, а пока что он казался значительным, как бы заключающим в себе непостижимую тайну.
Двенадцать приглашенных уселись вокруг него, протянув руки и касаясь друг друга мизинцами. Ждали только, чтобы пробили часы. Лица выражали глубочайшее внимание.
Минут через десять многие стали жаловаться, что по рукам у них пробегают мурашки. Пекюше было не по себе.
– Что вы пихаетесь! – сказал капитан, обращаясь к Фуро.
– Да я и не думал пихаться!
– То есть как?
– Позвольте, сударь!
Нотариус их унял.
Все так напрягали слух, что им почудилось, будто потрескивает дерево. Иллюзия! Ничто не шелохнулось.
Прошлый раз, когда из Лизье приезжали семейства Обер и Лормо и когда нарочно попросили у Бельжамба его стол, все шло так хорошо! А сегодня он что-то заупрямился… С чего бы это?
Вероятно, ему мешал ковер, поэтому все общество перешло в столовую.
Для опыта выбрали столик на одной ножке, и за него сели Пекюше, Жирбаль, г-жа Мареско и ее кузен Альфред.
Столик был на колесиках; немного погодя он переместился вправо; участники сеанса, не разнимая рук, последовали за ним, а он сам собою сделал еще два поворота. Все были поражены.
Альфред громко вопросил:
– Дух! Как тебе нравится моя кузина?
Столик, медленно покачиваясь, ответил девятью ударами.
Согласно дощечке, на которой было указано, какой букве соответствует то или иное число ударов, это означало: «прелестна». Раздались одобрительные возгласы. Затем Мареско, поддразнивая г-жу Борден, потребовал у духа точного ответа на вопрос: сколько ей лет? Ножка столика стукнула пять раз.
– Как? Пять лет? – воскликнул Жирбаль.
– Десятки не принимаются в расчет, – ответил Фуро.
Вдова улыбнулась, хоть и была задета.
Ответы на остальные вопросы не получались – алфавит оказался чересчур сложным. Лучше было бы пользоваться табличкой – более удобным способом, к которому прибегала мадемуазель Лаверьер; ей даже удалось записать в альбом свои личные беседы с Людовиком XII, Клемансой Изор, Франклином, Жан Жаком Руссо и проч. Такие приборы продаются на улице Омаль. Альфред обещал купить приспособление, затем обратился к бывшей учительнице:
– А теперь немного музыки, не правда ли? Какую-нибудь мазурку…
Раздались два аккорда. Он взял кузину за талию, увел в соседнюю комнату, потом опять появился. Ее платье, касаясь дверей, распространяло прохладу. Она запрокидывала голову, он изящно выгибал руку. Гости любовались грацией дамы, удалью кавалера. Пекюше, не дожидаясь угощения, удалился совершенно ошеломленный.
Сколько он ни твердил: «Я сам видел! Сам видел!», Бувар опровергал факты, однако согласился самолично заняться опытом.
Целых две недели они проводили вечера, сидя друг против друга, держа руки над столом, потом над шляпой, над корзинкой, над тарелками. Ни один из этих предметов не тронулся с места.
Тем не менее факт столоверчения не подлежит сомнению. Толпа приписывает его духам, Фарадей – проявлению нервной деятельности, Шеврель – неосознанному напряжению, а может быть, как допускает Сегуен, оно объясняется тем, что из скопища людей исходят некие импульсы, некий магнетический ток?
Такая гипотеза навела Пекюше на размышление. Он взял из своей библиотеки Руководство для магнетизера Монтакабера, внимательно прочел его и познакомил Бувара с его теорией.
Все одушевленные существа воспринимают и сами распространяют воздействие небесных светил. Способность эта подобна свойству магнита. Управляя этой силой, можно излечивать больных, вот основной принцип. Со времен Месмера наука сделала большой шаг вперед, но по-прежнему важно излучать флюиды и делать пассы, задача коих прежде всего – усыплять.
– Ну так усыпи меня! – сказал Бувар.
– Не могу, – ответил Пекюше. – Чтобы испытывать на себе действие магнетизма и самому его передавать, необходима вера.
Пристально посмотрев на Бувара, он добавил:
– Какая досада!
– Что такое?
– А то, что при желании и после небольшой тренировки из тебя получился бы редкостный магнетизер!
Ведь Бувар обладает всем, что требуется: он располагает к себе, отличается могучим телосложением и твердым характером.
Бувар был польщен тем, что у него вдруг открыли такую способность. Он втихомолку погрузился в Монтакабера.
Тем временем Жермена стала жаловаться на шум в ушах, который совершенно оглушал ее, и однажды вечером Бувар сказал ей между прочим:
– А не испробовать ли вам магнетизм?
Она не воспротивилась. Он сел против нее, взял ее за большие пальцы и стал пристально смотреть ей в глаза, словно всю жизнь только этим и занимался.
Поставив ноги на грелку, старуха стала постепенно клонить голову; глаза ее сомкнулись, и она тихонько захрапела. Целый час они наблюдали за нею, потом Пекюше шепотом спросил:
– Что вы чувствуете?
Она очнулась.
Со временем у нее, несомненно, обнаружится способность ясновидения.
Этот успех придал им смелости, и, снова взявшись за врачевание, они без зазрения совести принялись лечить пономаря Шамберлана от межреберных болей, каменщика Мигрена – от невроза желудка, тетушку Варен, которой они прикладывали к опухоли под ключицей мясные пластыри, папашу Лемуана, больного подагрой и постоянно околачивавшегося возле кабаков; лечили человека, пораженного односторонним параличом, чахоточного и многих других. Они врачевали также насморк и отмороженные конечности.
Ознакомившись с недугом, они взглядом вопрошали друг друга, должны ли они применить в данном случае сильный или слабый ток, какие пассы пустить в ход: восходящие или нисходящие, продольные, поперечные, двуперстные, трехперстные или даже пятиперстные. Когда один выбивался из сил, его заменял другой. Вернувшись домой, они заносили свои наблюдения в историю болезни.







