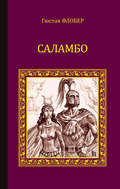Гюстав Флобер
Госпожа Бовари
VIII
«Что мне сказать? Как начать?» – думала она по дороге. И чем дальше она шла, тем яснее узнавала кусты, деревья, заросли дрока в долине, дальний замок. Она вновь ощущала былую, первую нежность, и ее бедное сжавшееся сердце влюбленно распускалось в этом чувстве. Мягкий ветер дул ей в лицо, снег таял, и с почек на траву медленно падали капли.
Как и в былые времена, она вошла в парк через калитку, потом попала на передний двор, окаймленный двойным рядом густых лип. Со свистом раскачивались длинные ветви. На псарне залились собаки, но никто не вышел на их звонкий лай.
Она поднялась по широкой прямой лестнице с деревянными перилами, которая вела в вымощенный пыльными плитами коридор, куда, словно в монастыре или гостинице, выходил длинный ряд комнат. Комната Родольфа была в самом конце, налево. Когда Эмма взялась за дверную ручку, силы вдруг покинули ее. Она боялась, что не застанет его, она почти желала этого, – а ведь это была ее единственная надежда, последняя возможность спасения. Она остановилась на минуту, чтобы прийти в себя, укрепила дух мыслью о необходимости и вошла.
Он сидел у камина, поставив ноги на решетку, и курил трубку.
– Как, это вы! – сказал он, быстро вставая.
– Да, я!.. Родольф, я хочу попросить у вас совета.
Несмотря на все свои усилия, она с трудом могла разжать губы.
– Вы не изменились, вы по-прежнему очаровательны!
– Жалкое очарование, друг мой, – горько ответила она. – Ведь вы пренебрегли им.
Тогда он стал объяснять свое поведение, приводить какие-то запутанные оправдания: лучших он не мог найти.
Эмма поддалась его словам, а еще больше – его голосу и виду; она притворилась, будто верит, а быть может, и в самом деле поверила его выдумке о причине разрыва: то была какая-то тайна, от которой зависела честь или даже жизнь третьего лица.
– Пусть так! – сказала она, грустно глядя на него. – Все равно, я очень страдала!
– Такова жизнь! – философически ответил он.
– По крайней мере, – вновь заговорила Эмма, – сладка ли она была для вас с тех пор, как мы расстались?
– О, ни сладка… ни горька.
– Может быть, нам было бы лучше не оставлять друг друга?
– Да… может быть!
– Ты думаешь? – сказала Эмма, придвигаясь ближе, и вздохнула: – О Родольф! Если бы ты знал! Я тебя так любила!
Только теперь она взяла его за руку, и пальцы их долго оставались сплетенными – как в первый день, на съезде. Он из самолюбия боролся с возникающей нежностью, но Эмма прижалась к его груди и сказала:
– Как же мне было жить без тебя? Разве можно отвыкнуть от счастья! Я была в отчаянии, я думала, что умру! Я тебе все расскажу, ты увидишь. А ты… ты бежал от меня.
В самом деле, он все три года, с прирожденной трусостью, характерной для сильного пола, тщательно уклонялся от встреч с нею. Тихонько кивая головой, Эмма, нежно ластясь к нему, продолжала:
– Признайся, ты любишь других? О, я их понимаю, я прощаю им; ты, верно, соблазняешь их, как соблазнил меня. Ты настоящий мужчина! В тебе есть все, что может вызвать любовь. Но мы все начнем снова – правда? Мы будем любить друг друга! Смотри, я смеюсь, я счастлива!.. Да говори же!
Она была очаровательна. Слезы дрожали на ее глазах, как дождевые капли после грозы в синей чашечке цветка.
Он притянул ее к себе на колени и ласково проводил тыльной частью руки по ее тугой, гладкой прическе, на которой золотою стрелкой последнего солнечного луча играл свет вечерней зари. Она склонила голову; он тихонько, кончиком губ поцеловал ее в веки.
– Но ты плакала! – сказал он. – О чем же?
Она разрыдалась. Родольф подумал, что это порыв любви; когда Эмма стихла, он принял ее молчание за последний остаток стыдливости и воскликнул:
– О, прости меня! Ты единственная, кого я люблю. Я поступил глупо и зло! Я люблю тебя, всегда буду любить! Что с тобой? Скажи мне!
Он встал на колени.
– Ну… я разорилась, Родольф! Ты должен дать мне взаймы три тысячи франков!
– Но… ведь… – заговорил Родольф, понемногу поднимаясь на ноги; лицо его принимало серьезное выражение.
– Знаешь, – быстро продолжала Эмма, – мой муж поместил все свои деньги у нотариуса, нотариус сбежал. Мы наделали долгов; пациенты нам не платили. Впрочем, ликвидация еще не закончилась; у нас еще будут деньги. Но теперь нам не хватило трех тысяч – и нас описали; это было сейчас, сию минуту; и вот я пришла в надежде на твою дружбу.
«Ах, вот зачем она пришла!» – сразу побледнев, подумал Родольф.
И очень спокойно ответил:
– У меня нет денег, сударыня.
Он не лгал. Будь у него деньги, он, конечно, дал бы, хотя делать такие великолепные жесты вообще не слишком приятно: ведь денежная просьба – это самое расхолаживающее, самое опасное из всех испытаний любви.
Несколько минут Эмма глядела на него молча.
– У тебя нет!.. – Она несколько раз повторила: – У тебя нет!.. Мне бы следовало избавить себя от этого последнего унижения. Ты никогда не любил меня! Ты не лучше других!
Она выдавала, губила себя.
Родольф прервал ее и стал уверять, что он сам «в стесненном положении».
– Ах, как мне тебя жаль! – отвечала Эмма. – Да, очень жаль!..
И она задержала взгляд на карабине с насечкой, который блестел на щите, обтянутом сукном.
– Но тот, кто беден, не отделывает приклад ружья серебром! Не покупает часов с перламутровой инкрустацией, – продолжала она, показывая на часы работы Буля, – не заводит хлыстов с золотыми рукоятками (она потрогала эти хлысты), не вешает на часы брелоков! О, у тебя ни в чем нет недостатка! У тебя в комнате есть даже поставец с ликерами! Ты любишь себя, ты хорошо живешь, у тебя замок, ферма, леса, у тебя псовая охота, ты ездишь в Париж… Ах, даже вот это, – воскликнула она, хватая с камина пару запонок, – даже малейшую из этих безделушек можно превратить в деньги!.. О, мне не надо! Оставь себе.
И она так отбросила запонки, что они ударились об стену и разорвалась их золотая цепочка.
– А я… Я бы тебе все отдала, я бы все продала! я бы работала на тебя своими руками, я бы милостыню собирала по дорогам за одну твою улыбку, за один взгляд, за то, чтобы услышать от тебя спасибо… А ты спокойно сидишь в кресле, словно мало еще ты принес мне страданий! Знаешь ли, что если б не ты, я могла бы быть счастливой! Кто тебя заставлял?.. Или, может быть, это было пари? Но ведь ты любил меня, ты сам так говорил!.. И даже только что, сейчас… Ах, лучше бы ты прогнал меня! У меня руки еще не остыли от твоих поцелуев, вот здесь, на этом ковре, ты у моих ног клялся мне в вечной любви… Ты заставил меня поверить: ты два года держал меня во власти самой великолепной и сладостной мечты!.. А помнишь ты наши планы путешествия? О, письмо твое, письмо! Оно истерзало мне сердце! А теперь, когда я снова прихожу к нему, – к нему, богатому, счастливому, свободному! – прихожу и умоляю о помощи, которую оказал бы мне первый встречный, когда я заклинаю его, когда я вновь приношу ему всю свою нежность, – он отталкивает меня, потому что это обойдется ему в три тысячи франков!
– У меня нет денег! – отвечал Родольф с тем непоколебимым спокойствием, которым, словно щитом, прикрывается сдержанный гнев.
Эмма вышла. Стены качались, потолок давил ее; спотыкаясь о кучи опавшего листа, разносимые ветром, она снова пробежала длинную аллею. Наконец она добралась до рва, устроенного перед решеткой; она так торопилась открыть калитку, что обломала ногти о засов. Отойдя еще шагов сто, она остановилась, задыхаясь, чуть не падая. И, обернувшись назад, снова увидала бездушный господский дом, его парк, сады, три двора, все окна по фасаду.
Она вся оцепенела, она ощущала себя только по биению сердца, – его стук казался ей оглушительной музыкой, разносящейся по всему полю. Земля под ногами была податливее воды, борозды колыхались, как огромные бушующие коричневые волны. Все мысли, все воспоминания, какие только были в ней, вырвались сразу, словно тысячи огней гигантского фейерверка. Она увидела отца, кабинет Лере, комнату в гостинице «Булонь», другой пейзаж… Она сходила с ума, ей стало страшно, и она кое-как заставила себя очнуться, – правда, не до конца: она все не могла вспомнить причину своего ужасного состояния – денежные дела. Она страдала только от любви, она ощущала, как вся душа ее уходит в это воспоминание – так умирающий чувствует в агонии, что жизнь вытекает из него сквозь кровоточащую рану.
Спускалась ночь, летали вороны.
И вдруг ей показалось, что в воздухе вспыхивают огненные шарики, словно светящиеся пули, а потом сжимаются в плоские кружки и вертятся, вертятся, и тают в снегу, между ветвями деревьев. На каждом появлялось посредине лицо Родольфа. Они все множились, приближались, проникали в нее; и вдруг все исчезло. Она узнала огоньки домов, мерцавшие в дальнем тумане.
И вот истинное положение открылось перед ней, как пропасть. Она задыхалась так, что грудь ее еле выдерживала. Потом в каком-то героическом порыве, почти радостно, бегом спустилась с холма, миновала коровий выгон, тропинку, дорогу, рынок – и очутилась перед аптекой.
Там никого не было. Эмма хотела туда проникнуть; но на звонок мог кто-нибудь выйти; она скользнула в калитку и, задерживая дыхание, цепляясь за стены, добралась до дверей кухни, где на плите горела свечка. Жюстен, без пиджака, понес в комнаты блюдо.
– А, они обедают. Надо подождать.
Жюстен вернулся. Она постучалась в окно.
Он вышел на порог.
– Ключ… от верха, где лежит…
– Что?
И он глядел на нее, поражаясь бледности лица, белым пятном выделявшегося на черном фоне ночи. Она казалась ему изумительно прекрасной, величественной, как видение; не понимая, чего она хочет, он предчувствовал что-то ужасное.
Но она быстро ответила тихим, нежным, обезоруживающим голосом:
– Я так хочу! Дай ключ.
Сквозь тонкую перегородку из столовой доносилось звяканье вилок по тарелкам.
Эмма солгала, будто хочет травить крыс: они мешают ей спать.
– Надо бы сказать хозяину.
– Нет! Не ходи туда!
И безразлично добавила:
– Не стоит, я скажу потом. Ну, посвети мне!
Она вошла в коридор, где была дверь в лабораторию. На стене висел ключ с этикеткой «Фармакотека».
– Жюстен! – чем-то обеспокоившись, закричал Омэ.
– Идем!
И Жюстен пошел за ней.
Ключ повернулся в скважине, и Эмма двинулась прямо к третьей полке, – так верно вела ее память, – схватила синюю банку, вырвала из нее пробку, засунула руку внутрь и, вынув горсть белого порошка, тут же принялась глотать.
– Перестаньте! – закричал, бросаясь на нее, Жюстен.
– Молчи! Придут…
Он был в отчаянии, он хотел звать на помощь.
– Не говори никому, а то за все ответит твой хозяин.
И, внезапно успокоившись, словно в безмятежном сознании исполненного долга, она ушла.
Когда Шарль, потрясенный вестью об описи имущества, поспешил домой, Эмма только что вышла. Он кричал, плакал, упал в обморок, но она не возвращалась. Где могла она быть? Он посылал Фелиситэ к Омэ, к Тювашу, к Лере, в трактир «Золотой лев» – всюду, а когда его волнение на секунду затихало, вспоминал, что репутация его погибла, состояние пропало, будущее Берты разбито. Но что же было тому причиной?.. Ни слова в ответ! Он ждал до шести часов вечера. Потом не мог больше сидеть на месте, вообразил, что Эмма уехала в Руан, вышел на большую дорогу, прошагал с пол-льё, никого не встретил, подождал еще и вернулся.
Она была дома.
– Что случилось?.. В чем дело?.. Объясни!..
Эмма села за свой секретер, написала письмо, поставила месяц, число, час и медленно запечатала. Потом торжественно сказала:
– Ты это прочтешь завтра; а до тех пор, прошу тебя, не задавай мне ни одного вопроса!.. Нет, ни одного!
– Но…
– Ах, оставь меня!
Она легла на кровать и вытянулась во весь рост.
Ее пробудил терпкий вкус во рту. Она увидела Шарля и снова закрыла глаза.
Эмма с любопытством вслушивалась в себя, старалась различить боль. Но нет, пока ничего не было. Она слышала тиканье стенных часов, потрескиванье огня, дыхание Шарля, стоявшего у изголовья.
«О, какие это пустяки – смерть! – думала она. – Вот я засну, и все будет кончено».
Она выпила глоток воды и отвернулась к стене.
Отвратительный чернильный вкус все не исчезал.
– Пить!.. Ох, пить хочу! – простонала она.
– Что с тобой? – спросил Шарль, подавая стакан воды.
– Ничего… Открой окно… душно!
И вдруг ее стало рвать – так внезапно, что она едва успела выхватить из-под подушки носовой платок.
– Унеси его! – быстро проговорила она. – Выбрось!
Шарль стал расспрашивать; Эмма не отвечала. Она лежала совершенно неподвижно, боясь, что от малейшего движения ее может снова стошнить. И чувствовала, как от ног поднимается к сердцу ледяной холод.
– А, начинается! – шепнула она.
– Что ты говоришь?
Она мягким, тоскливым движением поворачивала голову из стороны в сторону, и рот ее был открыт, словно на языке у нее лежало что-то очень тяжелое. В восемь часов снова началась рвота.
Шарль разглядел на дне таза приставшие к фарфору белые крупинки какого-то порошка.
– Странно! Удивительно! – повторял он.
Но она громко сказала:
– Нет, ты ошибаешься.
Тогда он осторожно, почти ласкающим движением руки тронул ей живот. Она громко вскрикнула. Он в ужасе отскочил.
Потом Эмма стала стонать, сначала тихо. Плечи ее судорожно содрогались, она стала белее простыни, за которую цеплялись ее скрюченные пальцы. Пульс бился теперь неровно, его еле удавалось прощупать.
Пот каплями катился по ее посиневшему лицу, оно казалось застывшим в какой-то металлической испарине. Зубы стучали, расширенные зрачки смутно глядели кругом; на вопросы Эмма отвечала только кивками; два или три раза она даже улыбнулась, но понемногу стоны ее стали громче. Вдруг у нее вырвался глухой вопль. Она стала говорить, будто ей лучше, будто скоро она встанет. Но тут начались судороги.
– Боже мой, это жестоко! – воскликнула она.
Шарль бросился перед кроватью на колени.
– Говори, что ты ела? Отвечай же, ради бога!
И он смотрел на нее с такой нежностью, какой она никогда еще не видала.
– Там… там… – сказала она замирающим голосом.
Он бросился к секретеру, сломал печать и прочел вслух: «Прошу никого не винить…» Остановился, провел рукой по глазам, потом перечел еще раз.
– Как!.. На помощь! Ко мне!
Он только все повторял: «Отравилась, отравилась!» – и больше ничего не мог сказать. Фелиситэ побежала к Омэ, который прокричал то же слово; в «Золотом льве» его услышала г-жа Лефрансуа; многие вставали с кроватей, чтобы передать его соседям, – и всю ночь городок волновался.
Растерянный, бормоча, чуть не падая, Шарль метался по комнате; он натыкался на мебель, рвал на себе волосы. Аптекарь никогда не думал, что на свете может быть такое ужасающее зрелище.
Бовари ушел в свою комнату написать г-ну Каниве и доктору Ларивьеру. Он совсем потерял голову; он переписывал больше пятнадцати раз. Ипполит отправился в Нефшатель, а Жюстен так пришпоривал докторскую лошадь, что у Гильомского леса ему пришлось бросить ее: она была загнана и чуть не издыхала.
Шарль стал листать медицинский словарь; но он ничего не видел, строчки плясали у него перед глазами.
– Спокойствие! – говорил аптекарь. – Все дело в том, чтобы прописать какое-нибудь сильное противоядие. Чем она отравилась?
Шарль показал ему письмо – мышьяк!
– Значит, – сказал Омэ, – надо сделать анализ.
Он знал, что при всех отравлениях полагается делать анализ; а Бовари, ничего не понимая, отвечал:
– Ах, сделайте, сделайте! Спасите ее.
И он снова подошел к ней, опустился на ковер, уронил голову на край кровати и разрыдался.
– Не плачь! – сказала она ему. – Скоро я перестану тебя мучить!
– Зачем? Кто тебя заставил!
– Так было надо, друг мой, – отвечала она.
– Разве ты не была счастлива? Чем я виноват? Я ведь делал все, что только мог!
– Да… правда… Ты… ты – добрый!
И она медленно погладила его по волосам. Сладость этого ощущения переполнила чашу его горя; все его существо отчаянно содрогалось при мысли, что теперь он ее потеряет, – теперь, когда она выказала ему больше любви, чем когда бы то ни было; а он ничего не мог придумать, он не знал, он не смел, – необходимость немедленного решения окончательно отнимала у него власть над собой.
Кончились, думала она, все мучившие ее обманы, все низости, все бесчисленные судорожные желания. Она перестала ненавидеть кого бы то ни было, смутные сумерки обволакивали ее мысль, и из всех шумов земли она слышала лишь прерывистые, тихие, неясные жалобы этого бедного сердца, словно последние отзвуки замирающей симфонии.
– Приведите девочку, – сказала она, приподнимаясь на локте.
– Тебе ведь теперь не больно? – спросил Шарль.
– Нет, нет!
Служанка принесла малютку в длинной ночной рубашонке, из-под которой виднелись босые ножки; Берта была серьезна и еще не совсем проснулась. Изумленно оглядывая беспорядок, царивший в комнате, она мигала глазами – ее ослепляли горевшие повсюду свечи. Все это, должно быть, напоминало ей Новый год или ми-карэм, когда ее тоже будили рано утром, при свечах, и приносили к матери, а та дарила ей игрушки.
– Где же это всё, мама? – сказала она.
Но все молчали.
– А куда спрятали мой башмачок?
Фелиситэ наклонила ее к постели, а она продолжала глядеть в сторону камина.
– Его кормилица взяла? – спросила она.
Слово «кормилица» вызвало в памяти г-жи Бовари все ее измены, все ее несчастья, и она отвернулась, словно к горлу ее подступила тошнота от другого, еще более сильного яда. Берта все сидела на постели.
– Мамочка, какие у тебя большие глаза! Какая ты бледная! Ты вся в поту…
Мать взглянула на нее.
– Боюсь! – сказала девочка и резко отодвинулась назад.
Эмма взяла ее ручку и хотела поцеловать; Берта стала отбиваться.
– Довольно! Унесите ее! – вскрикнул Шарль.
Он рыдал в алькове.
Болезненные явления ненадолго прекратились; Эмма казалась спокойней; от каждого ее незначительного слова, от каждого сколько-нибудь свободного вздоха в Шарле возрождалась надежда. Наконец явился Каниве. Несчастный со слезами бросился ему на шею.
– Ах, это вы! Спасибо вам! Вы так добры! Но теперь ей уже лучше. Вот поглядите сами…
Коллега отнюдь не присоединился к такому мнению и, не желая, как он сам выразился, ходить вокруг да около, прописал рвотное, чтобы как следует очистить желудок.
Сейчас же началась рвота кровью. Губы Эммы стянулись еще больше. Руки и ноги сводила судорога, по телу пошли коричневые пятна, пульс бился под пальцем, как натянутая нить, как готовая порваться струна.
Вскоре она начала ужасно кричать. Она проклинала яд, ругала его, умоляла поторопиться, она отталкивала коченеющими руками все, что подносил ей больше нее измученный Шарль. Он стоял, прижимая платок к губам, и хрипел, плакал, задыхался; рыдания сотрясали все его тело с головы до ног. Фелиситэ бегала по комнате из стороны в сторону; Омэ, не двигаясь с места, глубоко вздыхал, а г-н Каниве хотя и не терял апломба, но все же начинал чувствовать внутреннее смущение.
– Черт!.. Как же это?.. Ведь желудок очищен, а раз устраняется причина…
– Должно устраниться и следствие, – подхватил Омэ. – Это очевидно.
– Да спасите же ее! – воскликнул Бовари.
И Каниве, не слушая аптекаря, который пытался развить гипотезу: «Быть может, это спасительный кризис», собрался прописать териак, когда во дворе послышалось щелканье бича; все стекла затряслись, и из-за угла рынка во весь дух вылетел на взмыленной тройке почтовый берлин. В нем был доктор Ларивьер.
Если бы в комнате появился Бог, то и это не произвело бы большего эффекта. Бовари поднял руки к потолку, Каниве прикусил язык, а Омэ, еще задолго до того, как доктор вошел в дом, снял свою феску.
Ларивьер принадлежал к великой хирургической школе, вышедшей из аудитории Биша, – к уже вымершему ныне поколению врачей-философов, которые относились к своему искусству с фанатической любовью и применяли его вдохновенно и осмотрительно. Вся больница дрожала, когда он приходил в гнев, а ученики так обожали его, что, едва приступив к самостоятельной работе, старались копировать его в чем только возможно. По окрестным городам было немало врачей, перенявших у него даже длинное стеганое пальто с мериносовым воротником и широкий черный фрак с вечно расстегнутыми манжетами; у самого учителя из-под них выступали крепкие мясистые руки, – очень красивые руки, на которых никогда не было перчаток, словно они всегда торопились погрузиться в человеческие страдания. Он презирал чины, кресты и академии, был гостеприимен и щедр, к бедным относился, как родной отец, и, не веря в добродетель, был ее образцом; его, верно, считали бы святым, не будь у него тонкой проницательности, из-за которой его боялись, как демона. Взгляд его был острее ланцета, – он проникал прямо в душу и, отбрасывая все обиняки и стыдливые недомолвки, сразу вскрывал всякую ложь. Так держал он себя, исполненный того добродушного величия, которое дается сознанием большого таланта, счастья и сорокалетней безупречной трудовой жизни.
Еще на пороге он сдвинул брови, увидев землистое лицо Эммы. Она лежала вытянувшись на спине, рот ее был открыт. Потом, делая вид, что слушает Каниве, он поднес палец к носу и проговорил:
– Хорошо, хорошо.
Но при этом медленно пожал плечами. Бовари следил за ним. Они обменялись взглядом, и этот человек, так привыкший к зрелищу страданий, не мог удержать слезу; она скатилась на его жабо.
Он ушел с Каниве в соседнюю комнату. Шарль побежал за ним.
– Ей очень плохо, правда? Может быть, поставить горчичники? Я сам не знаю. Найдите же какое-нибудь средство, – вы ведь столько людей спасли!
Шарль обхватил его обеими руками и, почти повиснув на нем, глядел на него растерянно, умоляюще.
– Крепитесь, мой милый друг! Больше делать нечего!
И доктор Ларивьер отвернулся.
– Вы уходите?
– Я вернусь.
Вместе с Каниве, который не сомневался, что Эмма умрет у него на руках, он вышел, будто бы отдать распоряжения кучерам.
На площади их догнал аптекарь. По самому свойству своей натуры он не мог отойти от знаменитостей. И он умолил г-на Ларивьера оказать ему великую честь, пожаловать к завтраку.
Сейчас же послали в гостиницу «Золотой лев» за голубями, скупили у мясника весь запас котлет, у Тюваша сливки, у Лестибудуа яйца. Хозяин лично участвовал в приготовлениях к столу, а г-жа Омэ все перебирала завязки кофты и говорила:
– Вы уж нас извините, сударь. В наших несчастных местах, если не знаешь с вечера…
– Рюмки!!! – шипел Омэ.
– Будь то в городе, можно было бы в крайнем случае подать фаршированные ножки.
– Замолчи!.. Пожалуйте к столу, доктор!
Когда были проглочены первые куски, Омэ счел уместным сообщить некоторые подробности катастрофы.
– Сначала появилось ощущение сухости в глотке, затем наступили невыносимые боли в наджелудочной области, неукротимая рвота, коматозное состояние.
– Как это она отравилась?
– Понятия не имею, доктор; я даже не очень-то представляю себе, где она могла достать эту мышьяковистую кислоту.
Жюстен, как раз входивший в комнату со стопкой тарелок, весь затрясся.
– Что с тобой? – спросил аптекарь.
При этом вопросе юноша с грохотом уронил всю стопку на пол.
– Болван! – заорал Омэ. – Медведь! Увалень! Осел этакий!
Но тут же овладел собою.
– Я решил, доктор, попробовать произвести анализ и, primo[13], осторожно ввел в трубочку…
– Лучше бы вы, – сказал хирург, – ввели ей пальцы в глотку.
Второй врач молчал: он только что получил крепкую, хотя и секретную нахлобучку за свое рвотное; таким образом теперь этот милый Каниве, который во время истории с искривленной стопой был так самоуверен и многоречив, держался очень скромно; он не вмешивался в разговор и только все время одобрительно улыбался.
Омэ весь сиял гордостью амфитриона, а печальные мысли о Бовари еще больше увеличивали его блаженство, когда он эгоистически возвращался к самому себе. Кроме того, его вдохновляло присутствие доктора. Он щеголял эрудицией, он вперемежку упоминал о шпанских мухах, анчаре, мансенилле, змеином яде.
– Я даже читал, доктор, что некоторые лица отравлялись и падали, как бы сраженные громом, от обыкновенной колбасы, подвергнутой неумеренному копчению! Так по крайней мере гласит прекраснейшая статья, принадлежащая перу одного из наших фармацевтических светил, одного из наших учителей, знаменитого Каде де Гассикура.
Появилась г-жа Омэ с шаткой машинкой, обогреваемой спиртом: Омэ всегда требовал, чтобы кофе варилось тут же, за столом; мало того, он сам его подвергал обжиганию, сам измельчал до порошкообразного состояния, сам соединял в смеси.
– Saccharum, доктор, – сказал он, предлагая сахар.
Затем велел привести всех своих детей: ему было любопытно узнать мнение хирурга об их сложении.
Г-н Ларивьер уже собирался уходить, когда г-жа Омэ попросила медицинского совета для ее мужа: у него такая густая кровь, что он каждый вечер засыпает после обеда, и она боится кровоизлияния в мозг.
– О, мозг у него не слишком полнокровен.
И, улыбнувшись исподтишка этому незамеченному каламбуру, доктор открыл дверь. Но вся аптека была забита людьми. Он еле отделался от г-на Тюваша, который боялся, как бы его жена не заболела воспалением легких: у нее была привычка харкать в камин; потом от г-на Бине, который иногда ощущал нестерпимый аппетит; от г-жи Карон, у которой бывали покалывания; от Лере, который страдал головокружениями; от Лестибудуа, который страдал от ревматизма; от г-жи Лефрансуа, которая страдала кислой отрыжкой. Наконец тройка лошадей взяла с места, и все ионвильцы решили, что доктор не слишком-то любезен.
Но тут общественное внимание было отвлечено появлением г-на Бурнисьена: он проходил под базарным навесом, неся в руках святые дары.
Омэ, как и требовали от него принципы, сравнил попов с воронами, слетающимися на трупный запах; вид всякого священника причинял ему личную неприятность, так как сутана напоминала ему о саване, – и из страха перед последним он недолюбливал первую.
Однако Омэ не отступил перед тем, что он называл своей миссией, и вернулся к Бовари; вместе с ним пошел и Каниве, которого об этом очень просил перед отъездом г-н Ларивьер; если бы не возражения супруги, аптекарь взял бы и обоих сыновей: он хотел приучить их к трагическим обстоятельствам, показать им поучительный пример и величественную картину, которая навсегда осталась бы у них в памяти.
Когда они вошли, комната была исполнена мрачной торжественности. На покрытом белой салфеткой рабочем столике лежало на серебряном блюде пять-шесть комков ваты, а рядом – две горящие свечи, и между ними большое распятие. Эмма, наклонив голову так, что подбородок прикасался к груди, глядела необычайно широко открытыми глазами; бедные ее руки цеплялись за одеяло некрасивым и слабым движением, свойственным всем умирающим: они словно заранее натягивают на себя саван. Бледный, как статуя, с красными, как угли, глазами, Шарль, без слез, стоял напротив, в ногах постели; священник, преклонив одно колено, тихо шептал молитвы.
Эмма медленно повернула лицо; казалось, радость охватила ее, когда она вдруг увидела фиолетовую епитрахиль; в необычайном умиротворении она, видимо, вновь нашла забытое сладострастие своих первых мистических порывов, видение наступающего вечного блаженства.
Священник встал и взял распятие. Тогда она вытянула шею, как человек, который хочет пить, и, прильнув устами к телу богочеловека, со всею своей иссякающей силой запечатлела на нем самый жаркий поцелуй любви, какой только она знала в жизни. Священник тотчас прочел Misereatur[14] и Indul-gentiam[15], обмакнул большой палец правой руки в елей и начал помазание: сначала умастил глаза, много алкавшие пышной прелести земной; потом – ноздри, жадные к теплому ветру и любовным благоуханиям; потом уста, отверзавшиеся для лжи, стекавшие в похоти и кричавшие в гордыне; потом – руки, познавшие негу сладостных касаний, и наконец – подошвы ног, столь быстрых в те времена, когда женщина эта бежала утолять свои желания, а ныне остановившихся навеки.
Кюре вытер пальцы, бросил в огонь замасленную вату и вновь сел рядом с умирающей. Он сказал ей, что теперь она должна слить свои муки с муками Иисуса Христа и вручить себя милосердию божию.
Кончив увещание, он попытался вложить ей в руки освященную свечу – символ той небесной славы, которая должна была так скоро окружить умирающую. Но Эмма была слишком слаба и не могла удержать ее, так что, не будь г-на Бурнисьена, свеча упала бы на пол.
А между тем она была уже не так бледна, как раньше, и лицо ее приняло безмятежное выражение, словно таинство вернуло ей здоровье.
Священник не упустил случая заметить это вслух; он даже сообщил Шарлю, что иногда Господь продлевает человеку жизнь, если сочтет это нужным для его душевного спасения. И Шарль вспомнил, как она однажды уже была при смерти и причащалась.
«Быть может, еще рано терять надежду», – подумал он.
В самом деле, Эмма оглядела все кругом – медленно, словно пробудившись от сна; потом отчетливым голосом попросила зеркало и, наклонившись, долго смотрелась в него, пока из глаз ее не скатились две крупных слезы. Тогда она откинула голову и со вздохом упала на подушки.
И тотчас грудь ее задышала необычайно часто. Язык весь высунулся изо рта; глаза закатились и потускнели, как абажуры на гаснущих лампах; если бы не невероятно быстрое движение ребер, сотрясавшихся в яростном дыхании, словно душа вырывалась из тела скачками, можно было бы подумать, что Эмма уже мертва. Фелиситэ упала на колени перед распятием; даже сам аптекарь слегка подогнул ноги; г-н Каниве глядел в окно на площадь. Бурнисьен снова начал молиться, наклонившись лицом к краю смертного ложа, и длинные полы его черной сутаны раскинулись по полу. Шарль стоял на коленях по другую сторону кровати и тянулся к Эмме. Он схватил ее за руки, сжимал их и содрогался при каждом ударе ее сердца, словно отзываясь на толчки разваливающегося здания. Чем громче становился хрип, тем быстрее священник читал молитвы; они сливались с подавленными рыданиями Бовари, и порой все тонуло в глухом рокоте латыни, гудевшей, как похоронный звон.
Вдруг на улице послышался стук деревянных башмаков, зашуршала по камням палка и раздался голос, хриплый, поющий голос:
Ах, летний жар волнует кровь,
Внушает девушке любовь…
Эмма приподнялась, словно гальванизированный труп; волосы ее рассыпались, широко открытые глаза пристально глядели в одну точку.
Проворней серп блестит, трудясь,
И ниву зрелую срезает;
Наннета, низко наклонясь,
Колосья в пиле собирает…
– Слепой! – вскрикнула Эмма и засмеялась диким, бешеным, отчаянным смехом, – ей казалось, что она видит отвратительное лицо урода, пугалом встающее в вечном мраке.
Проказник-ветер крепко дул
И ей юбчонку завернул.
Судорога отбросила Эмму на подушки. Все придвинулись ближе. Ее не стало.