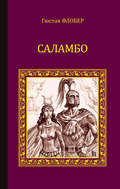Гюстав Флобер
Госпожа Бовари
– Я уже все прочла, – говорила она.
Так и сидела она на месте, раскаляя докрасна каминные щипцы или глядя в окно на дождь.
Грустно бывало ей по воскресеньям, когда звонили к вечерне! С тупым вниманием слушала она, как равномерно дребезжал надтреснутый колокол. Кошка медленно кралась по крыше, выгибая спину под бледными лучами солнца. Ветер клубами вздымал пыль на дороге. Иногда вдали выла собака, а колокол продолжал свой монотонный звон, уносившийся в поля.
Но вот народ начинал выходить из церкви. Женщины в начищенных башмаках, крестьяне в новых блузах, прыгающие впереди ребятишки без шапок – все шли домой. И до самой ночи пять-шесть человек – всегда одни и те же – играли у ворот постоялого двора в пробку.
Зима была холодная. Каждый день к утру окна замерзали, и белесоватый свет, пробиваясь сквозь матовое стекло, иногда так и не менялся весь день. К четырем часам уже приходилось зажигать лампу.
В хорошую погоду Эмма выходила в сад. На капусте серебряным шитьем сверкал иней; длинные блестящие нити паутины тянулись от кочна к кочну. Птиц не было слышно, все казалось спящим; фруктовые деревья были закутаны соломой; виноградник, словно огромная больная змея, тянулся под навесом у стены, на которой, подойдя ближе, можно было разглядеть ползающих на бесчисленных лапках мокриц. У фигуры кюре в треуголке, читавшего молитвенник под пихтами у забора, отвалилась правая ступня и даже облупился от мороза гипс, так что на лице у него появились белые лишаи.
Эмма поднималась в свою комнату, запирала дверь, начинала ворошить угли в камине и, слабея от жары, чувствовала, как тяжелеет гнетущая тоска. Она с удовольствием спустилась бы на кухню поболтать со служанкой, но ее удерживал стыд.
Каждый день в один и тот же час открывал свои ставни учитель в черной шелковой шапочке и проходил сельский стражник в блузе и при сабле. Утром и вечером, по три в ряд, пересекали улицу почтовые лошади – они шли к пруду на водопой. Время от времени дребезжал колокольчик на двери кабачка, да в ветреную погоду скрежетали на железных прутьях медные тазики, заменявшие вывеску у парикмахерской. Все украшение ее витрины состояло из старой модной картинки, наклеенной на оконное стекло, и воскового женского бюста в желтом шиньоне. Парикмахер тоже плакался на застой в работе, на загубленную карьеру и, мечтая о мастерской в каком-нибудь большом городе, например в Руане, на набережной или близ театра, – целый день в мрачном ожидании клиентов расхаживал по улице от мэрии до церкви и обратно. Поднимая глаза, г-жа Бовари всегда видела его на посту: словно часовой, шагал он в своей феске набекрень и ластиковом пиджаке.
Иногда, под вечер, за окном гостиной появлялось загорелое мужское лицо в черных баках; оно медленно улыбалось широкой и сладкой улыбкой, показывая белые зубы. Тотчас раздавался вальс, и под звуки шарманки кружились, кружились в крохотном зале между креслами, кушетками и консолями танцоры вышиною в палец – женщины в розовых тюрбанах, тирольцы в курточках, обезьянки в черных фраках, кавалеры в коротких штанах, – и все это отражалось в осколках зеркального стекла, приклеенных по углам полосками золотой бумаги. Мужчина вертел ручку, заглядывая направо и налево в окна. Время от времени он сплевывал на тумбу длинную струю коричневой слюны и приподнимал коленом инструмент, который оттягивал ему плечо жесткой перевязью; музыка, то грустная и тягучая, то веселая и быстрая, с гудением вырывалась из-за розовой тафтяной занавески, державшейся на узорной медной планке. А где-то играли те же самые мелодии в театрах, пели в салонах, танцевали под их звуки вечерами в освещенных люстрами залах. Они долетали до Эммы как отголоски большого света. Бесконечные сарабанды кружились в ее мозгу, и мысль, словно баядерка на цветах ковра, извивалась вместе со звуками музыки, скользила от мечты к мечте, от печали к печали. Собрав в фуражку подаяния, мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал ее на спину и тяжелыми шагами удалялся. Эмма глядела ему вслед.
Но особенно невыносимо было во время обеда, внизу, в крохотной столовой с вечно дымящей печью и скрипучей дверью, с промозглыми стенами и влажным от сырости полом. Эмме казалось, что ей подают на тарелке всю горечь существования, и когда от вареной говядины шел пар, отвращение клубами подымалось в ее душе. Шарль ел долго; она грызла орешки или, облокотившись на стол, от скуки царапала ножом клеенчатую скатерть.
На хозяйство она теперь махнула рукой, и старшая г-жа Бовари, приехав великим постом, очень удивилась такой перемене. В самом деле, прежде Эмма была так опрятна и разборчива, а теперь по целым дням ходила неодетая, носила серые бумажные чулки, сидела при свечке. Она все говорила, что раз нет богатства, то надо экономить, и прибавляла, что сама она очень довольна, очень счастлива, что Тост ей очень нравится; все эти новые речи зажимали свекрови рот. К тому же Эмма, по-видимому, не собиралась слушаться ее советов; однажды, когда свекровь попробовала заметить, что господа должны следить, чтобы слуги исполняли свои религиозные обязанности, она ответила таким гневным взглядом и такой холодной улыбкой, что старушка перестала вмешиваться в ее дела.
Эмма стала требовательна и капризна. Она заказывала для себя отдельные блюда, а потом не прикасалась к ним; сегодня пила одно только цельное молоко, а завтра набрасывалась на чай. Часто она упорно не хотела выходить из дома, а потом ей всюду казалось душно, она открывала окна, надевала легкие платья. Замучив служанку строгостью, она вдруг делала ей подарки или посылала ее в гости к соседям и точно так же иной раз выбрасывала нищим все серебро из своего кошелька, хотя вовсе не была ни особенно мягка, ни чувствительна к чужим страданиям, как, впрочем, и большинство людей, вышедших из деревни: в их душах навсегда остается что-то от жесткости отцовских мозолей.
В конце февраля дядюшка Руо привез зятю в память своего излечения великолепную индюшку и прогостил в Тосте три дня. Шарль был занят больными, и со стариком сидела Эмма. Он курил в комнатах, плевал в камин, говорил о посевах, о телятах, о коровах, о дичи, о муниципальном совете, и, когда он уехал, дочь заперла за ним дверь с таким удовольствием, что даже сама удивилась. Впрочем, она уже перестала скрывать свое презрение ко всему на свете; нередко она нарочно выражала странные мнения – порицала то, что полагалось хвалить, хвалила то, что другие признавали извращенным и безнравственным. Муж только раскрывал глаза от удивления.
Неужели это жалкое существование будет длиться вечно? Неужели она никогда от него не избавится? Ведь она ничем не хуже всех тех женщин, которые живут счастливо. В Вобьессаре она видела не одну герцогиню, у которой и фигура была грузнее, и манеры вульгарнее, чем у нее. И Эмма проклинала Бога за несправедливость; она прижималась головой к стене и плакала; она томилась по шумной и блестящей жизни, по ночным маскарадам, по дерзким радостям и неизведанному самозабвению, которое должно было в них таиться.
Она побледнела, у нее бывали сердцебиения. Шарль прописал ей валерьяновые капли и камфарные ванны. Но все, что пытались для нее сделать, как будто раздражало ее еще больше.
В иные дни на нее нападала лихорадочная болтливость; потом возбуждение сменялось тупым безразличием, и она, молча, неподвижно сидела на одном месте. Тогда она поддерживала свои силы только тем, что целыми флаконами лила себе на руки одеколон.
Все время она жаловалась на Тост; поэтому Шарль вообразил, будто в основе ее болезни лежит какое-то влияние местного климата, и, остановившись на этой мысли, стал серьезно думать о том, чтобы устроиться в другом городе. Тогда Эмма начала пить уксус, чтобы похудеть, схватила сухой кашель и окончательно потеряла аппетит.
Шарлю нелегко было расстаться с Тостом, где он прожил уже четыре года, да еще расстаться в тот момент, когда он начал становиться на ноги. Но что надо, то надо! Он отвез жену в Руан и показал ее профессору, у которого в свое время учился. Оказалось, что у Эммы нервное заболевание: необходимо переменить обстановку.
Обратившись туда-сюда, Шарль узнал, что в Нефшательском округе есть отличный городок Ионвиль-л Аббэй, откуда как раз за неделю до того уехал врач, польский эмигрант. Тогда Шарль написал местному аптекарю письмо, в котором спрашивал, какова численность населения в городе, далеко ли до ближайшего коллеги, сколько зарабатывал в год его предшественник и так далее. Ответ был благоприятный, и Бовари решил, если здоровье жены не улучшится, к весне переехать.
Однажды Эмма, готовясь к отъезду, разбирала вещи в комоде и уколола обо что-то палец. То была проволочка от ее свадебного букета. Флердоранж пожелтел от пыли, атласные ленты с серебряной каймой истрепались по краям. Эмма бросила цветы в огонь. Они вспыхнули, как сухая солома. На пепле остался медленно догоравший красный кустик. Эмма глядела на него. Лопались картонные ягодки, извивалась медная проволока, плавился галун; обгоревшие бумажные венчики носились в камине, словно черные бабочки, пока наконец не улетели в трубу.
В марте, когда супруги уехали из Тоста, г-жа Бовари была беременна.
Часть вторая
I
Ионвиль-л’Аббэй (он назван так в честь старинного аббатства капуцинов, от которого теперь не осталось я развалин) – маленький городок в восьми льё от Руана, между Аббевильской и Бовезской дорогами; он лежит в долине речки Риель, которая впадает в Андель и близ своего устья приводит в движение три мельницы; в ней водится небольшое количество форели, и по воскресеньям мальчишки удят здесь рыбу.
От большой дороги в Буасьере ответвляется проселок, отлого поднимается на холм Ле, откуда видна вся долина. Речка делит ее как бы на две области различного характера: налево идет сплошной луг, направо – поля. Луг тянется под полукружием низких холмов и позади соединяется с пастбищами Брэ, к востоку же все шире идут мягко поднимающиеся поля, беспредельные нивы золотистой пшеницы. Окаймленная травою текучая вода отделяет цвет полей от цвета лугов светлой полоской, и, таким образом, все вместе похоже на разостланный огромный плащ с зеленым бархатным воротником, обшитым серебряной тесьмой.
Подъезжая к городу, путешественник видит впереди, на самом горизонте, дубы Аргейльского леса и крутые откосы Сен-Жана, сверху донизу изрезанные длинными и неровными красноватыми бороздами. Это – следы дождей, а кирпичные тона цветных жилок, испестривших серую массу горы, происходят от бесчисленных железистых источников, которые текут из глубины ее в окрестные поля.
Здесь сходятся Нормандия, Пикардия и Иль-де-Франс, здесь лежит вырождающаяся местность с невыразительным говором и бесцветным пейзажем. Здесь делают самый скверный во всем округе нефшательский сыр, а земледелие тут обходится дорого: сыпучая песчаная почва полна камней и требует много навоза.
До 1835 года в Ионвиль почти нельзя было проехать, но в этом году был проложен большой проселочный путь, связывающий Аббевильскую дорогу с Амьенской. По нему иногда тянутся обозы из Руана во Фландрию. Однако Ионвиль, несмотря на свои новые рынки, остался все тем же. Жители, вместо того чтобы совершенствовать полеводство, цепляются за бездоходное луговое хозяйство, и ленивый городишко, отворачиваясь от полей, естественно продолжает расти в сторону реки. Он виден издалека: лежит, растянувшись, на берегу, словно пастух, уснувший близ ручья.
За мостом, у подошвы холма, начинается обсаженное молодыми осинами шоссе, прямое, как стрела; оно ведет к окраинным домам Ионвиля. Они окружены живыми изгородями; по дворам, под густыми деревьями, к которым прислонены лестницы, жерди и косы, разбросаны разные постройки – давильни, сараи, винокурни. Соломенные кровли, словно надвинутые на самые глаза меховые шапки, почти на целую треть закрывают низенькие окошки с толстыми выпуклыми стеклами, в которых посредине выдавлен конус, как это делают на донышке бутылок. У выбеленных известкой стен, пересеченных по диагонали черными балками, кое-где растут тощие груши, а у входной двери устроены маленькие вертушки, – они не пускают в дом цыплят, клюющих на пороге сухарные крошки, намоченные в сидре. Но вот дворы становятся уже, дома сближаются, исчезают заборы; под окном качается палка от метлы, на которую надет пучок папоротника; видна кузница и рядом тележная мастерская; перед ней стоят, захватывая часть дороги, две-три новые телеги. Дальше появляется белый дом за решеткой, а перед ним круглый газон, где стоит, прижав пальчик к губам, маленький амур, по сторонам подъезда возвышаются две лепных вазы, на двери блестит металлическая дощечка. Это – дом нотариуса, самый лучший в городе.
В двадцати шагах от него, у выхода на площадь, по другую сторону дороги высится церковь. Ее окружает маленькое кладбище, огороженное каменной стеной ниже человеческого роста и заселенное так густо, что старые могильные плиты, лежащие вровень с землей, образуют сплошной пол, на котором проросшая зеленая травка очерчивает правильные четырехугольники. Церковь была перестроена заново в последние годы царствования Карла X. Деревянный свод уже начинает сверху гнить, и местами на его синем фоне проступают черные пятна. Над дверью, где полагается быть органу, устроены хоры для мужчин; туда ведет звенящая под деревянными башмаками винтовая лестница.
Яркий дневной свет, проникая сквозь одноцветные оконные стекла, освещает своими косыми лучами ряды скамей, стоящих под прямым углом к стене; кое-где на них прибиты гвоздиками плетеные коврики, и над каждой надпись крупными буквами: «Скамья г-на такого-то». Дальше, в суживающейся части нефа, помещается исповедальня, вполне гармонирующая со статуэткой пресвятой девы в атласном платье, в тюлевой вуали с серебряными звездочками и густо нарумяненной, как идол с Сандвичевых островов; наконец в самой глубине перспективу завершает висящая над алтарем между четырьмя высокими подсвечниками копия «Святого семейства» – дар министра внутренних дел. На хорах еловые откидные сиденья так и остались некрашенными.
Добрая половина главной ионвильской площади занята крытым рынком, то есть черепичным навесом на двух десятках столбов. На углу, рядом с аптекой, находится мэрия, выстроенная по плану парижского архитектора, – нечто вроде греческого храма. Украшение первого этажа – три ионические колонны, во втором – галерея с круглой аркой; на фронтоне – галльский петух, одной лапой он опирается на Хартию, а в другой держит весы правосудия.
Но больше всего привлекает внимание аптека г-на Омэ, что напротив трактира «Золотой лев». Особенно великолепна она вечером, когда в ней зажигается кинкетка и красные и зеленые шары на витрине далеко расстилают по земле цветные отблески. Сквозь шары, словно в бенгальском огне, виднеется тень склонившегося над пюпитром аптекаря. Дом его сверху донизу заклеен плакатами, на которых то английским почерком, то рондо, то печатным шрифтом написано: «Виши, сельтерская вода, барежская вода, кровоочистительные экстракты, слабительное Распайля, аравийский ракаут, пастилки Дарсэ, паста Реньо, перевязочные материалы, составы для ванн, лечебный шоколад и проч.». Вдоль всего фасада тянется вывеска, и на ней золотыми буквами значится: «Аптека Омэ». Внутри, за огромными, вделанными в прилавок весами, красуется над застекленной дверью слово «Лаборатория», а посредине самой двери еще раз повторено золотыми буквами на черном фоне: «Омэ».
Больше в Ионвиле глядеть не на что. Улица (единственная) длиною в полет ружейной пули насчитывает еще несколько лавчонок и обрывается на повороте дороги. Если оставить ее справа и пойти вдоль подошвы холма Сен-Жан, то скоро будет кладбище.
Во время холеры его расширили – сломали с одной стороны стену и прикупили смежный участок земли в три акра; но могилы по-старому теснятся у ворот, и новая половина почти целиком пустует. Сторож, он же могильщик и церковный причетник (таким образом он вдвойне наживается на покойниках), воспользовался свободным местом и засадил его картофелем. Но его участок из года в год все сокращается; и когда в городе бывают эпидемии, то он сам не знает, радоваться ли ему похоронам, или горевать, роя новые могилы.
– Вы кормитесь мертвыми, Лестибудуа! – не выдержав, сказал ему однажды господин кюре.
Эти мрачные слова заставили сторожа задуматься: он прекратил на некоторое время свои посадки, но все же и посейчас продолжает выращивать картофельные клубни и даже нагло утверждает, будто они растут сами собой.
Со времени событий, о которых пойдет наш рассказ, в Ионвиле, собственно, ничто не изменилось. На церковной колокольне по-старому вертится трехцветный жестяной флажок; над галантерейной лавкой все еще развеваются по ветру два ситцевых вымпела, в аптеке мирно разлагаются в грязном спирту недоноски, похожие на пучки белого трута, а над дверью трактира старый, вылинявший под дождями золотой лев по-прежнему выставляет свою курчавую, как у пуделя, шерсть.
В тот вечер, когда в Ионвиль должны были приехать супруги Бовари, хозяйка этого трактира, вдова Лефрансуа, так захлопоталась, что вся вспотела, возясь с кастрюлями. В городке был как раз канун базарного дня. Следовало заранее разрубить туши, выпотрошить цыплят, приготовить суп и кофе. Кроме того, хозяйка торопилась с обедом для постоянных посетителей, а также для врача с женой и служанкой. В бильярдной стоял хохот, в задней комнатке три мельника с криком требовали водки; горел огонь, потрескивали угольки, и на длинном кухонном столе среди кусков сырой баранины возвышались стопки тарелок, дрожавшие при каждом сотрясении колоды, на которой рубили шпинат. С птичника доносились вопли кур и гусей, – за ними гонялась с ножом служанка.
У печки грел спину рябоватый человек в зеленых кожаных туфлях и бархатной шапочке с золотой кистью. Лицо его выражало лишь чистейшее самодовольство; вид был такой же спокойный, как у щегленка в ивовой клетке, висевшей над его головой. То был аптекарь.
– Артемиза! – кричала трактирщица. – Наломай хворосту, налей графины, принеси водки! Да поторапливайся. Хоть бы мне кто сказал, какой десерт подать этим господам!.. Боже правый! Опять возчики скандалят в бильярдной!.. А телега их стоит у самых ворот! Ведь «Ласточка», когда подъедет, может ее разбить! Позови Полита, пусть оттащит ее в сторону!.. Подумайте только, господин Омэ, с утра они сыграли пятнадцать партий и выпили восемь кувшинов сидра!.. Они мне еще сукно на бильярде разорвут, – говорила она, посматривая на пирующих издали, с шумовкой в руках.
– Не велика беда, – отвечал г-н Омэ. – Купите новый.
– Новый бильярд! – воскликнула вдова.
– Но ведь этот-то чуть держится, госпожа Лефрансуа; уверяю вас, вы сами себе вредите! Вы очень себе вредите! И к тому же теперь игроки предпочитают узкие лузы и тяжелые кии. Теперь снизу уж не играют – все изменилось! Надо идти в ногу с веком. Берите пример с Телье…
Хозяйка покраснела от досады.
– Что ни говорите, – продолжал аптекарь, – его бильярд изящнее вашего; и если бы кому-нибудь пришло в голову, например, устроить патриотическую пульку в пользу пострадавших от наводнения в Лионе или в пользу поляков…
– Ну, таких прощелыг, как Телье, мы еще не боимся! – перебила, вздернув пышные плечи, хозяйка. – Бросьте, господин Омэ! Пока будет существовать «Золотой лев», будут в нем и гости. У нас-то кое-что есть в кармане! А ваше кафе «Франция», вот увидите, в одно прекрасное утро будет закрыто, и на ставнях у него вывесят объявленьице!.. Сменить бильярд! – продолжала она про себя. – Такой удобный для раскладки белья; а в охотничий сезон на нем спит до шести человек!.. Но что же этот растяпа Ивер не едет!
– Вы ждете его, чтобы подавать обед вашим всегдашним посетителям? – спросил фармацевт.
– Ждать? А господин Бине? Ровно в шесть часов он входит в дверь; аккуратнее нет человека на свете. И всегда ему нужно одно и то же место в маленькой комнате. Хоть убей его, не согласится пообедать за другим столом! А как привередлив! Как разборчив насчет сидра! Это не то, что господин Леон: тот приходит когда в семь, а когда и в половине восьмого. Он и не глядит, что кушает. Какой прекрасный молодой человек! Никогда не повысит голоса.
– Да, знаете ли, есть разница между воспитанным человеком и сборщиком налогов из отставных карабинеров…
Пробило шесть часов. Вошел Бине.
Синий сюртук обвисал на его сухопаром теле; под кожаной фуражкой с завязанными наверху наушниками и вздернутым козырьком был виден лысый лоб, вдавленный от долголетнего нажима каски. Он носил черный суконный жилет, волосяной галстук, серые панталоны и ни в какое время года не расставался с ярко начищенными высокими сапогами, на которых выделялись над распухшими пальцами ног два параллельных утолщения. Ни один волосок не выбивался за линию его светлого воротника, охватывавшего подбородок и окаймлявшего, как зеленый бордюр грядку, его длинное бесцветное лицо с маленькими глазками и горбатым носом. Он отлично играл во все карточные игры, был хорошим охотником и обладал прекрасным почерком; дома он завел токарный станок и для забавы вытачивал кольца для салфеток, которыми с увлечением художника и эгоизмом буржуа загромождал всю квартиру.
Он направился в маленькую комнату; но сначала надо было вывести оттуда трех мельников. И все время, пока ему накрывали на стол, он молча стоял на одном месте, у печки; потом, как всегда, закрыл дверь и снял фуражку.
– Э, любезностью он себя не утруждает, – сказал аптекарь, оставшись наедине с хозяйкой.
– Вот и весь его разговор, – отвечала та. – На прошлой неделе приехали сюда два коммивояжера по суконной части – очень веселые ребята, весь вечер рассказывали такие штуки, что я хохотала до слез. А он сидел тут и молчал, как рыба. Ни слова не вымолвил!
– Да, – произнес аптекарь, – ни остроумия, ни воображения, ни одной черты человека из хорошего общества!
– А ведь у него, говорят, есть средства, – заметила хозяйка.
– Средства! – воскликнул г-н Омэ. – У него? Средства? Разве что средства собирать налоги, – прибавил он более спокойным тоном. – И продолжал: – Ах, если негоциант с крупными торговыми связями, если юрист, или врач, или фармацевт бывают так поглощены работой, что становятся чудаковаты и даже угрюмы, – это я понимаю. Такие примеры известны из истории! Но ведь эти люди по крайней мере о чем-то размышляют! Ваять хотя бы меня: сколько раз случалось, что, когда нужно написать этикетку, я ищу перо на столе, а оно, оказывается, у меня за ухом!
Между тем г-жа Лефрансуа вышла на порог поглядеть, не идет ли «Ласточка». Она вздрогнула: на кухню вдруг вошел человек в черном. При последних лучах заката можно было разглядеть его красное лицо и атлетическую фигуру.
– Чем могу вам служить, господин кюре? – спросила трактирщица, доставая с камина один из медных подсвечников, стоявших там целой колоннадой. – Не хотите ли чего-нибудь выпить? Рюмочку смородинной, стакан вина?
Священник очень вежливо отказался. Он зашел только сказать, что на днях забыл в Эрнемонском монастыре свой зонт; попросив г-жу Лефрансуа доставить ему зонт вечером на дом, он ушел в церковь, где уже звонили к вечерне.
Когда стук его шагов замер вдали, аптекарь заявил, что находит такое поведение совершенно неприличным. Отказ от глотка вина казался ему самым отвратительным лицемерием: все попы потихоньку пьянствуют и, конечно, все хотят вернуть времена десятины.
Хозяйка взяла кюре под свою защиту.
– Он четырех таких, как вы, в карман положит. В прошлом году он помогал нашим ребятам убирать солому, по шести охапок сразу подымал – такой здоровый!
– Браво! – сказал аптекарь. – Вот и посылайте дочерей на исповедь к молодцу с подобным темпераментом. Нет, я бы на месте правительства распорядился, чтобы всем священникам ежемесячно пускали кровь. Да, госпожа Лефрансуа, каждый месяц – хорошенькую флеботомию в интересах общественного порядка и нравственности!
– Да замолчите же, господин Омэ! Вы безбожник! Вы религии не признаете!
– Нет, я признаю религию, – отвечал фармацевт, – у меня своя религия. Я даже религиознее их всех, со всеми их штуками и фокусами. Да, я поклоняюсь Богу! Я верю во всевышнего, в творца; мне все равно, каков он, но это он послал нас сюда, чтобы каждый исполнял свой долг гражданина и главы семейства! Но мне не к чему ходить в церковь, целовать серебряные блюда и кормить из своего кармана ораву обманщиков, которые и без того едят лучше нас с вами. Бога можно с таким же успехом почитать и в лесу, и в поле, и даже просто созерцая небесный свод, подобно древним. Мой Бог – это бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже! Я – за «Исповедание савойского викария» и за бессмертные принципы восемьдесят девятого года! И поэтому я не допускаю существования старичка-боженьки, который прогуливается у себя в цветнике с тросточкой в руках, помещает своих друзей во чреве китовом, умирает с жалобным криком и воскресает на третий день. Все эти глупости абсурдны сами по себе и, сверх того, никоим образом несовместимы с законами природы; последние, кстати сказать, доказывают, что попы, сами погрязая в позорном невежестве, всегда пытались утопить в нем вместе с собой и весь народ!..
И аптекарь умолк, ища глазами публику, ибо, увлекшись своим красноречием, он на мгновение вообразил себя в муниципальном совете. Но трактирщица уже не слушала его: ее внимание было поглощено отдаленным шумом. Можно было различить стук кареты и цоканье слабо державшихся подков. Скоро перед дверью остановилась «Ласточка».
Желтый ящик ее кузова возвышался между двумя огромными колесами, которые доходили до самого брезентового верха, заслоняя пассажирам вид на дорогу и обдавая их плечи брызгами. Крохотные стекла окошек ходуном ходили в рамах, когда захлопывалась дверь. Кроме древнего слоя пыли, не отмывавшейся даже во время проливного дождя, на них налипли комья грязи. В дилижанс было запряжено три лошади, из них первая – уносная; спускаясь под гору, он так раскачивался на ремнях, что дном касался земли.
На площадь выбежало несколько ионвильцев. Все говорили разом; кто спрашивал о новостях, кто требовал объяснений, кто явился за своей корзинкой. Ивер не знал, кому отвечать. Это он выполнял в Руане все поручения местных жителей. Он заходил в лавки, доставлял сапожнику свертки кожи, кузнецу – железо, своей хозяйке – сельди, он привозил шляпки от модистки, накладные волосы от парикмахера. Возвращаясь из города, он всю дорогу раздавал всякие вещи, – стоя на козлах, он швырял их через забор во дворы, причем кричал во все горло, а лошади шли сами.
В тот день его задержал несчастный случай: убежала в поле борзая г-жи Бовари. Битых четверть часа свистали и звали ее. Ивер даже вернулся на пол-льё обратно: ему казалось, что собака вот-вот найдется. Но в конце концов все-таки пришлось продолжать путь. Эмма плакала, сердилась, обвиняла во всем Шарля. Сосед по дилижансу, торговец мануфактурой г-н Лере, пытался утешить ее и, приводя многочисленные примеры, рассказывал, как пропавшие собаки узнавали своих хозяев много лет спустя. Известен случай, говорил он, когда один пес вернулся в Париж из Константинополя.
Другой пробежал по прямой линии пятьдесят льё и вплавь перебрался через четыре реки; у родного отца г-на Лере был пудель, который пропадал целых двенадцать лет, а потом в один прекрасный вечер, когда отец шел обедать, пудель бросился к нему сзади на улице.