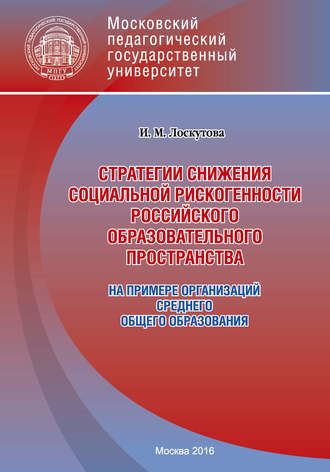
Ирина Лоскутова
Стратегии снижения социальной рискогенности российского образовательного пространства (на примере организаций среднего общего образования)
По сословному составу «дворянскими» университетами все еще оставались Петербургский, Московский и Киевский. Но в провинции ситуация радикально изменилась. Например, в Саратовском университете выходцев из среды дворянства насчитывалось всего 1 %. Разночинцы стали составлять основную массу студентов. Причем проявились новые тенденции: если в XIX в. ярко выраженный демократизм сословного состава российского студенчества обеспечивался, прежде всего, низшими слоями города, то в 1900-е гг. произошли заметные изменения. В эти годы и в последующее десятилетие в стенах высших учебных заведений появляется довольно много студентов – выходцев из крестьян.
Представленная социальная динамика отражала глубинные процессы в социальном пространстве России того времени. Одним из характерных феноменов русской действительности последних двух десятилетий XIX в. является спонтанная образовательная активность народа. Она хорошо прослеживается уже на самой низшей, привычной и доступной для крестьян и других низовых социальных слоев ступени обучения. Такой в те времена была школа начальной грамоты и довольно близкая к ней церковно-приходская школа. Распространение этих школ в широких масштабах (с середины 1880-х гг.) позволяет говорить о значительных социокультурных изменениях в образовательном пространстве того времени[28]. В народной среде к концу XIX столетия недоверие к дворянской образованности (характерное для недавнего прошлого) постепенно рассеивается, уступая место стремлению обеспечить детям возможность получения хорошего образования. Реально осуществить его могли в основном только зажиточные крестьяне и относительно хорошо оплачиваемые квалифицированные рабочие – металлисты, печатники, железнодорожники и т. п. Итак, стремление к получению необходимого для восходящей социальной мобильности
образования в начале XX в. представляло собой основное направление социальных изменений, в которые были вовлечены достаточно широкие круги населения.
Таким образом, в России конца XIX – начала XX в. образовательное пространство существенно расширилось, демократизировалось и стало местом столкновения не только сословных или профессиональных интересов, но и ареной борьбы за более высокие позиции индивидов и целых сословий в социальном пространстве. Успех в этой борьбе зависел от многих факторов, но эта борьба, без сомнения, воздействовала на социальную динамику в целом.
В советской научной литературе прогрессивные изменения в сфере образования обычно связывают с Октябрьской революцией 1917 г. Однако проделанный выше анализ показывает, что позитивные изменения образовательного пространства произошли значительно раньше (уже в начале XX в.). Такую же научную позицию имеет А. Л. Андреев, который считает, что радикальные изменения в образовании произошли уже в последнее десятилетие существования самодержавия[29]. Этот вывод не умаляет заслуг в сфере образования советского времени, а подчеркивает определенную преемственность образовательных тенденций в России и то, что в послеоктябрьский период процесс обновления образовательного пространства приобрел еще больший масштаб и поменял свою социальную направленность.
В СССР начиная со второй половины 1920-х гг. значительно усилилось поступление средств в образовательное пространство. Это привело к быстрому расширению сети учебных заведений и росту количества учащихся. За четыре года (1926–1930) финансирование высших учебных заведений увеличилось в девять раз. В целом государственные ассигнования на образование перед войной, а также в послевоенное десятилетие поддерживались на уровне 5,5–6,5 %. Сравним: в то же время в передовых европейских странах эти расходы до конца 1950-х гг. не превышали 2 %[30]. Однако огромную позитивную роль играло не только усиленное финансирование. Не менее важными были и другие социокультурные факторы: ориентация на фундаментальное образование, снятие социальных ограничений на поступление в вуз, выдвижение на первый план личных способностей и т. п. За счет инновационных социальных технологий, в том числе в сфере образования, Советский Союз оказался способным противостоять сильным противникам в Великой Отечественной войне. Обновление образовательного пространства существенно изменило социокультурный профиль социального пространства. «В послевоенный период численность граждан с образованием выше среднего примерно каждые 10 лет удваивалась. К середине 1970-х гг. она превысила 22 млн человек. Если в 1913 г. доля лиц, принадлежащих к данной категории, исчислялась десятыми долями процента, а в предвоенные годы она не превышала 1,5 %, то в 1975 г. высшее или среднее специальное образование имел почти каждый десятый гражданин СССР, а в самодеятельном населении доля лиц с образованием не ниже среднего составляла примерно 77 %»[31]. Иначе говоря, возникла качественно новая социальная ситуация: произошло значительное увеличение плотности распределения носителей высшего образования в социальном пространстве. В результате не только повысилась способность людей осваивать новые сложные виды деятельности, но и существенно возросли их жизненные возможности. Образованная часть населения формировала новые тренды развития общества: эталонные модели поведения, успешные жизненные стратегии, установки и ценности. Проводившиеся в начале 1960-х гг. социологические исследования отразили ярко выраженную вовлеченность людей в различные виды дополнительного образования и самообразования, которые стали рассматриваться как необходимый элемент личностного развития и необходимый атрибут социальной реализации. В структуре жизнедеятельности образованных людей 50-70-х гг. большое место занимало, например, чтение. По данным осуществленного в 1960-е гг. «Таганрогского проекта», около 55 % горожан практически ежедневно находили время для чтения книг, еще 15–20 % читали их не реже нескольких раз в месяц. Распространенным явлением было и систематическое чтение «толстых» журналов, большинство из которых имело отчетливо выраженную познавательную направленность. Газеты выписывали и читали практически в каждой семье[32].
Можно сопоставить эти данные с происходившими в те годы институциональными сдвигами в образовательном пространстве: переходом к всеобщему среднему образованию, усиленным развитием высшей школы, формированием системы дополнительного и досугового образования. Напрашивается вывод о том, что применительно к Советскому Союзу 1960-х гг. можно, по-видимому, говорить о качественной трансформации социума, в котором образование играло заметную инновационную роль. По мнению А. Л. Андреева, можно утверждать о становлении в СССР особого типа социальности – «общества образования»[33]. Заметим, что близкая к этому идея «общества знаний» значительно позже приобрела широкую популярность в Европе и США. Она не только проникла в социологическую литературу, но и стала лозунгом влиятельных политических сил.
Многие ученые утверждают, что на период с конца 1950-х до конца начала 1970-х гг. пришелся своего рода пик в развитии отечественного образования. В этой связи интересны результаты экспертного опроса по поводу состояния технического образования в разные периоды советской власти, который проводился Лабораторией социологических исследований МЭИ в мае 2006 г. Из 105 профессоров и преподавателей этого достаточно авторитетного технического университета, среди которых были представители различных поколений, значительное большинство (51 % от общего числа всех ответивших) отметили, что высшего уровня российское техническое образование достигло именно в 50-60-е гг. Доли тех, кто отнес его наивысшие достижения к «эре Брежнева» или к дореволюционной эпохе, были значительно меньше (38 % и 25 % соответственно), а к периоду форсированной индустриализации (первые пятилетки) – совсем незначительной (5 %)[34].
Однако процесс обновления образования, достигший пика в предвоенном и послевоенном СССР, постепенно стал затухать. На рубеже 1960-х и 1970-х гг. инновационная деятельность стала слишком формализованной. Бюрократизация всех сторон жизни затронула и образовательное пространство. Но нельзя говорить о полной инверсии социальных ценностей в этой сфере. Социологические исследования, проведенные под руководством Ю. Левады, говорят о том, образование и образованность не только остались в числе социальных приоритетов, но и сохранили свое доминирующее значение. Например, данные соцопросов свидетельствуют о том, что в 1970-80-е гг. советские женщины значительно чаще, чем американки, отмечали среди качеств, которые они хотели бы видеть в своих детях, стремление к знаниям и хорошие успехи в учебе. В СССР это была вторая ранговая позиция в списке социальных приоритетов, в США – десятая (причем, по сравнению с данными, относящимися к 20-м гг. XX в., она сместилась на 2 пункта вниз)[35]. Иначе говоря, исторически сложившиеся тенденции развития образовательного пространства продолжались и в более поздний советский период. Но в условиях усиления бюрократических тенденций 70-х гг. все большее значение во взаимодействии образовательного и социального пространства стал приобретать фактор усиления социального неравенства. Сформировалась новая элита, тяготевшая к сословной замкнутости, появились даже тенденции наследственного воспроизводства этого социального слоя. Вследствие этого поступление во многие престижные вузы, а несколько позже и в некоторые специализированные средние школы начинает все больше и больше зависеть не от индивидуальных способностей, а от неформальных семейных связей или социального капитала родителей.
Изменились также и установки на уровне массового сознания. На первый план стали все больше выходить такие типично «инерционные» мотивы, как «все так делают», «пошел в этот вуз, потому что здесь учились родители» и т. и. Иначе говоря, социальные действия, связанные с учебой, потеряли сакральный смысл, они перешли на уровень повседневных рутинных взаимодействий. Формы потребления образования, оставаясь внешне неизменными, трансформировались внутренне, оказывались уже не выражением личностной потребности в социальных достижениях, а специфическим маркером социального статуса. Вообще в рассматриваемый период отчетливо проявляется и набирает силу характерный процесс отчуждения целых социально-демографических групп от общего движения к более высокой образованности и культуре, которое было доминирующим трендом на протяжении нескольких предшествующих десятилетий. Номенклатура, или партийно-государственная элита того времени, сформированная почти исключительно из хозяйственников-практиков периода первых пятилеток, в подавляющем большинстве состояла из людей, у которых не сформировались вкус и внутренняя склонность к образовательной деятельности. Советское руководство признавало на словах важность
науки, образования, культуры. Но оно истолковывало их в упрощенном идеологическом или утилитарном ключе. Комплекс этих факторов привел к эрозии духовных ценностей, снижению созидательного потенциала образовательного пространства. Но вместе с тем надо заметить, что эффект негативных тенденций в значительной мере уравновешивался рядом других позитивных явлений: повышением общей культуры населения, формированием фундаментальных научных школ, накопленным педагогическим опытом, совершенствованием образовательных технологий. Благодаря этому советскому образованию в целом удавалось быть вполне конкурентоспособным в мировом образовательном пространстве и накапливать потенциал, необходимый для воспроизводства кадров для развития советской науки, высокотехнологичных производств, культуры и просвещения.
Однако сложившаяся в СССР социально-экономическая модель образовательного пространства начиная со второй половины 60-х гг. стала воспроизводить неустранимые системные противоречия. При этом особое значение приобрела отчетливо выраженная разница между высокой образованностью населения и экономическим развитием страны. Социальное и образовательное пространство вступили во взаимное противоречие. В результате высокообразованные кадры, в особенности инженерных специальностей, оставались недостаточно востребованными на производстве. Интеллектуальные профессии становились все более массовыми и утрачивали часть былого престижа. На практике это выражалось в искусственном занижении оплаты труда людей с высшим образованием. Оно уже автоматически не давало большей выгоды или возможности занять более высокую позицию в социальном пространстве. Широкое распространение получил переход инженеров в рабочие, что было вызвано стремлением к более высокой оплате труда. Если в 60-е гг. такая практика была исключением, то в 70-е такой переход становится массовым. За пятнадцать лет (1970–1987 гг.) количество «инженеров-рабочих» в СССР возросло с 2,4 до 211 тыс., т. е. увеличилось почти в 100 раз[36]. Но выработанные на государственном уровне с 1930-х гг. подходы, отождествляющие технический прогресс с увеличением числа инженеров, обернулись диспропорциями в социальной структуре интеллигенции. Это, например, негативно сказалось на воспроизводстве педагогических кадров средней школы. Повседневная реальность социализма, связанная в том числе с невостребованностью образованных людей на рынке труда, становилась источником повышенного социального напряжения. Для думающей части общества наступил период болезненно переживаемых диспропорций между реальными жизненными перспективами и социальными ожиданиями. Возникло несоответствие между нормативными представлениями о «должной» социальной стратификации и реальным положением высокообразованных людей в социальном пространстве. Вставали вопросы о справедливой отдаче от накопленного человеческого капитала в результате потраченного времени и усилий на учебу и освоение профессии. Эти факторы порождали прогрессирующее отчуждение интеллигенции от советской идеологии. В руководстве страной проблемы образовательного пространства и повысившаяся на этой основе энтропия социального пространства достаточно ясно осознавались, но на практике все ограничивалось отдельными полумерами. Так, в середине 1980-х гг. была предпринята попытка сократить слой интеллигенции, снизив прием в 9-е классы общеобразовательных школ. Оставшуюся часть подростков предполагалось направить в ПТУ. Добавим, что десятиклассники в обязательном порядке должны были получить в школе одну из рабочих профессий. В обществе введенные ограничения вызвали недовольство и были восприняты как посягательство на права советских граждан. Кроме того, очень быстро проявились и негативные последствия этого нововведения: возросло количество неработающей и неучащейся молодежи. Под напором критики эта реформа уже через несколько лет была свернута. По мнению таких социологов, как А. Л. Андреев, А. Л. Булкин, А. Н. Кочетова и др., ключ к решению назревших проблем лежал в снижении приема абитуриентов в вузы, а также необходимо было изменить соотношение между вузами различного профиля. Но этого не было сделано. Прием в вузы по-прежнему продолжал практически непрерывно расти. Политику некоторого сокращения приема с одновременным перепрофилированием начали проводить начиная примерно с 1989 г., когда исторический срок, отпущенный Советскому Союзу, уже был на исходе. Почему же такая очевидная реформа высшего образования не была предпринята? По мнению А. Л. Андреева, не следует недооценивать политических лидеров и бюрократию тех лет, чувствовавших ситуацию острее, чем рационалистически мыслящие интеллектуалы. Дело было «скорее всего, в том, что возможность учиться в вузе была одной из ведущих ценностей российского общества образования»[37]. И любое проводившееся сверху сокращение приема числа поступающих в вузы было бы воспринято населением крайне отрицательно. Хотя Политбюро и обладало внешне неограниченной властью, оно не могло не считаться с общественными настроениями или идти против провозглашенных им же принципов.
Ситуация радикально изменилась с началом рыночного реформирования методом «шоковой терапии». Образование и наука оказались в очень сложной финансовой ситуации, поскольку перестали быть национальными приоритетами. В ходе реформ начала 1990-х гг. страной были потеряны значительные сегменты мирового рынка образования. Число иностранных студентов сократилось по сравнению с аналогичным показателем в последний год существования Советского Союза примерно в 4,5 раза[38]. К тому же представители состоятельных слоев общества получили возможность учить своих детей за границей.
Российские рыночные реформы с их культом монетарной составляющей жизненного успеха не только обрекли образовательное пространство на хроническое недофинансирование, но и существенно подорвали социальный престиж образованности, который в советское время еще оставался достаточно высоким. Важный для полноценного развития общества принцип самоценности образования также был существенно поколеблен. Социологические исследования зафиксировали эту тенденцию. По данным социологического опроса, проводившегося ГосНИИ семьи и воспитания, в 1992 г. только 38 % московских старшеклассников намеревались продолжить образование после школы. Позднее выяснилось, что такое падение является некой ситуативной флуктуацией на фоне общего мейнстрима образовательных траекторий. Вскоре общественные настроения коренным образом изменились, уже к 1995 г. количество желающих поступить в вуз молодых москвичей выросло по сравнению с первым годом рыночных реформ более чем в 2 раза и составило около 80 %[39]. Таким образом, через сравнительно небольшой (по историческим меркам) период времени произошло возвращение такой исторически укоренившейся ценности, как образованность. Наиболее явно стремление к высшему образованию проявляется в среде интеллигенции. Однако и в рабочих семьях почти 40 % респондентов хотели бы видеть своих детей специалистами с высшим образованием или даже с ученой степенью. Интересно также то, что данная перспектива оказалась весьма привлекательной и для предпринимателей: среди них доля желающих увидеть своих детей руководителями фирм или менеджерами оказалась примерно вдвое меньше, чем доля сторонников научной карьеры[40].


