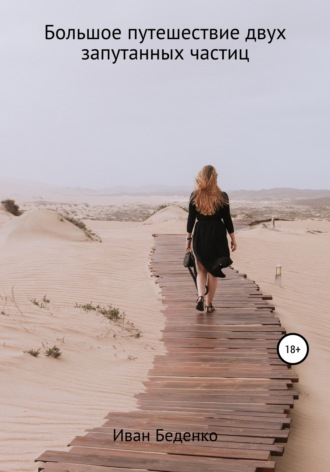
Иван Юрьевич Беденко
Большое путешествие двух запутанных частиц
9
Не прошло и недели как свалилась новая беда. Отец получил тяжелую производственную травму на своем Полиграфмаше, ожидалось долгое восстановление, а мне стало ясно, что обременять семью расходами на высшее образование больше нельзя. Я вернулся в Ейск, устроился подсобным рабочим в порт, чтоб с пользой скоротать время до армии.
Ритка писала регулярно, мы конечно помирились. В письмах проскальзывали украинизмы и непонятная агрессия в сторону "совка" и современной России. Узнав об изменениях в моей жизни она предложила путешествовать вместе, но пока виртуально – если она куда-то отправится, то будет присылать фотографии и отчеты, звонить по нашей схеме. Идея показалась мне интересной.
Я соскучился по Ритке до изнеможения. Ждал лета, когда она приедет в Ейск.
Она приехала, но прежде, "заглянула" в Польшу по университетской программе. Оттуда пришел толстый пакет, облепленный марками и проштампованный десятком штемпелей. Письмо оказалось коротеньким, но я не расстроился, в преддверии встречи это не имело значения. Зато каждая из тридцати фотографий содержала пояснения на обороте, выведенные любимым почерком.
В перерывах между погрузочно-разгрузочными работами в порту, одолев нехитрый перекус, я удалялся от товарищей, чтоб в который раз поразглядывать фото Кракова. Отличный город! Люблю европейскую старину, башенки, черепицу, опрятных прохожих, лощенные кафешки. Нарядно, благополучно. Тут мы с Риткой совпадали. Она снимала в Ягеллонском университете и Старом мясте, были солнечные яркие фото, где светловласка с сокурсниками беззаботно валялись на зеленом ковре Краковского луга, я увидел Вавельский замок снаружи и внутри. Пояснения на оборотах пришлись кстати. Про Луг, например, я ничего не слыхал раньше и весьма удивился, узнав что в центре большого города сохранился уголок деревенской природы.
Пряничные виды Кракова резко контрастировали с Ейском. У нас все шло прахом, разрушалось, бандитизм превратился в уважаемую профессию, а барыги в элиту общества. Вечно пьяный президент, сменивший предыдущего пустопорожнего холерика, мычал с телеэкранов о демократии и дорогих ему "рассиянах", порождая горы шуток и ехидства. Дышали на ладан заводы: отцовский Полиграфмаш, консервный, станкостроительный, Мясокомбинат. Померли Металлоизделий, судоремонтный, Пищекобинат. Перестала ходить по маршруту Ейск – Мариуполь крылатая красавица "Комета"… Процветали лишь базар и порт, который хоть лишился с "Кометами" пассажирских перевозок, но увеличил грузовой оборот – из страны за бесценок вывозилось всё: металл, зерно, нефть, уголь.
На одной карточке Ритка пила пиво из гербового бокала, смешно вытаращившись в объектив и показывая пальцами V, а на заднем плане возвышались шпили какого-то костела. Подпись лаконичная: "Корморан, вкусно!" Это она о пиве, конечно. Тут Ейску было чем ответить! Раз в неделю я покупал новое пиво Приазовской Баварии «Конкурент». Реклама гласила, что оно обладало легким освежающим солодовым вкусом и выраженным ароматом хмеля. Не врали! Пробуя его, холодное, ароматное в парке под зонтиком, я представлял себя в Кракове с Риткой, фантазировал как мы бродим по галереям Ягеллонского университета, я рассказываю ей о том, что здесь возможно прохаживался сам Николай Коперник. Неожиданно седовласый старичок-профессор, услыхав о моем увлечении математикой и звездами предлагает бюджетное место на своем факультете! Обязательно бюджетное со стипендией, коммерческое я ведь не потяну…
Так я побывал в первом путешествии с Риткой.
Намечтавшись, я шел домой, прихватив бутылочку для отца. Он держался молодцом, ходил с тростью на биржу, обзванивал знакомых по поводу трудоустройства, шутил. В доме царила хорошая атмосфера, мама и младшие не теряли оптимизма.
10
Ритка приехала в июле. Чтоб мы могли встретиться вдвоем, сообщила родителям не верное время прибытия электрички – на полтора часа позже реального. Я волновался. Надел новые футболку и кроссовки, джинсы вынужденно остались прежними. Мысли роились в голове. Вдруг вспомнилось, что на многих фото из Кракова рядом со светловлаской отирался подозрительный тип, холеный, с неприятной рожей…
Наконец – поезд, томительные мгновения, и вот Ритка с небольшим саквояжем элегантно порхает по ступенькам вагона.
Это была она и не она одновременно. Те же смеющиеся губы, брови вразлет, светлые локоны, тот же взгляд полный жизни и уверенности, но я чувствовал: это не Ритка, которая живет в моей голове. Волосы в незнакомой прическе, бледная помада взамен прежней алой, ресницы черней черного и такие огромные! Я не специалист в женских фенечках, всех деталей не передам, но тогда подумалось, что Риткино цветение куда сильнее моего, рвётся в стратосферу ракетой, закручивает (не может не закручивать!) вихрем мужчин из целевого каталога Альгиды Элеоноровны и Бориса Ивановича, а сама Ритка становится частью жизни бесконечно далекой от Ейска.
Мы смотрели друг на друга робко улыбаясь и будто бы стыдясь этой робости. Она сделала шаг навстречу и все незнакомое, чужое испарилось, я бросился к ней и стиснул в объятьях. Моя!
К дому пошли пешком, Ейск не большой город. Я тащил саквояж, она несла подаренные мной цветы, спрашивала как я пережил год разлуки. Протокольный вопрос вообще-то! Конечно скучал, сны снились всякие, интимные, а иногда кошмары. Ну, про кошмары я умолчал. В какой-то момент Ритка остановилась и посмотрела на меня так, что в груди вскипело.
– Поцелуй меня, пожалуйста. Прямо сейчас, – подрагивающими губами попросила она.
Мы находились в центре, на улице Энгельса, прохожих сновало порядочно и меня это прежде смутило бы (не люблю показуху, Ритка знала). Но отчего-то ей требовался поцелуй там и тогда, в определенной точке пространственно-временного континуума, как выразился бы Эйнштейн. Взглянув в бездну Риткиных глаз, я без колебаний поцеловал, забыв мгновенно о прохожих, о нормах морали и воспитания. Просто почувствовал – так правильно, а я, как уже говорил, не люблю размышлять над чувственным, размышления всё портят. В ответ она, легенький воробушек, обвила мою шею руками и не отпускала долго, даже после поцелуя.
Родителей Ритки мы встретили на крыльце их дома, когда они собирались выезжать на вокзал. Они озадаченно уставились на нас, но по невозмутимому лицу дочери быстро раскусили уловку. Борис Иванович раздосадовано крякнул, Альгида Элеоноровна ледяным тоном возвестила, что "Маргарет звонил Томаш" и одарила меня многозначительным взглядом. Это она наверняка о подозрительном типе с краковских фото.
Ритка крепко сжимала мою руку, по ее просьбе я опустил саквояж на ступеньки крыльца.
– Душно в доме. Мы прогуляемся к морю, – коротко уведомила она родителей.
– У нас Тошиба, кондишн… – бодро начав, Борис Иванович мгновенно сдулся. Мы уже шагали в сторону порта.
– Они бывают грубы, – извинилась Ритка, – мамину фразу в голову не бери, чушь.
Я и не брал. Зачем? Светловласка со мной, здесь, а значит все в порядке.
На пляже, ощупывая пальчиками мои окрепшие в портовой работе плечи и восхищенно улыбаясь, она прошептала "классный ты у меня!" и от этого по спине забегали неукротимые табуны мурашек. Мы оба с трудом дождались темноты.
11
У нас был месяц. Самый лучший месяц в отношениях, у него даже чувствовался вкус – меда с горьким кофе. Тогда, я по обыкновению не задумывался почему такой, но мне он нравился безумно. Сладкий, душистый, с ноткой тоски по каждой прожитой секунде. Риткины волосы расплелись из причудливой прически в обычную, губы зарозовели юным естеством, по щекам и носику рассыпались привычные веснушки. Снова она стала моей до последней клеточки. Освободившись в порту, я несся к любимой девчонке как угорелый, к этому времени она приканчивала очередную порцию Шекспира на английском и мы получали друг друга в полное распоряжение.
Разговоров о ее учебе или моих злоключениях не вели, казалось и не было ничего, приснилось, а теперь мы пробудились и все по-прежнему – разглядываем в бинокль космос по ночам, едим абрикосы и сливы на пляже, уплетаем жаренную тарань, даже на крышу нового школьного сарая забрались как-то.
Вдвоем исходили вдоль и поперек старый Ейск, очерченный улицами Богдана Хмельницкого и Романа, катались на великах к аэродрому, поглазеть на взлетающие военные самолеты, целых два раза бывали со школьными друзьями в Должанке с ночевками в палатках. Это благодаря Лёньке Моисееву. Отец отдал ему необъятную Волгу кремового цвета, так что Лёнька, не отягощенный ничем кроме барной кутерьмы, охотно выполнял транспортную функцию!
Женька училась в Ейском медучилище на медсестру, в ее семье сложилась напряженка с финансами, отец запил от безработицы, мать болела, старшая сестра, тоже медсестра, еле сводила концы с концами. Надюха поступила в Краснодарский институт Культуры, бросила его после двух семестров и взамен нашла в Ейске что-то новомодное по направлению рекламы. Саня учился заочно, относился к процессу формально. Он всецело отдался торговле кассетами да дисками на рынке и здорово изменился – постригся коротко, нахватался жаргонных словечек вроде "кэша", "рыжева" и "котлов", мечтал о "шестисотом мерине".
На ласковых Должанских пляжах мы старались отвлечься от трудностей. Жаль, Лёнька злоупотреблял алкоголем, а во вторую поездку замучил всех предложениями "травы и таблетосов", "а то мы скучные". Дошло до безобразного – он взбрыкнул на очередной коллективный отказ (лишь Надюха покурила с ним самокрутку) и демонстративно укатил в Ейск, оставив нас "подумать над нашим поведением".
Мы и подумали. На ближайшей пляжной дискотеке оторвались по полной. Тогда гремели «Руки вверх!», это была их эпоха. И наша. Мы с Риткой танцевали в центре площадки под «Ай-яй-яй, девчонка!», мне казалось, что моя девчонка божество. Периодически включались медленные песни, она льнула ко мне, запускала пальца в волосы, а я жадно обнимал ее за талию и мы покачивались, не утруждаясь изображать какие-то па. Когда Сергей Жуков затягивал, «не хочу чтобы видела ты, как я тихонько плачу…» синхронно прыскали со смеху.
– Попробуй только поныть! – шутливо пригрозила Ритка и поцеловала, не позволив ответить.
К палатке после дискотеки шли долго. Ритка попросила Саню прочесть что-нибудь из нового, но у нашего поэта новинок не оказалось и он смутился. Тогда Ритка выразила надежду, что "кэш" все-таки будет отпускать Саню в поэтические отлучки, а пока можно ограничиться "классикой".
– Понимаете, – оправдывался Саня, – рифмы в последнее время складываются в страшное уродство. Кровь, говно, деньги… О красивом посреди ужасного могут сильные духом сочинять, а я, похоже, только передатчик реальности, слабак, огня внутри нет.
Огонь мы разожгли натуральный, в виде костра. Саня с Женькой застряли возле него надолго, сосредоточенно беседовали, будто обсуждая детали ограбления. Надюха молча прихлебывала чай из консервной банки. Она любила так делать – заварит прям с остатками сгущенного молока и пьет, ни капельки сладкого продукта не теряется. Надюха переживала за Лёньку.
Ритка увлекла меня в палатку. Мы улеглись с распахнутым пологом, комарья в тот год не было. Она положила голову на мое плечо, закинула на меня ножку и быстро уснула. Подумалось, что мы ни разу не спали вместе раньше. Впервые слышал ее сонное сопение, берег ее совершенно беззащитную. Это неописуемое чувство.
Утром притащился Лёнька. Просил прощения, каялся. Надюха гневно заявила, что он козёл и пора бы ему завязывать с дурью. Поразительно, но Моисеев, не терпевший критики, принял упреки смиренно. На обратном пути заехали на кладбище, проведать Вальку. На его могиле еще стоял деревянный крест с простой табличкой, без фото. Женька ревела, Ритка и Надюха едва сдерживались. У меня в горле стоял ком. Уверен, парни испытывали то же самое.





