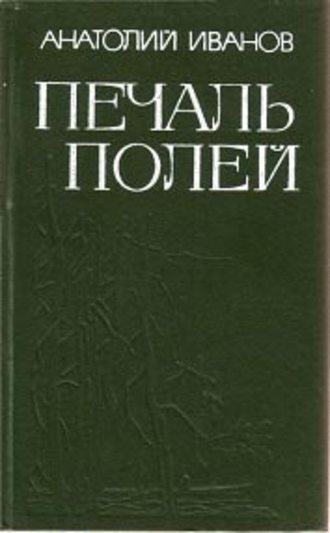
Анатолий Иванов
Печаль полей (Повести)
В горнице опять загалдели ребятишки, заплакала Зойка, Катя ладонью смахнула со щеки все-таки выкатившуюся слезинку, встала, шагнула к двери, распахнула ее.
– Ну чего?
– Да вот, расхныкались, ровно маленькие, – послышался голосишко Захара. – На улку побегать им приспичило. Я грю – мокро же тама…
– Отправляйтесь, – скомандовала Катя.
Колька, Игнатий и самая маленькая, Зойка, – все враз вывалились в кухню, за ними, не торопясь, вышел и Захар. Одеты все были в рванье – в заплатанные штаны и рубашонки, у Зойки сквозь дырку в боку просвечивало белое тельце.
– Господи, да когда же ты успела продрать? – осталовила Катя свою младшую сестренку, некоторое время с тоской рассматривала дырку.
– Да оно, Кать, само порвалось, – проговорила испуганно Зойка.
– Ступай, ладно.
Колька с Игнатием уже сбрасывали с печки замызганные, тоже в заплатках и дырах пальтишки, Захар из-под скамейки, на которой сидели посторонившиеся дед Андрон с кузнецом, выволакивал разбитые ботинки, сапоги, старые резиновые боты. Не обращая внимания на взрослых, попискивая, как галчата, ребятишки стали все это рванье натягивать на себя. Катя, присев на корточки, застегивала пальтишко на Зойке. Пальтишко было самодельное, выкроенное самой Катей из старого байкового одеяла, оно нелепо торчало на девочке каким-то коробом. На ноги Зойке Катя натянула чулки из овечьей шерсти, тоже собственной вязки, зашнуровала ей ботинки, потом пальтишко подвязала веревочкой.
Дорофеев с грустью наблюдал за этми сборами, за всей суетой, дед Андрон и Петрован Макеев на детей не глядели, все это им было привычно.
– От дома мне не отходить, – приказала Катя, выпуская всех в сенцы. – Пашка вон седни рыскает по деревне. Ты слышь, Захар?
– Я понял, понял… – крикнул Захар уже из глубины сенок. Он был старший, но тоже ребенок, и вперед всех выскочил на улицу.
Закрыв за детьми дверь, Катя, опять ставшая какой-то постарелой, устало прошла на прежнее место, положила на стол тяжелые руки, повернула голову к окну. За стеклом все сверкала и сверкала капель, доносились снаружи приглушенные голоса ребятишек, а в доме все равно сделалось тихо и мертво, будто и не было тут четырех взрослых людей.
Приехав час назад, Дорофеев попросил Марию обежать деревню, пригласить в контору кого можно, кроме Афанасьевой, а когда женщины, кузнец и дед Андрон подошли, без всяких предисловий, хмуро как-то сказал:
– Райком партии рекомендует в председатели вашего колхоза Афанасьеву Екатерину. Что вы, женщины, скажете?
С полминуты, может, в конторе стояла полная тишина, а потом угрюмая Василиха торопливо, будто боясь, что кто-то ее опередит, выкрикнула:
– А хорошо мы скажем, вот чего!
Женщины задвигались, зашумели, и непонятно было сперва, одобряют они кандидатуру в председатели или отвергают, пока кладовщица Легостаева, пожилая баба с глубоко изъеденным оспой лицом, недавно получившая похоронную на первого из трех сыновей, воевавших на фронте, перекрыла шум резким своим голосом:
– Ну-к, притихните! – И повернулась к Дорофееву: – Это вы там в райкоме правильно. Девка молодая, грамотная. И столь горя нахлебалась, что все человечьи заботы понимать станет. Мы согласные.
– Может, кто-то и против выскажется? – спросил Дорофеев. – Пилюгина здесь?
– Тут я, – негромко проговорила от дверей Лидия. – Только я тоже против не выскажусь. Ну, а свекровь мою уж не спрашивайте.
– Не спросим. – И Дорофеев кивнул ей благодарно. – Тогда я сейчас пойду уговаривать Афанасьеву. А завтра, коль она согласится, и собрание проведем.
Женщины стояли и сидели притихшие, ожидали, видно, от секретаря райкома еще каких-то слов. Но он лишь сказал невесело:
– А горе свое, дорогие женщины, Афанасьева Екатерина до конца еще не выхлебала. Так что это хорошо, что вы ее поддержите. Ну, все тогда, спасибо вам. А ты, Андрон Игнатьевич, и ты, Макеев, останьтесь.
Когда женщины ушли и контора опустела, он сказал им:
– Попрошу я вас… со мной пойти к Афанасьевой. Тянуть про похоронные больше нельзя. Но одному-то мне с ней… Давайте-ка уж втроем.
И вот они были у нее втроем. На предложение возглавить колхоз Катя не ответила пока ни «да», ни «нет». Она все сидела у окна и глядела на капель. Может, с минуту, может, больше в комнате было тихо и мертво, возвращаться к прежнему разговору каждому было трудно.
Дверь в горницу, из которой только что выбежали дети, так и осталась раскрытой, прямо напротив дверей в простенке висела небольшая застекленная рамка с пожелтевшими фотографиями. Дорофееву в открытую дверь горницы была видна эта рамка.
– Можно, я посмотрю? – спросил он.
Катя поняла, чего он хочет посмотреть, кивнула. Дорофеев встал и прошел в горницу.
Перед этой рамкой, опираясь на костыль, он стоял долго. Потом, не оборачиваясь, проговорил:
– Это вот, Катя, и есть твой отец?
Катя поднялась, тоже пошла в горницу. Когда она стала рядом с Дорофеевым, он показал на фотографию.
– Это, – подтвердила Катя.
Карточка была старая, желтая, с обломанными углами. На ней Данила Афанасьев, одетый в кожаную куртку, при шашке, стоял возле пулеметной тачанки, одна рука у него лежала на рукояти шашки, а другой он обнимал неловко и стыдливо прильнувшую к нему худенькую девчонку в пестром платьишке, с туго зачесанными назад, как сейчас и у Кати, волосами.
А рядом была карточка побольше, тоже давних времен, и на ней тоже был изображен Данила Афанасьев с той же девчонкой. Впрочем, теперь это была молодая женщина, одетая в длинную черную юбку и просторную кофту навыпуск, на голове завязанный под подбородком платок. Она стояла возле трактора «фордзон», опираясь на грабли, так же, как на первой фотографии, чуть смущенно и виновато улыбалась, а за ней, досасывая самокрутку и тоже чему-то улыбаясь, находился Катин отец в измятом пиджаке, в подпоясанной под пиджаком рубахе. На сиденье трактора сидел какой-то парнишка, вокруг трактора, неумело позируя фотографу, стояли, вытянув руки по швам, человек восемь мужиков и баб.
– А это, видимо, твоя мать? – спросил Дорофеев.
– Ага, – кивнула Катя. – Это они снялись, когда первый трактор в колхоз пришел. Мама в тридцать девятом померла… как Зойку рожала.
Дорофеев все стоял и стоял недвижим, все рассматривал карточки. Стоял до тех пор, пока не раздался голос деда Андрона:
– А вон тою шашкою Данила, ее отец-то, и разрубил напополам родителя Артемия. Сасония-то Пилюгина.
– Вот как! – воскликнул, оборачиваясь, Дорофеев. Дед Андрон стоял в дверях горницы.
Потом Дорофеев глянул на Катю, она сухо сказала:
– Рассказывают, что так… Сам отец об этом говорить не любил.
И быстро пошла в кухню.
… Через некоторое время все опять сидели на прежних местах, и секретарь райкома партии Дорофеев говорил:
– Колхоз, Катя, у вас небольшой. Каких-то триста гектаров пашни. Полсотни овечек, восемнадцать лошадей, три десятка дойных коров. Справишься, Катя, берись давай. А мы поможем. Завтра же вот соберем всех колхозников, собрание проведем.
– Ну что вы заладили, – по-прежнему отбивалась Катя. – Детишек-то я куда?
– Что ж они, маленькие у тебя, что ли, Катерина? – глухо проворчал Макеев. – Титьку сосут? Зойке – и той пятый год кончается.
– Дак не сосут, а глаз за ними какой нужен?
– Да присмотрим, присмотрим, – мотал бородой Андрон. – Я, старуха моя, тетка Василиха… Всем-то колхозом! Ты ж десятилетку кончила.
– А старшего, Захарку тихомиловского, я в кузню возьму. Где поддержит чего, где подаст покуда. А там и молоток в руки. Так и делу обучу.
– Значит, порешили, Катя, – подвел итог Дорофеев и поднялся, пошел к вешалке, стал натягивать шинель.
– С ума сошли… с ума сошли, – все повторяла Катя, растерянная, пока они одевались у двери.
– Давай, Екатерина Даниловна… До завтра, – сказал Дорофеев и вышел.
По расквашенной апрельским теплом улице он шел мрачный, сильно втыкал свой костыль в унавоженный снежный кисель. Шел быстро, хромоногий Макеев и старый Андрон еле за ним поспевали. Лишь у самой конюшни остановился.
– Завтра я, значит, подъеду на собрание.
– Так что ж… про похоронки-то? – спросил кузнец,
– Не мог я… Язык не повернулся.
– Как же теперь?
– Не знаю, – угрюмо сказал секретарь райкома. – И вас прошу – молчок покуда.
* * *
Из Романовки Дорофеев уезжал под звон той же капели. Правда, она стала реже и тяжелее, деревня блестела мокрыми черными крышами. В небе, по-весеннему уже высоком и голубом, стояло веселое солнце.
Оно находилось еще далеко от горизонта, но длинный апрельский день потихоньку истекал к концу, прозрачный воздух становился все свежее. Лошадь нехотя тащила кошевку по расквашенной улице, предвечерний холодок уже схватывал снежно-навозное месиво, полозья шипели, разрезая его. Дорофеев коня не торопил, он, забыв про вожжи, тоскливо глядел на свои вытянутые ноги. Его по-прежнему знобило, шапка опять была наглухо завязана под подбородком, из плетеного коробка уныло торчали его худые плечи, обтянутые вытертой шинелью.
Проезжая мимо домишка Кати Афанасьевой, он услышал галдеж ребятишек, потом увидел и их самих. Самая маленькая из них, Зойка, в своем нелепом пальтишке топталась на краю снежной лужи и колотила по воде хворостиной, а Игнатий и Колька, подпрыгивая, пытались палками достать и сбить свисающую с крыши самую длинную сосульку.
– Зойка, перестань! Промокнешь, майся потом с тобой, – кричал ей Захар. – Игнат, Колька, проклятые! Заразы такие. По башке-то долбанет сосуля если… Колька!
В это время тяжелая сосулька рухнула вниз, действительно чуть не воткнувшись острым концом в плечо Николая. Он успел отскочить, сосулька разлетелась на десятки осколков, тотчас все, кроме Захара, схватили по ледяному куску и принялись грызть.
– Ну-ка, бросьте! Кому сказано? Заложит глотки-то! – С этими словами он принялся отбирать у Зойки ледышку.
– Неслухи такие… – Захар отобрал у девочки ледяной осколок, бросил в лужу. – Мало у мам Кати без вас-то горя.
Когда Дорофеев был от дома и от ребятишек на порядочном расстоянии, до него еще доносились их голосишки:
Николая: «Главное-то горе – что письма от папки давно нету. Катька плачет ночами, я слыхал».
Зойки: «А почто нету? Почто долго так нету?»
Захара: «Откудова я знаю. Разное могет быть… Вот Марунька-счетоводиха как захворает – так и не ездит на почту-то. Может, и там какой почтальонщик захворал. Прийде-ет! Вот на неделе Марунька поедет и привезет».
«Привезет…» – У Дорофеева все больнее и больнее начало сдавливать сердце.
… Катя в это время стояла у окна и смотрела, как удаляется кошевка Дорофеева. Руки ее были сложены под грудью, пустые глаза ничего не выражали – ни радости, ни беспокойства. Они были пустые, и все, и, казалось, она не видела ни Дорофеева, ни черной унавоженной дороги, взбегающей за деревней на холмы, ни самих этих холмов, верхушки которых уже освободились от снега и купались в прозрачном апрельском солнце.
Потом руки ее тяжело упали вниз, она вздохнула, повернулась, снова подошла к рамке с фотографиями, долго смотрела сперва на ту карточку, где отец и мать были сняты возле пулеметной тачанки, а потом на другую, где они стояли у трактора. «Мама, мама…» – вздохнула Катя. Она помнила, как мать умирала. В последнюю уже минуту Катю пустили к ней в палату. Никого не пустили, а ей разрешили, и мать, вот так же виновато, как на этой карточке с трактором, поглядела на нее и потухающим голосом произнесла: «Катенька… кровинушка моя… Ты батьку обихаживай… И детишек береги. Мишку с Коленькой и эту, последнюю… Зоинькой назовите ее. Как-нибудь уж живите…»
«Живите…» Катя вспомнила, как мать произнесла это слово уже бескровными, неповинующимися губами, голос ее не прозвучал, а так, еле слышно прошелестел и затих, она медленно закрыла измученные глаза и больше уж их не раскрывала.
Вспомнила – и еще раз вздохнула Катя…
* * *
Женился Данила Афанасьев в двадцатом, всего через две недели как увидел Аришку, худенькую, черноглазую девчушку в простиранной насквозь кофтенке и рваной юбке. Тогда, в мае месяце, партизанский отряд Кузьмы. Тихомилова, едва-едва не распущенный по домам, поскольку остатки колчаковских войск отогнали далеко в Забайкалье, неожиданно подняли по тревоге и двинули на Алтай – там загорелся какой-то антисоветский мятеж. Остаток мая и весь июнь однорукий Кузьма Тихомилов и его неизменный помощник Данила Афанасьев по горам и долинам гоняли белокулацкие банды. Однажды глухой ночью, когда выдохнувшиися от бесконечных погонь и боев отряд в мертвецком сне лежал в горной деревушке под Змеиногорском, Данилу кто-то стал дергать за сапог:
– Дяденька партизан… Проснись, скорее!
– Кто? Что?! – вскочил Данила, выхватывая маузер. Он спал в пулеметной тачанке, поставленной из предосторожности поперек улицы. Над горами только-только занимался рассвет, а улица, пролегавшая будто по дну ущелья, была еще темна. Во мраке Данила не сразу и различил стоящего у тачанки человека, а как увидел – схватил за шиворот, чтоб подтянуть к себе и разглядеть получше, но тут же и отдернул руку. – Баба, что ль?! Чего надо?
– Ага, Аришка я, – услышал он в ответ лихорадочный шепот. – Я с хозяйской заимки прибегла. Они идут сюда, чтоб сонных вас побить…
– Кто идет? Откуда?
– Да вон, гляди!
В чернильной темноте дальнего конца улицы Данила разглядел крадущихся людей. Почему они пешие и сколько их – раздумывать и считать было некогда. Лента в пулемет была заправлена им на всякий случай еще перед сном. Данила мгновенно развернул его, крикнул девчонке: «Дуй отсюда!» – врезал очередью вдоль улицы. Однако вместо того, чтобы уйти, девчушка кошкой прыгнула на тачанку, затрясла Данилу за плечо:
– Дяденька… глянь назад!
Данила, не переставая стрелять, повернул голову: по противоположному концу улицы мчалась на тачанку плотная толпа конников с шашками наголо, лошади неслись, будто не касаясь земли – стука копыт не было слышно.
– Развернись! Развернись им навстречу! – взвизгнула Аришка, подхватывая патронную коробку, чтоб переставить ее на другую сторону.
– Ишь ты, раскомандовалась, – нашел даже время сказать Данила, торопливо разворачивая пулемет в противоположную сторону. Натыкаясь на свинцовую струю, лошади стали падать кучами и биться на земле, всадники валились с них тяжелыми мешками, шлепались в пыль, иные вскакивали и куда-то бежали, иные так и оставались лежать. Трупы лошадей и людей быстро завалили узкую улицу, об них спотыкались и падали все новые лошади, образовывая пробку, а Данила, яростно ощерясь, все стрелял в эту жуткую кровавую кашу, осветившуюся загоревшимся вдруг каким-то домом, не обращая внимания на то, что делается позади него. Слыша вспыхнувшую вокруг стрельбу и беспорядочные взрывы гранат, он понимал, что разбуженные пулеметом партизаны дерутся теперь с бандитами и сзади него, и по всей деревушке. Он строчил, а девушка, не обращая внимания, что по плечу ее, смочив всю кофточку, течет кровь, подправляла и подправляла ленту…
Бой был короткий, но яростный, небо еще не разбелилось, как он кончился, в разных концах деревушки, когда стихла стрельба, что-то горело, в темном небе стояло несколько желтых зарев. Данила в течение всего боя так и не сошел с тачанки, а как все закончилось, он, не обращая внимания на суету полураздетых партизан, на крики и вой деревенских баб, перематывал тряпкой Аришкино плечо, вскользь задетое пулей, и спрашивал у нее:
– Ты это кто ж такая, а?
– Да здешняя, только из другой деревни родом. Верст за сорок отсюда. Мать померла. Отца на германской убили. А брата прошлогод колчаки.
– Откуда с пулеметом-то умеешь управляться?
– А я с братом в отряде тож была. В таком, как ваш.
– Во-он что!
– Ага… И пытки колчаков перенести пришлось. Как брата-то в бою убили… в том бою и меня живьем схватили. Ну, били так, что не приведи господь! И прикладами колотили, и сапогами пинали. Расстрелять хотели, да какой-то усатый ихний офицер пожалел: спихните, говорит, ее в овраг, сама подохнет, а то пулю еще тратить. В том овраге-то и постреляли всех пленных. А меня, значит, пожалели, живьем туда сбросили. Пролежала я меж мертвых до вечера, а по темноте уползла.
– Понятно… – сквозь стиснутые зубы выдавил Данила.
– Ну, сперва кой-как по добрым людям перебивалась. А как маленько выправилась – в работницы пошла. Жить-то как? Одна я осталась. Хозяину не сказала, что в партизанах была, разве б взял он меня тогда… На заимке-то у хозяина седни вечером и собрались все эти, – она кивнула на валявшиеся вокруг тачанки трупы. – Копыта лошадям, договариваются, тряпками обвернем, чтоб не стукотали, подкрадемся неслышно с двух сторон. С одной пешие, с другой конные. Коней у них на всех не хватило. Перебьем, дескать, сонных, как курят. Я сразу сюда и кинулась… Долго бежала, заимка-то отсюда верст восемь.
Рана у Аришки была пустяковая, она ее не беспокоила, девушка не ощущала даже никакой боли и, рассказывая все это, улыбалась. Чтоб ее перевязать, Даниле пришлось разорвать окровавленный рукав кофточки, а потом и тесемку лифчика. При этом лифчик соскользнул, оголив небольшую остренькую грудь. Аришка воскликнула и быстро прикрыла грудь. «Да ладно уж», – сказал он строго. А потом, обматывая худенькое ее плечо, стал невольно косить на ее грудь, которую она прикрывала кусочком разорванной кофточки, и вдруг стал чувствовать, как горячий жар наливается в голову.
Закончив перевязку, он накинул на девчущку свою кожаную куртку, лежавшую тут же, в тачанке, сказал зачем-то:
– Надо поглядеть, как развиднеет, ухлопали твоего хозяина или нет.
– Он вроде не собирался идти с ними.
Потом они замолчали. Девушка нахмурилась, раздумывая о чем-то. И проговорила:
– Возьмите меня с собой в отряд… А то люди видят, что я вот здесь, хозяин меня за это изведет.
– Изведет? Мы вот спрос сперва учиним ему, что бандюков навел. Прощать, что ли, за то!
– Все равно – возьмите, – попросила девушка.
– Ну, это как Тихомилов. Он командир, – хмуро ответил Данила. – Баб у нас в отряде никогда не бывало.
– А ты попроси его. Еду буду вам стряпать, стирать… Да мало ли чего? И стрелять могу, если надо. С нагана, с пулемета…
– Попроси… – еще раз буркнул Данила, глянул на нее исподлобья и вовсе вдруг смешался.
Только что была смертельная опасность, шел смертельный бой, и Данила, привычно делая то, что следовало в такие минуты делать, был собран, энергичен и ловок, и, перевязывая потом окровавленное плечо девушки, он нисколько не смущался поначалу, потому что и это было привычно, а теперь почувствовал себя неуклюжим, неловким, какая-то сила сковывала и язык и движения, он не знал, куда деть свои руки с большими, заскорузлыми ладонями, с въевшимся в них навечно металлом от железной рукоятки шашки, пороховой гари, конского пота. Да и не только руки, весь он, наверное, пропах этими запахами, да еще кровью, которой видел в свои небольшие в общем-то годы немало. Вот какой запах от него идет, а эта девчушка черноглазая не морщится даже, сдерживает, ишь, себя…
К тачанке подскакал Кузьма Тихомилов, единственной рукой оперся о седло, спрыгнул на землю. При этом пустой рукав его кожаной куртки мотнулся, описав круг.
– Как же они, сволочи, дозорных-то сняли! – шумно выдохнул Тихомилов. – Заснули, что ли?
– Теперь вот гадай-как? – проговорил Данила. – Перед самой зарей я еще проверил посты – вроде все было нормально.
– Нормально, нормально… – буркнул Тихомилов. – А это с кем ты тут? Пого-одь! С бабой, значит, прохлаждаешься?!
– Какая ж баба?! Не видишь – девчушка. Она и предупредила. Растолкала меня вовремя. А то бы… Ранило вот ее.
– Во-он оно что! – сбавил тон командир отряда.
Через неделю ранка на плече девушки затянулась без следа, а через две она стала женой Афанасьева. Кузьма Тихомилов, узнав, какую роль сыграла Аришка в разгроме бандитских налетчиков, не только разрешил ей остаться при отряде, но поручил Даниле лично следить за излечением ее раны. Может, так просто, от доброты поручил, а может, по какой другой причине. Во всяком случае, тем же утром, когда брызнул солнечный свет и при этом свете Тихомилов увидел, как Аришка, взглянув на Данилу, смущенно и растерянно опустила глаза, командир отряда, отведя своего помощника в сторону и погладив обрубленное свое плечо, проговорил:
– Ей-богу, на Татьяну она мою чем-то похожая.
– Вот уж, дядь Кузьма, не сказал бы, – возразил Данила.
– Ну, много ты понимаешь! – вспыхнул командир. – Чтоб лично мне следил, как рана ее заживает!
Как бы там ни было, Данила выполнял приказание, а через два-три дня понял, что делал бы это и помимо воли командира. Была Аришка вроде и не очень красивой, но из глаз ее лился такой теплый и доверчивый свет, что у Данилы в груди больно и сладко постукивало.
В этой деревушке отряд Тихомилова простоял еще пятеро суток, а на шестые рано утром командир поднял его выстрелами из нагана:
– Хозвзводу тут стоять! И ты тут с ними оставайся! – крикнул он почему-то Аришке, выскочившей из избы, где она ночевала. – Мы скоро…
Рванув коня, он поскакал вдоль улицы, за ним остальные, девушка лишь увидела, как мелькнул вороной жеребец Данилы да сверкнули его зубы: обернувшись на бешеном скаку, он что-то прокричал ей, но что – она не расслышала, голос сквозь громкую дробь множества копыт не пробился.
Вернулся отряд не скоро, только на другой день к вечеру. Пыльные, усталые, окровавленные партизаны втягивались в деревню на измотанных лошадях гуськом, на некоторых вместо всадников были перекинуты тела погибших.
– А Данила как? Господи, Афанасьев-то Данила живой?! – металась Аришка от всадника к всаднику, растерянная, обезумевшая. Ей никто не отвечал, только один бородатый партизан сердито сказал:
– Радуйся, живой покуда.
Данилу она увидела шагающим сбоку телеги. Он был мрачен, вел в поводу своего коня. На телеге, без фуражки, с закрытыми глазами лежал Тихомилов.
– Данилушка! – Она подбежала к телеге. Не решаясь прикоснуться к Афанасьеву, глотая слезы, выдавила из себя: – А дядя Тихомилов… Он убитый? Убитый?!
Тихомилов открыл глаза, улыбнулся:
– Живой я. Черта с два меня убьешь, живо-ой! Мякоть ноги вот пробило. Ерунда… Через недельку бегать буду.
Дотемна Данила Афанасьев возился с командиром, помогал промывать рану, укладывал на ночь. Потом распоряжался по устройству отряда на отдых, о завтрашних похоронах погибших, отряжал дозорных… Уж далеко за полночь, измотанный и мрачный, появился в избенке, где жила все эти дни Аришка у какой-то старухи.
Едва он брякнул шашкой на крыльце, она распахнула дверь перед ним.
– Ты не спишь, гляжу. Иду, а в окне огонь…
– Какой сон, какой тут сон! – воскликнула она. – Проходи.
– Ну, я только тебя проведать… Пойду, прикорну где-нибудь.
– Еще чего! Ложись вон на кровать. Хозяйка в завозне эти дни спит. Голодный ведь, поди? У меня каша есть и молоко.
– Каша? Я и вправду бы поел…
Ужинал он молча, девушка тихо и неслышно сидела на другом конце стола, молча глядела и глядела на него, из глаз ее лился тот теплый, материнский свет, который всегда смущал Данилу, но на этот раз он ничего не чувствовал, ничего не замечал.
Поев, он устало разогнулся и встал. Она метнулась к кровати, откинула одеяло, взбила подушку. Данила опустился на постель, стянул грязные сапоги, скинул вонючие портянки, задвинул ногой под кровать.
– Давай сюда, я постираю, почищу.
– Жена ты, что ли, мне?
– Так что ж, что не жена? Не привычная разве? И гимнастерку со штанами давай. Печку счас растоплю и к утру высушу, А то пропотел весь. Снимай, а я выйду.
Она скользнула за дверь, Данила посидел в раздумье, снял верхнюю одежду, бросил на стул и лег под лоскутное одеяло.
Через некоторое время Аришка скрипнула дверью, вошла, взяла гимнастерку со штанами, подошла к висячей лампе и дунула.
– Спи покуда, – сказала из мрака и пошла.
– Ариш… побудь со мной.
Она у дверей остановилась, постояла, потом шаги стали приближаться к кровати и замерли. Данила лежал с закрытыми глазами, боясь их разомкнуть.
– Эта рубка была – жутко вспомнить, – произнес он, так и не открыв глаз. – Бандиты вчерась ночью на сельцо Петрушиху налетели, начали тама людей палить. Утром-то вчерась и прискакал оттуда мужик – помогите, мол. Ну, Тихомилов и повел отряд. Бандюков мы живо выперли, половину порубили, остальные в горы ускакали. Переночевали мы тама, четверых своих утром похоронили, назад сюда было направились. А тут… только мы в котловину какую-то въехали, и налетели на нас уцелевшие бандюги с какой-то подмогой. И началось… ровно вода в этой котловине закипела.
– Да я знаю… мужики рассказывали, – прошептала Аришка. Шепот ее был совсем близко, над самым ухом, Данила ощутил ее дыхание на своем лице и с удивлением открыл глаза. В полумраке он увидел, что Аришка стоит у кровати на коленях, а на плечах ее, на гладко зачесанных волосах поблескивает неяркий лунный свет. – Как еще ты-то… ты-то живой остался! – всхлипнула она и уронила ему на грудь тяжелую и горячую голову.
– Остался вот… – Он положил ладонь на ее голову и стал поглаживать. – А дядь Кузьму опять ранило. Ровно мало ему… ровно проклятье какое над ним! Не могло меня-то вместо него!
– Господь с тобой! Очнися! – тотчас оторвала девушка от его груди голову. – Чего городишь? Чего ты… желаешь?!
Какое-то время они помолчали, потом Данила прерывисто вздохнул, вытер ладонью повлажневшие ресницы:
– Жалко мне его, Ариш…
– Кому ж не жалко? И мне тоже…
– Твоя-то ранка как?
– Зажила-а! Вот, глянь… – Она схватила его руку, сунула на свое плечо. – Рубчик только остался.
Тело ее было горячее, никакого рубчика на ее плече сквозь тонкий ситчик он не чувствовал, может, потому, что рука его задеревенела от рукояток шашек да наганов или оттого, возможно, что пальцы и всю ладонь обжигало девичье тепло. Подрагивающей рукой он скользнул по ее открытой шее, по затылку, стал пригибать к себе ее голову. Аришка покорно поддалась, он поцеловал ее сперва в пылающую щеку, нашел ее губы.
А потом почувствовал, как на его лицо капают обжигающие капли. И зашептал, все крепче прижимая ее голову к груди:
– Дурешка ты махонькая. Ложися ко мне… Иди скорей! А утром я объявлю, что поженились, мол, мы. Ну, аль не согласна?
Но тут девушка, преодолевая его сопротивление, подняла голову, С колен она не встала, только сняла со своего затылка его ладонь, взяла ее в обе руки, уткнулась в эту загрубевшую ладонь мокрым лицом.
– Я с первого дня согласная, Данилушка, – прошептала она. – Только… грех до свадьбы-то. Скотина, что ли, я какая… и ты…
Она поднялась, взяла со стула его гимнастерку и брюки. И, прижимая к худенькой груди эту грязную одежду, проговорила голосом, переполненным волнением и какой-то детской, а оттого чистой радостью:
– Коли ты возьмешь меня… я тебе со счастьем детей рожать буду. Господи!
И с этим возгласом выбежала из комнаты.
Уснул или не уснул в эту ночь Данила Афанасьев, он и сам не понял. А утром пришел к командиру отряда и сказал:
– Порешил я жениться, дядь Кузьма. На Аришке.
Кузьма Тихомилов сидел на кровати, отвалившись на подложенные под спину подушки в пестрых наволочках, пил чай из толстой фаянсовой кружки. Забинтованная нога его лежала поверх одеяла.
Командир отряда поглядел на свежевыглаженную гимнастерку своего приемного сына, не вычищенные и даже смазанные дегтем сапоги, грубовато сказал, дуя в чашку;
– А я тебе что говорил, балда? Давай, вот как нога моя ходить станет, свадьбу сделаем по партизански. Через недельку, я рассчитываю.
– Да разве за неделю пройдет рана?!
– Ну! – прикрикнул Тихомилов. – Чего тянуть-то?
Свадьбу отвели в один вечер в той же избе, где ночевал неделю назад Данила – благо после боя близ сельца Петрушихи о новых бандитах слухов никаких не доходило. Попели, поплясали мужики, командир отряда пришел на свадьбу с костылем, но на своих ногах, за столом сидел счастливый и несколько раз в каких-то чувствах шептал Даниле: «Теперь-то видишь, что на Татьяну она мою похожая? Я сразу почуял. Характером-то, а?» – «Ну да, ну да», – согласно кивал Данила, хотя никак не мог уловить в Аришке чего-нибудь общего с погибшей женой Тихомилова. Ему нравилась Аришкина чистота и застенчивость, ее добрые и верные глаза, он слышал сладкий запах ее тела – и был от всего этого словно в пустом пространстве, легко и радостно плыл куда-то.
Через день или другой после свадьбы пришли известия, что антисоветский мятеж на Алтае стал затухать, а вскоре и вообще прибыло распоряжение отряду Тихомилова прибыть в Змеиногорск, оттуда отправили его в свою волость, где и расформировали, распустили бойцов по домам.
Кузьма Тихомилов остался работать в волости, Данила Афанасьев с молодой женой вернулся в Романовку, через положенное время она родила Катю. «Со счастьем рожать буду», – сказала когда-то Аришка, так оно и было, ребенка она носила в себе, без меры счастливая. Только роды дались ей сильно тяжко, и она, измученная и обессиленная, лежа в своем домишке на кровати, проговорила слабеньким, виноватым голосом:
– Видно, тогда колчаки что-то повредили во мне. До родов-то я, ей-богу, ничего не чуяла… никакой неисправности в себе. Ты уж прости меня.
– Что ты, что ты! – возразил Данила. – Какая твоя вина тут?
– Ну как же, чуть не померла. Каково бы тебе с дитем одному-то?
– Да все же слава богу!
– Не-ет, Данилушка, не все, – измученные глаза ее переполнились слезами. – Чую, боле не родить мне.
– Да и что ж, – успокаивал он жену. – Есть одна дочурка, и ладно.
– Не ладно, – опять возразила она. – Баба ж я… Я обещала тебе детишек нарожать. – И она по детски заплакала. – А тут, выходит, обманула…
Этим разговором открылась Аришка ему еще одной новой гранью. Данила и раньше души в ней не чаял, а теперь и вовсе стал оберегать да лелеять не по-деревенски. Сперва дивовались мужики, что в дождь или слякоть, а то просто вечером, когда с работы возвращались, посадит Данила жену на ладошку, да так и пронесет через всю Романовку. А она, маленькая и тоненькая, как девчонка, обхватит его шею, прижмется к нему у всех на виду, счастливая… Удивлялись, а потом привыкли.
* * *
Кузьма Тихомилов скончался в двадцать девятом, двенадцатого декабря, всего сорока трех лет от роду. Умирал он от прошлых огневых своих и шашечных ран долго, целый месяц, а за несколько дней до кончины призвал к себе Данилу Афанасьева и сына Степку, рослого, под девятнадцать лет уже парня, попросил похоронить его в могилке своей жены, убитой когда-то Сасонием Пилюгиным, а потом, тяжело дыша, говорил им:
– Вы мне обои дети. Ты, Данила, мужик, Степка, хоть в года и входит, да еще глазу требует. Когда то я тебя на укреп взял, теперь ты позаботься об Степке. И доучи его в школе-то, последний же год он ходит.







