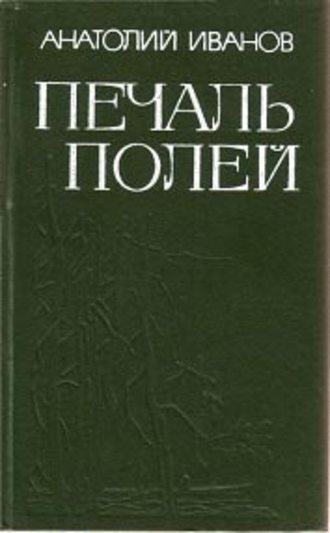
Анатолий Иванов
Печаль полей (Повести)
У могилки они, Катя и Петрован, стояли сперва вдвоем, потом к ним неслышно подошел дед Андрон.
Глаза у Кати были сухими, только бессмысленными и холодными, как зола сгоревшего несколько недель назад ее дома, лоб – от виска до виска – прочертила глубокая складка. Выражения Катиного лица в этот момент ни кузнец Макеев, ни дед Андрон, стоявшие за ее спиной, видеть не могли. Зато они видели, как гулявший по кладбищу ветерок выбил из-под платка и стал раздувать клок волос, прибеленный будто белой известью.
* * *
… А через пять месяцев и две недели была Победа.
Этого дня, ради которого довелось людям перенести столько лишений и страданий, столько принять неизбывного теперь уж никогда горя, давно ждали, каждое весеннее утро пробуждались теперь с одной-единственной мыслью – не свершилось ли? А пришел он все равно неожиданно, радостным обвалом свалился будто с самого неба, на котором играло веселое и щедрое майское солнце.
В Романовском колхозе, как и повсюду, в разгаре была посевная. Катя в этот день привычно поднялась на рассвете, до солнцевосхода переделала множество дел – от семенного амбара отправила к сеялкам четыре подводы, поскандалила с двумя молоденькими девчушками-телятницами, по нерадивости которых молодняк содержался в грязи и плохо прибавлял в весе, выдоила с полдюжины коров – людей не хватало, двух доярок Катя давно поставила на сеялки и теперь каждое утро сама на ферме садилась под коров… Когда солнце поднялось над зеленеющими холмами, она была километрах в семи от деревни. Вчера вечером дед Андрон доложил, что на самом дальнем яровом поле встал трактор, тракторист говорит, сломался, самому не отремонтировать, пошел-де в Березовку звонить в МТС, звать техпомощь, а по слухам, загулял там. Вот Катя и ехала узнать, в чем дело, – это не шутка, что в такое время встал трактор; одно дело, если в самом деле сломался, тогда самой надо звонить в МТС и бить тревогу вплоть до райкома партии, до самого Дорофеева, а то посевной агрегат и неделю может простоять. А коли загулял тракторист, это полбеды, надо только укорить его да попросить, а скандалить и страшить бесполезно, от фронтовых ран на нем живого места нет и кисть левой руки у него в танке отгорела, удивительно еще, как он, однорукий, приспособился водить трактор и работает коли не лучше, так и не хуже других, после сева даже премию ему какую-то надо выделить.
Катя ехала на дрожках, поглядывала на разгорающееся солнце и думала, что Петрован давно уже стучит в своей кузне, ребятишки ее теперь поднялись, обиходили Фроську, сменили мокрые пеленки, и сейчас вот как раз Николай с Игнатом кормят ее из бутылки коровьим молоком – своего-то у Кати так почти и не было, с первых дней Фрося стала искусственницей. А как солнце встанет прямо над конторой, Петрован придет домой, сварит Фроське жиденькую кашку из толченого пшена или гречки. А коли у него там в кузне какие срочные дела приключатся, так и сами ребятишки сварят. Николай со дня гибели Захара и Зоиньки прямо на глазах повзрослел. Сперва Захар заменил по дому Михаила, теперь вот Николай заступил место Захара. Да и то сказать, большенький стал, вот-вот девять исполнится. Уж в самом крайнем случае сбегают они за Петрованом в кузню, а если тот в отлучке, так к бабке Андронихе или еще к кому стукнутся, но в большинстве сами с Фроськой управляются. Катя спокойна за девчонку, может хоть круглый день домой не заглядывать.
Так она раздумывала, покачиваясь в плетеном коробке, лошадь не торопила. Солнце припекало все щедрее, Катя сбросила с плеч сперва истертый ватничек – рано утром и поздно вечером без него еще холодновато, – потом и отцовский пиджак, совсем уже истрепанный, осталась в одной кофточке, кожей чувствовала благодатное тепло и наслаждалась им, подремывала.
Прохватилась она от нарастающего стукотка тележных колес и дальних каких-то криков. В мозгу сперва прорезалось: это ж лошадь меня несет! Она машинально дернула вожжи, качнулась оттого, что мерин ее покорно остановился, и окончательно пришла в себя. Никуда ее лошадь не понесла, оказывается, дрожки ее неподвижно стоят среди дороги, зато навстречу ей бешено несется бричка, в бричке во весь рост стоит какая-то бабенка, размахивает кнутом, юбка на ней полощется, у ног ее сидят двое мужиков и, чтобы не вылететь, держатся за дробины. В одном из сидящих Катя еще издали признала тракториста, в голове ее промелькнуло: «Сомнут сейчас, пьянчуги!» Она торопливо дернула вожжами, чтобы уступить дорогу, но летевшая навстречу бричка еще издали съехала на обочину, сделала у Катиных дрожек широкий полукруг, правившая ею женщина, осаживая разгоряченную лошадь, наклонилась, чуть не падая, назад.
– Афанасьева-а! Председательша! С победой тебя-а! – заорала она, но Катя не взяла в толк, с какой это победой ее поздравляют, до окончания сева было еще далеко, и мысли-то все были о вставшем на поле тракторе, и она, сойдя с дрожек, прокричала:
– Трактор-то чего, чинят али нет?
– Какой тебе сегодня трактор?! – громко ответил тракторист, поднял обгорелую на войне руку, помахал ею в воздухе, как флагом: – Во-от! Гитлера прикончили!
– Мужики к нам оттудова, Катька, теперь привалят! Недолго ждать… – прокричала бабенка, стегнула лошадь, бричка дернулась, объезжая Катину лошадь перед самой мордой, завершила полный круг и понеслась дальше.
Только теперь до Кати дошло, о какой победе кричала бабенка, сердце ее заколотилось, ноги враз обессилели. Она шатнулась к ходку, оперлась об него рукой. «Господи… да в деревне-то знают ли?!» Она заскочила в кошевку, почти на месте поворотила дрожки и погнала мерина обратно, точно хотела догнать уже умчавшуюся бричку.
В Романовке о Победе знали. Не было в деревне ни телефона, ни радио, и время еще стояло раннее, а весть эта каким-то образом все равно достигла крохотной, застрявшей в холмах деревушки. Может быть, птицы на хвостах ее принесли. Первой, кого Катя Афанасьева увидела, влетев в Романовку, была Василиха. Вечно угрюмая, всегда сторонящаяся людей, она на этот раз бросилась из переулка наперерез Катиным дрожкам и, едва та натянула вожжи, с рыданием повисла у нее на плечах, без конца повторяя:
– Катенька, дождалися! Катенька, дождалися…
– А все… все знают? – зачем-то задала Катя глупый и ненужный вопрос.
– Да неужто ж нет?! Все работу седни побросали. Вон, гляди, каждый печет-варит… Гулять бабы собираются.
Тут лишь Катя заметила, что почти все трубы в деревне в это неурочное время дымились.
… Гуляли возле колхозной конторы, стащив на чистый воздух столы, скатерти, табуретки, тут на молодой майской травке и собрался весь колхоз. А всех-то было десятка с три-четыре баб да подростков, а среди них всего два мужика – Петрован Макеев да старый-престарый дед Андрон.
Поначалу пришлось сказать несколько слов Кате, как председательнице, она от волнения вовсе и не соображала, что надо говорить, и, расплескивая мутный самогон из стаканчика, роняла неумелые и, как ей казалось, совсем случайно приходившие на ум слова:
– Светлый день, бабоньки родные, вот и настал. Жутко и подумать, что перенести довелось! Мужики там клали свои жизни… У меня вот отец да Степан Тихомилов… В каждой семье, почитай, такое ж горькое горе. А мы тут с вами пластались до смерти, до потери рук и ног каждый день. Спасибо вам всем за такую работу, какая и хлеб, и молоко, и мясо фронту давала. Хоть и мало нас, а тоже помощь посильная наша фронту была. Поздравляю вас, бабоньки… и, конечно, тебя, Андрон Игнатьевич, и тебя, Петрован Макеев, с долгожданной победой над проклятым фашистом!
После первых рюмок за столом поднялся бабий рев – самогонка, ударив в голову, разжала у каждой сердце, где таилась через силу сдерживаемая боль от безвозвратной потери мужей, сыновей и братьев, преграда исчезла, и боль у каждой растекалась по всему телу. Плакали и Василиха, и кладовщица Легостаиха, но эти двое больше от радости, что у первой остался в живых муж, а у второй единственный сын. Но и эта их радость была тревожная и мучительная. Каждая спрашивала сквозь слезы у Кати: «Уцелели али нет они до седни? Последнее письмо-то писано месяц назад… Слышь, Катерина? Скажи ты, скажи!» Спрашивали так, будто именно от Кати зависело, чтоб за последний месяц войны с мужем Василихи и сыном Легостаевой ничего не случилось. Катя понимала, что им нужна была надежда, с которой они мучительно будут жить до следующего письма, что они сознавали – надежду эту никто им дать не может, но спрашивали так, чтоб хоть немного обмануть самих себя уверенностью других, что муж и сын останутся живы. И Катя отвечала:
– Живые останутся. Всю войну прошли, а тут какой-то месяц. В последний месяц наши-то почти и не гибли, немцев одних и косили, как болотную осоку.
– Спасибо, Катенька. Сердешная ты душой у нас…
Долго еще бабы обтирали с распухших щек соленые слезы, но постепенно та же самогонка, наваренная, оказывается, к ожидавшемуся этому дню чуть не в каждом доме, всколыхнувшуюся боль и притупила, отодвинула на время, за столом все больше и больше поднимался беспорядочный говор, послышался смешок, другой. И вот на дальнем конце стола кто-то затянул извечно грустную песню:
Во саду при долине
Громко пел солове-ей…
* * *
Ни капли не выпили в этот день во всей Романовке, пожалуй, только два человека – дряхлая Федотья Пилюгина да ее сноха Лидия. Федотья, когда бабы за столом расшумелись и распелись, выползла из дома, постояла на крыльце, опираясь на свой костыль, потом спустилась по ступенькам и двинулась к конторе. Близко к столу она не подошла, остановилась поодаль, опять долго стояла неподвижно, холодно и ядовито глядела на запьяневших женщин. Все видели Федотью, но к столу не позвали, никто не повернул даже головы в ее сторону. Будто и стояла она неподалеку, а будто ее там и не было. Постояв немного, она повернулась, снова побрела к дому, постукивая палкой, взобралась на крыльцо, захлопнула за собой дверь.
А Лидия Пилюгина с весны опять пастушила, как всегда, до солнца она выгнала сегодня за холмы стадо, у Кати несколько раз до вечера мелькало, что в полях людей снует много, кто-нибудь да скажет ей о Победе и Лидия не выдержит, погонит табун в деревню. Время от времени Катя поглядывала на седловину меж холмов, по которой обычно спускалось стадо. Но оно не появлялось.
Когда на закате Лидия пригнала коров, Катя, тотчас побежав на ферму, крикнула:
– Лидия! Война ж закончилась! Победу объявили.
– Слыхала еще в обед.
– Наши-то вон бабы все загуляли сразу, не удержать, – кивнула Катя в сторону конторы, откуда все еще доносились пьяные голоса. – Я думала, и ты пригонишь табун. Да и пригнала бы, такой ведь день!
– Мне-то с какой радости гулять? – угрюмо ответила Лидия.
Еще час или два назад пьяненький Андрон подошел к Кате и сказал ей:
– Боюся, что коровенки нынче останутся недоенными. Ишь он, доярки-то какие.
Катя кивнула и ответила:
– Пущай уж. Как-нибудь вдвоем с Лидией нынче выдоим. Попрошу ее помочь.
И теперь вот она, ополаскивая под рукомойником руки, просить ее об этом боялась. Катя тоже несколько рюмок выпила, в голове неприятно шумело, и ей казалось, что Лидия в ответ на ее просьбу буркнет что-нибудь так же угрюмо и зло, да и пойдет прочь. А одной ей тут до полночи возиться. Однако, едва она заикнулась о дойке, Лидия сказала:
– Ну так что ж… давай подойник.
С тех пор как погибли в огне дочка Данилы Афанасьева и сын Тихомилова Степана, Лидия и сделалась угрюмой. Дело делала любое, как и раньше, а разговоров лишних не разговаривала и по возможности Катю сторонилась.
Вот и теперь целых два часа сидела под коровами молча, молчком же помогла составить фляги с молоком в погреб-ледник, где оно и хранилось до утра, а утром по холодку отправлялось в Березовку на «молоканку» – маслозавод.
Так ни слова не вымолвив, она ополоснула подойник после работы, поставила его на место и, не попрощавшись, ушла.
Еще похлопотав на ферме, Катя тоже побрела в деревню. Накатилась уже ночь, светлая и теплая, на небе высыпали крупные звезды, над Романовкой стояла тишина. Возле конторы давно уже никого, кроме Марии, не было. При свете керосинового фонаря она убирала со столов чашки, тарелки, стаканы и кружки, складывая все это в большую корзину, а в ведро ссыпала остатки пищи.
Подойдя, Катя присела за краешек стола, положила перед собой усталые руки. От двухчасовой дойки пальцы стали как деревянные.
– Управились? – спросила Мария, не прекращая работы.
– Тут-то чего, все ладно кончилось? – вместо ответа проговорила Катя.
– Да ничего. Все на своих ногах уплелись, – кивнула Мария через плечо в сторону улицы. Дома вдоль нее стояли во мраке, будто тоже, как вот Катя, усталые, притихшие, окна светились редко где – погуляли их хозяйки, поплакали, попели, отвели душу на радостях, а завтра чуть свет каждой на работу, да еще сегодняшние дела завтра же доделать надо.
– Петрован-то по старой памяти не шибко перебрал?
– Не-е. Да он, как ты ушла на ферму, тож вскорости поднялся, детей, говорит, укладывать надо…
Как засудили Михаила, Петрован Макеев строго соблюдал свой зарок, ни разу капли в рот не взял и сегодня, сев за стол и увидев перед собой кружку с самогоном, вопросительно поглядел на Катю. Она кивнула и проговорила: «Да в такой-то день чего ж…» С первого заряда он отпил половину, а потом лишь чуть отхлебывал, кружка так и стояла перед ним полной. И все же, уходя на ферму, Катя сказала ему: «Без меня-то не разойдись, гляди». – «Да что ты, Катерина…» – обиженно ответил он и в самом деле ушел почти трезвым. Кате вдруг стало больно оттого, что обидела его таким предупреждением.
– В контору, что ль, поставить? – кивнула Мария на корзину с грязной посудой. – А то ночью собаки да кошки вылижут. Утром всяк свое разберет.
– Поставь, – сказала Катя.
Счетоводиха отнесла корзину, вернулась с тряпкой. Обтирая крышки столов, спросила:
– Когда людей-то смешить перестанешь?
Катя понимала, о чем говорит Марунька, но все же подняла на нее вопросительный взгляд.
– Так не живешь ты с Петрованом. Держишь мужика при себе, как домработника. Али квартиранта. Ни себе, ни людям…
– Откуда вам знать – живу или не живу?
– А народ, он все знает, – сердито буркнула счетоводиха.
Катя опустила глаза, помолчала. Затем вздохнула устало и проговорила:
– Не осталось где глотка самогонки-то?
– Как не остаться, – проговорила Мария и ушла в контору.
Пока она находилась там, Катя невесело думала, что действительно чудно все это у них с Петрованом. Чувств у нее к нему вроде бы никаких не было, а привыкнуть – потихоньку привыкала, было спокойно и как-то приятно слышать, что он ходит по дому, возится с детишками, делает всякие разные дела на подворье. Когда он допоздна задерживался в своей кузне или уезжал куда на поле, в душе у нее возникало что-то заботливое – чего, мол, так долго там, голодный же… А жить с ним – действительно не жила. Петрован спал в другой комнате, попервоначалу Катя думала, что если он сунется к ней на кровать, то она шуганет его и с кровати, и из дома так, что и дорогу сюда забудет. Но время шло. Петрован даже и намеков не делал, что хочет к ней под одеяло, и однажды у Кати обиженно мелькнуло вдруг: да чего она, не баба, что ли? Такая обида на него мелькнула один только раз и больше никогда не приходила, но она теперь нет-нет да подумывала: а все ж таки рано или поздно, все равно он… как ей тогда поступить с ним?
Но этого она не знала и до сего дня.
Так вот они и жили под одной крышей, не муж и не жена, не родные, да будто и не чужие теперь. Вроде созревало иногда у Кати решение – уходи, мол, Петрован, хватит в самом-то деле потешать людей, но в последнюю минуту высказать ему это духу не хватало. Не хватало, может, потому, что люди, как ни странно, над их отношениями не потешались, сплетен и пересудов о них никаких не ходило, уж об этом Катя бы знала. И что всего удивительнее – люди и в самом деле, как уверял кузнец, потихоньку привыкали к мысли, что Фроська самая настоящая Петрованова дочь. Лишь попервоначалу Федотья Пилюгина пробовала было звонить прежнее: «Ишь придумал чего, присвоил, бес колченогий, дитя чужого, Артемушкина дочерь это, все едино отберу…» Подобные слова Пилюгина почему-то выкрикивала чаще всего перед молчаливой Василихой, но та слушала-слушала, да и огорошила однажды Федотью: «А заткнула бы ты хайло-то свое. Народу лучше тебя знать, от кого у ней дочь»,
С тех пор и Федотья умолкла. И в метриках стояло отчество Катиной дочери – Петровна. Так требовал записать Макеев, да он же в сельсовете, когда ездил с Катей регистрировать ребенка, и назвал имя отца, а она не возразила…
Мария вышла из дверей конторы с бутылкой, двумя гранеными стаканами и чашкой, в которой лежали соленые огурцы да краюшка хлеба. Катя сама налила – Марии побольше, а себе треть стакана.
– Ну, Маруня… Еще раз с долгожданным праздником.
Зажевав едкую жидкость, они помолчали. Сидели друг напротив друга и молчали, будто слушали ночную деревенскую тишину.
– А все ж таки, Катерина, решайся, – проговорила наконец Мария. – Мужик он славный, пить вот бросил. Кого тебе ждать-то?
Катя никак не откликнулась на эти слова, еще посидела недвижимо, затем устало разогнулась.
– Ладно, пойду я.
Пока шла до дому, в голове у нее все долбило и долбило: «Решайся… мужик он славный. Кого тебе ждать-то? Кого ждать… кого?» И то ли от этих звенящих в мозгу Марунькиных слов, то ли от глотка самогонки голова у Кати стала кружиться, усталость куда-то исчезла, тело сделалось легким, кожа на лице, на груди, на ногах – она это почувствовала – взялась горячим жаром. «И решусь я! Кого ждать? Некого… Давно, дуре такой, решиться надо было… А не мучить мужика», – лихорадочно мелькало теперь у нее.
Последние метры до дома она уже не шла, а бежала, дверь в сенцы распахнула, а закрыть не успела. По кухне, которая была и прихожей, пронеслась в два прыжка, рванула дверь в комнату, где спал Макеев.
– Петрован!
Он, видимо, не спал, потому что сразу откинул одеяло и сел на кровати.
– Петрован! Петрован… – Она опустилась перед ним на колени, уткнула голову в его горячие ноги и зарыдала.
– Да ты чего… Катерина? Детей пробудишь… – растерянно проговорил он.
– Дура-то я какая, Петрован… – Она схватила в темноте его жесткие, пахнущие железной окалиной руки, прижала их, обливая слезами, к своему лицу. – Мне бы давно решиться! А я тебя истерзала… Руки-то у тебя какие… золотые же!
И она стала целовать его ладони.
– Погоди, Катерина… – выдохнул он. – Ты ж спьяна все это.
– Не спьяна! Завтра в сельсовет поедем… Ты понял? Понял?
Тут только руки его дрогнули, он провел ими по мокрому Катиному лицу, по горячей ее шее, крепко сжал ее за плечи.
– Катерина! Катя…
– Ага, ага… Родимый!
Он хотел встать, но она опередила, властно положила его на кровать и, лишившись голоса, без сил прошептала ему в лицо:
– Ты лежи, лежи! А я – счас. Дверь вот прикрою…
* * *
… Прошло после победы без двух месяцев семь лет, была первая половина марта 1952 года,
Катя Афанасьева, давно ставшая Макеевой, по-прежнему председательствовала в колхозе и ждала из заключения Михаила.
Внешне не так-то многое изменилось за эти годы в Романовке, деревушка была такой же маленькой, только поставлен был под увалом новый коровник под шифером, из свежих бревен собрали два просторных амбара, а рядом с ними крытый ток, да муж Василихи, длинный горбоносый мужик, вернувшись с фронта, выстроил новый дом, а старый отдал безвозмездно Лидии Пилюгиной, где она и жила с семнадцатилетней дочерью Сонькой – рослой, стройной и настолько красивой, что каждый невольно останавливал на ней свой взгляд. Дряхлая Федотья все еще скрипела, жила по-прежнему в одиночестве, сделалась вовсе невыносимой. Когда Софья прибегала к ней, между ними каждый раз происходил примерно один и тот же разговор: «Бесстыжая, все титьки выставляешь?» – «Куда ж их деть, коль выросли», – отвечала Софья. «Ужо погоди-и, – стращала старуха. – Мужик, он сперва тебе в ухо погудки, а потом лапой за грудки». – «Как тебе не совестно, бабушка!» – «Ишо совестить, поганка! Вся в матерь, чтоб тебя свинья растоптала…»
Несмотря на это, Сонька, веселая и жизнерадостная, постоянно ухаживала за старухой, обстирывала ее, водила в баню, убиралась по дому.
Помягче стала относиться к Федотье и сама Лидия. Когда Софье было за колхозной работой недосуг, приглядывала за свекровью, зимой протапливала в бывшем своем доме печь, пекла, варила, но жить с Федотьей категорически отказывалась.
– Вонючка, не разнюхал тебя в невестах Артемушка-то, – грызла и ее Федотья. – Кинули дуре в колхозе ломоть, а она и рада за него молоть.
– Да хоть бы захлебнулась ты злобой-то своей поскорее! – не раз в сердцах говорила ей Лидия.
– Ага, ага, – качала маленькой и легкой, будто вовсе пустой, головой Федотья. – Дай господь смерти, да вот тебе наперед.
Дряхлая Федотья, по-прежнему исходившая бессильной теперь злобой на весь мир, все еще жила, а вот добрая Андрониха через год после Победы скончалась. Умерла она тихо и спокойно. Однажды вечером, как укладывались спать, она сказала своему старику: «Ты, Андрон, уж прости меня, коли в жизни-то чем я тебе не угождала… али прикучала». – «Чего такое мелешь, старая?! – с беспокойством в голосе выругал ее старик. – Выпей-ка вот смородинного отвару да спи. Все жизненные витамины, грят, тут». – «Холод, Андронушка, насквозь меня иглами прокалывает. Прости, говорю, сердешный…» – «Да счас я тебе грелку…»
Андрон загремел заслонкой, вытащил два чугунка, один с горячей водой, чтобы налить в резиновый пузырь, а другой со смородинным отваром. Когда с кружкой отвара подошел к кровати жены, та была уже мертва.
Пережил свою жену Андрон всего на полторы недели. Схоронив старуху, вытесал и себе гроб, сказал Кате:
– Чтоб вам без хлопот, значит. В могилке я подкоп вырыл просторный, и земля там над старухой еще не охрясла. Легонько ее выкидаете и меня рядком положите.
– Шибко уж скоро ты вслед-то ей собрался, – с таким же беспокойством, как недавно сам Андрон свою жену, ругнула его Катя.
– Где ж скоро, вон вторая неделя пошла, – возразил старик. – Каждую ночь слышу – зовет она меня. А вы покуда оставайтесь под солнышком. Теперь ты с Петрованом, не одна, и проклятая война эта отошла. Ты уж, Катерина, по утрам-то на живность меня посматривай али ребятишек своих посылай. А то мертвяком неуютно в пустой избе лежать. Закрываться на ночь я не буду…
Эта длинная его речь и была последней, где-то ночью он и отошел, утром Катя с порога еще увидела его вздыбленную, давно остывшую уже бороденку.
Похоронили его как он просил. Не было над могилой ни речей, ни слез. Катя Афанасьева, глядя, как Петрован с сыном Легостаихи Иваном, угодившим таки в последний месяц войны под серьезное ранение и только недавно, к неописуемой радости матери, вернувшимся домой, зарывают могилу, ворошила в голове нахлынувшие мысли о бренности и никчемности человеческого бытия. Неисчислимое количество людей, думала она, беспрерывно появляется на земле, каждый быстро проживает свою жизнь, хоть такую длинную, как Андрон вот, или короткую, как секретарь райкома партии Дорофеев, скончавшийся вечером Девятого мая, сразу после митинга, посвященного победному празднику. Одни умирают своей смертью, другие от пуль, как вот Степан Тихомилов, или ее отец, или тот же Дорофеев, а то еще и под пытками да огнем, приняв под конец неимоверные мучения. Но так или иначе каждого ждет смерть, под этим вечным солнцем и немыми, холодными звездами беспрерывно, никогда не останавливаясь, работает и работает чудовищная мельница, безжалостно перемалывая всех. Будь ты добрый или злой, умный или глупый, люби ты людей или ненавидь их, как Федотья Пилюгина, конец для каждого один. А если еще и подумать, что каждому при жизни уготовано больше тяжкого труда, чем отдыха, больше горя, чем радостей, – зачем вообще появляться на земле?
Так уныло размышляла Катя над могилой Андрона, и вдруг все эти тяжелые и невеселые мысли словно ветром подхватило да унесло: голова ее закружилась, в груди она почувствовала ту самую тошноту, уже знакомую, приведшую однажды ее к неописуемому ужасу. А теперь от этой тошноты беспокойно и радостно забилось сердце, разгоняя кровь по жилам, наполняя тело согревающим огнем. Она глянула на сгорбленную спину Петрована, обравнивавшего лопатой могильный холмик, и вспомнила почему-то опять о смерти секретаря райкома партии Дорофеева: ну да, он скончался в тот вечер, может быть, даже в тот самый час, когда она, Катя, упав на кровать к Петровану, сгорела под его тяжелым и добрым телом, забыв про всю свою ужасную, без единого светлого проблеска жизнь, про мертвых и живых своих детишек, про сгинувшего где-то Степана Тихомилова. Она, уткнувшись мокрым лицом в его горячую грудь, лихорадочно оглаживая его по плечам, по спине, от неизведанного доселе сладкого чувства стонала, хрипела и без конца выговаривала одно и то же слово: «Петрован… Петрован…»
И теперь у могилки она еле слышно произнесла:
– Петрован…
Он сразу же расслышал ее шепот, немедленно разогнулся.
– Чегой-то? – И обеспокоенно шагнул к ней. – Тебе что, худо?
– Нет… ничего, – ответила она, пряча от всех лицо. Ей казалось, что сейчас люди заметят то, чего не должно быть в выражении глаз человека, стоящего у свежей могилы. Потом повернулась и первая пошла с кладбища.
А дома прямо у порога она ткнулась ему лицом в грудь и прошептала стыдливо:
– Затошнило там меня, Петрован. Вот чего.
– Катя! Катенька… – выдохнул он облегченно, стал тяжелыми руками гладить ее, как маленькую, по голове, по плечам. – Да неужели ж? Не ошиблась ты?
– Нет. Это точно так… как было раз уже.
Она откинула голову, подняла на него полные счастливых слез глаза. Он глядел на нее радостно и еще недоверчиво, потом недоверчивость исчезла, растаяла, а радость засветилась еще отчетливее.
– Поворот-от! Ах ты, Катенька! Родимая… И он снова прижал к себе ее худенькое тело.
В начале сорок седьмого Катя родила девочку, назвали ее в честь безответной Катиной помощницы Марией, о чем и объявили счетоводихе. Та расчувствовалась, расплакалась, принесла в подарок целый ворох пеленок и крохотные валеночки. А через два года Петрован привез жену из больницы с сыном и, немного хмельной от радости, всю дорогу уговаривал Катю, хотя она и не возражала:
– А назовем его Данилом, а? Данил Петрович будет. Как славно, а?! Кузнечному делу его, Кать, обучу… Эх, пошла наша с тобой жизнь-то, Катя!
Да, жизнь шла теперь по всей земле легче, и в Романовне тоже, и в Катиной семье было теперь все благополучно.
В мае сорок пятого Катя и Макеев расписались, а в конце августа Петрован сказал:
– Николай-то, что ж, так неучем у нас и останется? Давай, Коля, на учебу собираться. В Березовскую семилетку поближе будет, там я договорюсь где с квартирой у добрых людей. Харчи подвозить будем с матерью, конечно.
Николай было заупрямился;
– Десятый год мне уж, с первоклассниками… Засмеют же.
– Засмеют-то нас с матерью, коль сундуком вот безграмотным останешься. Ишь, скажут, родители тоже. Ничего, Коля, собирайся. А на другой год Игнатия отдадим в школу, тогда вдвоем там будете.
Николай вытянулся на несчастье в парнишку рослого, за партой возвышался над всеми на целую голову и безжалостных насмешек ребячьих перенес, конечно, немало, но четыре года терпел, а потом стало невмоготу. В сорок девятом он в школу ехать категорически отказался, стал работать с Петрованом в кузнице, а нынче после Нового года заявил:
– А ежели на шоферских курсах мне, бать, поучиться? А, мам? Рулить-то я уж умею, дядь Иван Легостаев научил.
В колхозе уж несколько лет было две полуторки, на одной из них работал Иван Легостаев.
– Так, а что, мать, – сказал Петрован, – шоферская работа серьезная.
Второй уж месяц Николай учился автомобильному делу, квартировал в райцентре. Игнатий, пошедший в школу в сорок шестом, был уже в пятом классе, жил в Березовке. Подрастала Фроська, к нынешнему сентябрю и ее готовили к школе. Петрован сам купил ей портфель, букварь, пенал с карандашами, тетрадки. Объявив ее в сорок четвертом своей дочерью, он чутко и строго все эти годы следил, чтобы не вздумал кто в этом засомневаться, одевал ее чище и баловал больше, чем родных детей. И у Кати от этого не раз навертывались благодарные слезы. Пряча их от мужа, она думала, что счастье не обходит все-таки ни одного человека, вот и ей судьба выделила немало, да какой же Петрован золотой человек, вот вам и пьянчужка. Ну и от деревенских людей все это не укрывалось, особенно от бабьего глаза, отношение Петрована к Фроське все глуше и глуше затирало историю ее рождения. Лишь неуемная в своей злобе Федотья пыталась что-то внушать Фроське. Однажды вечером она прибежала в слезах, уткнулась не матери, а отцу в колени.
– Ты мой папа… Ты мой… самый родной!
– Что? Кто обидел? – поднял ее за плечики Петрован, хотя и ему и Кате было уже ясно, в чем дело.
– Бабушка эта злая… Схватила меня счас.
– Ах она, ведьма старая!
– Ага, ведьма… – вытерла девочка кулачонками глава. – Как из сказки она вроде. Я ее боюсь.
– Ну, бояться не надо, доченька… А я вот с ней поговорю сам. Я на нее найду управу.
– Найди, пап! Ты же вон какой сильный, – с детской верой во всемогущество отца сказала Фрося.
– Обязательно найду. Вот счас я к ней и отправлюсь.
Когда Петрован вернулся, Фрося спросила:
– Нашел, пап?
– А как же. Теперь она тебя больше не тронет. Давай вон куклов-то своих укладывай на ночь, у них уж глаза слипаются.
Успокоенная и радостная, девочка побежала к своим куклам.
Ночью Катя спросила:
– Что ж ты ей говорил-то?
– А посулил… коли еще вякнет чего Фроське, возьму, говорю, вилы да шею приткну к земле. Как гадюка говорю, поизвиваешься да сдохнешь.
– Петрован!
– А вот и испугалась. Ладно, грит, силов-то у меня нету уж, а вот вернется Пашенька… Помешалась на своем Пашеньке.
– Да он и правда… если бандитом-то вернется?!
– Ну, много воды стечет, покуда срок ему кончится, – успокоил Петрован жену. – А Фроська как подрастет, так и сама все поймет. Мы ж ее тоже потихоньку воспитывать будем.
Все это было с год назад. Федотья никогда с тех пор к Фроське и близко не приближалась. Сколь ни многожильной была она, а силы все же заметно иссякали, оставленная всеми, кроме сердобольной внучки Софьи, она потихоньку высыхала. Но и до звону высохшая, она бы, наверное, еще долго маячила на земле, как неприкаянная и зловещая тень, да два события ускорили, видно, дело и свели ее в могилу…







