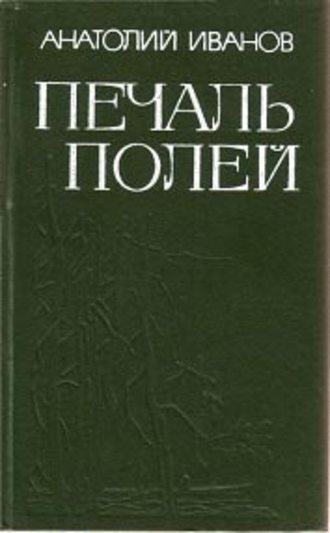
Анатолий Иванов
Печаль полей (Повести)
5
В родные места он приехал ранней весной, когда над Енисеем кричали журавли.
Но с какого боку приткнуться к жизни? Ни на что хорошее он уж не надеялся, отвык от хорошего. И, внутренне чувствуя, что пытает судьбу в последний раз, прямо с поезда пошел в райисполком.
– Объясни мне, значит, гражданин начальник, что я такое за человеческое чучело? В том смысле – стоит дальше мне жить али в самом деле солнечным светом я не имею права пользоваться? – спросил он, зайдя почти без спроса у тонконосой секретарши в кабинет самого председателя райисполкома.
Фамилия у председателя была Агафонов. Толстый, неповоротливый, с заплывшей нездоровым жиром шеей, он, прихмуривая брови, с любопытством оглядывал посетителя.
– Начальник-то я начальник… видишь, раскормленный какой. А все-таки не гражданин, а товарищ… Из заключения, что ли?
– А для меня вся земля – тюрьма без решеток.
– Ишь ты, – усмехнулся тучный Агафонов. – Злой какой. А я вот стих однажды где-то читал: «Солнце светит всем – слепым и зрячим. В этом и величие его…» Это – как?
– Слова-то можно по-всякому составлять.
– Н-да… – Агафонов все так же внимательно разглядывал Демидова. – Ну-ка, чучело, себя замучило, рассказывай…
И впервые за многие годы почувствовал Демидов, что не вся земля в подлецах, слишком большая она для этого.
Он рассказал толстому Агафонову о своей жизни все, не утаив даже и малейшей подробности.
Тот слушал не перебивая, только хмурился и мял кулаком жирный подбородок.
– Н-да… – опять он произнес, когда Павел кончил. – Что я тебе скажу, товарищ Демидов? Зло – оно само себя показывает, а добро еще увидеть надо.
– Это как же понять?
– А так… Я вот думаю: самое полезное для тебя сейчас будет – пожить где-нибудь в стороне от людей, один на один с природой. Пособлю я, скажем, бакенщиком тебе устроиться на Енисее. А еще лучше – лесником.
– Значит, возле людей мне так и нету теперь места? – Вся удушливая горечь опять прихлестнула к самому горлу.
– А ты поверь мне, Демидов. Вот хозяйка хлеба из печки когда вынет – сперва в прохладное место их составит, полотенчиком чистым прикроет – отдохнуть от жара. И отмякнет он, хлеб, духу земного наберет. А люди? Людей и в лесу много.
– Ты из крестьян, видать? – Горечь сама собой отхлынула от горла, только на Агафонова смотреть почему-то было неудобно, ощутил он ни с того ни с сего и какую-то вину перед этим человеком.
– Нет, я таежник в прошлом. И лесником долго служил. Вот сейчас как вспомню – заноет сердце от тоски. Лес, природа вообще – это высший разум, какой есть под солнцем. Научишься все это видеть и понимать – и обнаружишь в себе человека. А это для тебя – еще задача, уж поверь мне.
Демидов и понимал и не понимал, о чем говорит Агафонов. Но чувствовал – надо ему верить. И неожиданно для себя произнес:
– Да-а, хороший ты, должно быть, человек.
– А это люди по-разному считают, – усмехнулся Агафонов. – Так что ж, позвонить мне насчет тебя в лесничество? Не подведешь меня?
– Ты мою жизнь всю слыхал. Меня вон сколько подводили, а я вроде никого пока.
– А ты поубавь-ка злости! – рассердился вдруг Агафонов, покраснел, как от натуги. – «Меня вон сколько…» А сколько? Все люди будто тем лишь и занимались. Один раз только, один подлец… Это надо тебе сразу, тут же понять!
– Оно и раз, да досыта. Он, сволота, так и сказал: «Икать всю жизнь будешь». И вот – наикался! Меня тоже понять не худо бы.
– Значит, ты ему не простишь? Мстить собираешься? – Агафонов, взявший было телефонную трубку, положил ее на место.
– А он что, Макшеев, живой? – быстро произнес Демидов. – Ты знаешь его?
– Не знал бы, может, и небывалым посчитал все, что случилось с тобой.
– Где ж он живет-поживает?
– Там же и поживает, в Колмогорове. Женатый на этой твоей Марии.
Демидов сидел согнувшись, уперев локти в колени, лицо уронил в ладони, тяжко, с загнанным хрипом дышал. Агафонов не говорил теперь ни слова. Павел знал – он ждет ответа на свой последний вопрос.
– А ты… ты вот простил бы ему, доведись это с тобой? Ты не отомстил бы?
– Я? Простить – не знаю, не простил бы, кажется. А мстить, мараться об него – побрезговал бы. Себе дороже.
– А я себя дорого теперь не ценю! – со злостью выкрикнул Демидов.
Они помолчали, будто каждый размышлял про себя, что же им делать, как разойтись? Наконец Демидов произнес с трудом, не глядя на Агафонова:
– И дети у них… у Макшеевых, имеются?
– Двое, кажется, сын и дочь.
Демидов еще посидел немного и, гремя стулом, тяжело, неуклюже поднялся:
– Ладно… Не встреть я тебя… такого, – кроваво отомстил бы ему. Теперь – не трону. Действием – не трону. А простить, как и ты вот говоришь, – не смогу. Это уж как хочешь.
– Как понять – «действием не трону»?
– Неужели не понятно?
– Чем же тронешь?
– Не знаю. Ничего не знаю. Позвони в лесничество.
Попрощавшись, пошел из кабинета, но вдруг остановился, проговорил:
– Это вот, про стих – хорошо ты. Солнышко светит всем – и зрячим и слепым. Ведь просто, а верно.
– Правильно, Демидов! – обрадованно, с облегчением, как показалось Павлу, произнес Агафонов.
– И еще, должно быть, ты верно сказал: это для меня задача – обнаружить в себе человека. Тут ты корень какой-то глубокий задел.
– Не задача, а ползадачи уже, – улыбнулся Агафонов.
– Нет, обманываешься, – упрямо повторил Демидов. – Что ум рассудит, то еще сердце пронять должно. А это – задача.
6
… И стал работать Демидов лесником близ Колмогорова.
Прав оказался толстый Агафонов. Вечный шум леса, птичьи звоны, говор таежных речушек действовали успокаивающе, душа Демидова отходила. Прав он был, что и людей в лесу много: охотники, рыбаки, ягодницы, грибники… Не было и дня, чтобы он не встретился с кем-то из людей, со многими подружился даже. Таким указывал лучшие ягодные, рыбные и грибные места.
С удивлением он обнаружил, что люди как-то быстро располагались к нему, молодые звали дядя Паша, а кто постарше – Павлом Григорьевичем. И он заметил еще – почему-то всегда доверчиво относились к нему бабы-ягодницы, без опаски шли за ним в самые глухие места, какие бы он ни указывал. Видно, молва шла о нем хорошая, добрая. И то сказать – ни разу ни одним словом, ни намеком не обидел он ни одну женщину.
Не удержался он лишь однажды, когда незнакомая колмогоровская – видно, из приезжих – бабенка Настасья откровенно упрашивающим взглядом заставила его присесть с ней на ласковую, травянистую полянку. Было ей лет под сорок, крепкая и чистая, она и потом прибегала к нему в лес, приходила, таясь и краснея, в его сторожку, ночевала иногда. Она, овдовевшая еще в сорок четвертом, согрела его щедрым женским теплом, пробудила в нем что-то неприятное, тоскующее.
– Вышла бы я за тебя, Павел, – сказала она однажды. – И не было бы счастливей меня бабы… Да не могу, дети отца живого помнят, не примут никогда тебя. Переломается все в душе их…
– Ты, Настасья, хорошая, сердце у тебя золотое, – ответил ей на это Демидов. – Но не обессудь – не взял бы я тебя. И никого никогда не возьму, один буду…
– Это почему, Павел? – спросила она, глядя на него с материнской тревогой. – Я вот давно примечаю – замерзлая у тебя душа будто, захлопнутая какая-то. Что такое у тебя в жизни вышло? Человек ты добрый, ласковый, а вот один. Попиваешь чуть не каждый день… Отчего?
– Не спрашивай об том. Не к чему людям знать… Как там Макшеевы у вас живут?
– Денис с Марией-продавщицей, что ли? А кто их знает… Денис этот – клещ из клещей, должно. А тебе-то почто? – спросила она, ревниво пошевеливая бровями.
– Так… Знавал я их в молодости. Потом… Потом уехать с этих мест надолго пришлось. А это как – из клещей?
– Сосет он, сдается мне, кровь из бабы. Он на фронте был, приехал с костылем, привез две брички всякого барахла – не знаю уж, кто ему надавал его. Подарки, говорит, герою-фронтовику. Дом сразу крепкий поставил. Да и без подарков этих жизнь у них – полная чаша. Продавщица она, Мария, без стыда обвешивает, обсчитывает, обмеривает. И окромя того – без совести ворует.
– Ты откуда знаешь? – с обидой даже спросил Демидов.
– Я что, слепая? Да и люди говорят. Еще когда он на фронт поехал – жену продавщицей поставил. Он, говорят, до войны председателем сельсовета был. От какого-то поджигателя колхоз, что ли, спас, ну его в председатели и поставили.
– Во-он что, – буркнул Демидов. – Как героя.
– Герой, задница с дырой. Сейчас боров боровом, а не работает. Инвалид войны, говорит. Костыль давно бросил. А слух в народе живет – жену с магазину все тянуть заставляет. Даже бьет, говорят, коли за месяц меньше его расчету стащит.
– Так уж и бьет? Так уж и план ей на воровство спускает? – опять с явной обидой промолвил Демидов. – Кто этому свидетель?
– От людской молвы чего утаишь?
– Мало ли о чем болтают…
– Павел! Ты спрашиваешь, я отвечаю, как оно есть. А ты будто обижаешься на мои слова. Что они тебе, Макшеевы?
– Ничего.
Так и не разъяснил он ей ничего, оставил в недоумении.
То, что рассказала ему Настасья, Павел знал и из осторожных расспросов других. Все говорили примерно одно и то же. И ненависть к этому человеку наслаивалась слой за слоем, росла, как снежный ком, катящийся с горы.
Лицом к лицу с Денисом, однако, никогда не встречался, хотя рядом с ним бывал часто. Поедет ли Макшеев за хворостом, пойдет ли ловить рыбу – рыбак он был заядлый, ловил, правда, всегда удочкой, не браконьерничал, – Демидов, научившийся ходить по лесу бесшумно, не один километр прошагает, бывало, за ним следом, не один час просидит в береговых зарослях, наблюдая, как таскает Денис окуней или хариусов. Ловя рыбу, он глох ко всему окружающему, лицо его делалось бессмысленно счастливым, удовлетворенным. Сняв с крючка сильную рыбину, он почти каждую, прежде чем бросить ее в ведро, некоторое время держал в руке. И Павел, глядя на Макшеева, догадывался и понимал, что тому нравится ощущать, как упруго выгибается рыбина, бессильная теперь вырваться из его кулака.
В сердце Демидова в такие минуты толчками долбила кровь, мелькала, затуманивая глаза, страшная мысль: прицелиться из ружья в это взмокшее от животной радости лицо, да и… Но каждый раз в ушах колотились со звоном слова Агафонова: «А мстить, мараться об него – побрезговал бы…»
С Марией Демидов тоже никогда не встречался, водку, к которой, отчетливо сознавая весь ужас этого, пристрастился окончательно, покупал в соседних деревушках. Но однажды, понаблюдав вот так за Макшеевым, не таясь вышел из кустов и, закинув ружье за спину, пошел в Колмогорово. Макшеев, увидев поднявшегося из зарослей бородатого человека, вздрогнул, вскочил на ноги. Узнал или нет Макшеев его, Павел понять не мог, но видел, что тот испугался до смерти, даже челюсть бессильно отвисла.
«Не узнал, где узнать… – думал Павел всю дорогу, вплоть до деревни. – А в штаны наклал, дядя. Не тот, видать, стал ты, Денисий. Ну погоди, погоди… Действием я тебя и в самом деле не трону…»
Демидов направился было к магазину, но на дверях висел замок. Тогда он спросил у кого-то, где живут Макшеевы.
Через порог их дома он переступил, зная, как отомстить Макшееву за изломанную свою жизнь. Переступил и сказал жене Дениса, которая гладила электрическим утюгом белье:
– Здравствуй, Марька. Вот я пришел… Должок твоему мужу отдать.
– Какой должок? – повернула она красивое лицо к Демидову. – Ты кто такой? Чего у Дениса брал?
– Да я ничего. Это он у меня брал. Всю жизнь он у меня взял…
– Погоди, что мелешь? Какую жизнь…
– А какая бывает у человека? Взял – и переломил через колено, как сухой прутик.
И прежде чем замолк его голос, узнала она, кто стоит перед ней, опустила раскаленный утюг на дорогую шелковую рубашку мужа. Вмиг отлила вся кровь с ее лица, глаза сделались круглыми, закричала она беззвучно от боли. А голосом, глухим и осипшим, произнесла:
– Павел!..
Отмахнулась дверь, вбежал Денис Макшеев – он, видимо, шел, обеспокоенный до края, следом за Демидовым. Вбежал, глянул с порога на Павла, челюсть его опять отвалилась и теперь затряслась. Заблестели в темном рту металлические зубы, Мария отшатнулась к мужу, и оба они раздавленно прижались у стены.
– Это он, он… Павел Демидов! – выдохнула Мария. – Откуда ты?!
– Я вижу, вижу… – как ребенок проговорил Макшеев. Глаза его трусливо бегали, не зная, на чем остановиться.
– С того света, – усмехнулся Демидов.
– Я говорила – он придет, придет…
Запахло паленым. Демидов, не снимая ружья с плеча, подошел к столу, поднял утюг.
– Какую рубаху спортили, – сказал он ровно, без сожаления. Потом сел тут же, у стола, на табурет, поставил ружье между ног.
– Ну, слушай, Мария, чего он у меня взял, какой долг я должен заплатить ему. Я все расскажу, а ты, Мария, запоминай.
И он долго рассказывал им, не торопясь, без злости в голосе, все-все, как рассказывал не так давно Агафонову. Рассказывал, будто о ком-то постороннем, а они слушали, все так же прижавшись друг к другу, не шелохнувшись, не в силах прервать его. Лицо Макшеева только мокло все обильнее, с него капало.
– Ну а остаток жизни мне ни к чему теперь, не дорожу я им, – стал заканчивать Демидов. – Но уйду я в могилу чуть попозже тебя, Денисий. То есть прежде расплату с тобой произведу по чести. Я мог бы сотню раз уж произвести ее. Давненько уж этак – ты по лесу идешь или едешь, а я следом, незамеченный, за тобой, скрадываю тебя, как зверя. Сегодня, к примеру, с самой зари наблюдал твое рыболовство. Или сейчас вот – кто мне помешает расплату сделать? Патрон для тебя давно тут приготовлен, – Демидов похлопал по ружью. – Но… охота мне, дядя, поглядеть, как ты к смерти готовиться будешь. Так что – давай. Бить я тебя перед этим, как ты меня, не буду. Пристрелю просто, как только где… в лесу ли, в поле ли, попадешься мне в ловком месте.
И встал, пошел к порогу.
– Врешь… не посмеешь! – скрипуче выдавил из себя Макшеев, стирая ладонью пот со щек.
– Ну, я сказал, а ты слышал, – произнес Демидов спокойно, зная, что Макшеев помнит свои слова. – Судьбу свою ты добровольно выбрал.
И, не глядя больше на них, вышел.
7
И началась у него с Денисом Макшеевым жизнь, как игра в кошки-мышки. Макшеев Денис поверил всем его словам до единого, перетрусил до края, рыбалки прекратил, во всяком случае, в одиночку рыбачить теперь никогда не ходил, держался все время на виду у людей. Демидов в неделю раз заворачивал в магазин Марии за водкой, за всякой снедью и, если в магазине никого не было, спрашивал:
– Как он там, Денисий наш с тобой? Еще жива душа в теле?
Сперва Мария молча отпускала ему товар, брезгливо бросала на прилавок бутылки, сохраняя на красивом лице оскорбленную гордость. Потом начала пошмыгивать носом, беззвучно плакать. А однажды истерично разрыдалась:
– Изверг ты, паразит! Закрыл ты нам все небо!
– Почему – вам? Ему только. Тебя вот, детей твоих я не трону. Пущай растут.
– Да ведь это, ежели обсказать кому, пожаловаться властям-то, чем ты ему грозишь?!
– А что ж не жалуется? Я разве запрещаю? Пущай идет куда надо, все обсказывает – за что я его хочу, почему… Да и ходить не надо, с участковым милиционером, гляжу, подружился, на рыбалку вместе похаживают. Пусть ему и обскажет все, признается, кто колхозную ригу сжег тогда…
– Как я ненавижу тебя! Как ты встрял поперек моего пути, душегуб проклятый!
– Эвон что! А я так тебя жалею.
– Что-о? – заморгала она мокрыми ресницами.
– А только не убережет его никакой милиционер, так и передай своему Денисию, – ожесточась, пообещал Демидов.
Вскоре Макшеевы быстренько собрались, продали дом и уехали, держа свой маршрут в тайне. Демидов усмехнулся, пошел к железнодорожному кассиру, тоже рыбаку, с которым познакомился в тайге. Тот, ничего не подозревая, сообщил, что взяли Макшеевы билеты, сдали багаж до одной маленькой станции на берегу Байкала. Демидов уволился с работы, попрощался с плачущей Настасьей, поехал следом. Там поступил опять в лесники, со стороны наблюдал, как устраивались на новом месте Макшесвы. Купили они хороший дом. Мария, как и прежде, стала работать в магазине.
И однажды ранним утром, подождав, пока Макшеев наладит и закинет в озеро удочку, вышел к нему на берег, не снимая с плеча ружья.
– На новоселье, что ль, решил рыбки подловить? Пригласишь и меня, может?
Словно током стегануло Макшеева, вскочил он, сделал шаг назад по обломку скалы, чуть не упал в холодную байкальскую воду. Лицо его было зеленым, под цвет этой воды.
– Не бойся, сейчас не трону, людно тут. Эвон рыбаки на баркасах плывут на промысел.
И повернулся, ушел в тайгу, которая начиналась прямо от берега, оставив ошеломленного, забывшего про свои удочки Дениса на обломке скалы.
… И еще раза два-три меняли местожительство Макшеевы, надеясь скрыться от Демидова. Но он был теперь начеку, следил за каждым их действием, заранее знал их конечный путь. И объявлялся там, едва они как-то устраивались.
Доведенный до отчаяния, Макшеев как-то, пьяный, выкрикнул в лицо Демидову:
– Отравлю, отравлю я тебя, паразита! Заставлю Марию в водку… или в продукт какой мышьяку подсыпать! Сдохнешь, как крыса…
На это Демидов расхохотался прямо ему в лицо и сказал:
– Вот бы хорошо-то! И рук бы я об тебя не замарал, и в тюрьму с Марькой вместе вы бы до конца жизни угодили. Давай… Мне-то жизнь моя и так ненужная, а ты спробуешь, что оно такое тюрьма. Узнаешь, каково оно мне было, об своем поганом нутре поразмышляешь. Время для этого там хватит тебе…
Иногда Демидов думал: неужели Макшеев не догадывается, что он, Демидов, ничего ему не сделает, пальцем даже не тронет, что все его угрозы – пустые звуки? И отвечал себе: видно, не догадывается, дурак. И пусть…
Думал также иногда: а не жестоко ли он наказывает Макшеева? Ну – сделал тот нечеловеческую подлость. Что ж, бог, как говорится, пущай простит ему. Худо ли, бедно ли, жизнь его, Демидова, как-то теперь идет. Девчушку удочерил вот, растет она, приносит ему много забот да еще больше радостей. Теперь и жениться бы, да где найдешь такую, как Настасья. Пить бросить бы, да разве бросишь…
И обливалось сердце Демидова едкой обидой, опьяняла его эта обида пуще водки: нет уж, пущай, мразь такая, и он до конца чашу свою выпьет!
Но все же, наверное, давным-давно отстал бы Демидов от Макшеева Дениса – отходчив русский человек, какую-какую обиду только не простит, – если бы не убеждался время от времени, что душа Дениса еще подлее становится. Нет, угрозы насчет мышьяка Павел не опасался, потому что понимал – Макшеев на это никогда не решится, подлость его – особого рода…
Как-то Мария, выдавая Демидову очередную партию зелья, сказала:
– Зайди к нам, Павел… Денис просил позвать. Поговорить хочет с тобой по-деловому.
– Как, как?
– По-деловому, сказал он.
– Интересно это, однако. Айда.
Денис встретил его, сидя за столом в рубахе-косоворотке. Руки его лежали на столе, пальцы беспрерывно сплетались и расплетались, глаза виляли из стороны в сторону.
– Интересно даже мне, говорю. Ну!
– Выйди, Мария. Дверь припри, – приказал Макшеев. – Значит, вот что, Демидов, давай по мужски. Мне от тебя терпежу больше нету, и я решился…
– На что?
– Не перебивай… – Он опять повилял глазами, не попадая ими на Демидова. – Ты ж понимаешь – я пойду и заявлю: преследуешь ты меня… Угрозы теперь делаешь всякие за то, что разоблачил тебя тогда как поджигателя. И мне, а не тебе поверят.
– А мне это без внимания, что поверят, – усмехнулся Демидов. – Я свое отсидел, и пока с тобой не поквитался – никто больше меня не посадит, заявляй не заявляй…
– Ты погоди…
– А славу себе создашь у людей… Они, люди-то, не знают твоего черного дела, так узнают.
– Погоди, говорю… – Голос его был торопливый и заискивающий. – Давай, чтоб с выгодой и для тебя и для меня.
Сузив глаза, Демидов пристально глядел некоторое время на Макшеева. Спросил:
– Это – как же?
– Что было меж нами – прости… Покаялся уж я бессчетно раз. Да что ж – не воротишь. Теперь девчушку вот ты взял, растишь…
– Говори прямо, сука! Без обходов.
Макшеев будто не слышал обидного слова.
– Возьми от меня деньги, Павел. Много дам… – Макшеев дышал торопливо и шумно. – Вот, если прямо… Оставь только нас с Марией.
– Так… Сколько же?
– Целую тысячу дам. Дочку тебе растить… Еще больше дам!
– Краденых? Марией наворованных?
– Ты! – Макшеев вскочил, чуть не опрокинув стол. Грудь его ходуном ходила. – Тебе что за забота, какие они?!
Демидов шагнул было к Макшееву, тот откачнулся.
– Дешево, выродок ты человеческий, откупиться хочешь, – раздельно произнес Демидов и ударил ладонью в дверь, выбежал, будто в комнате ему не хватало воздуха.
В сенях он услышал рыданье Марии, промедлил шаг. «Как ты только живешь с ним с таким?» – хотел сказать он, но не сказал. Шаг примедлил, но не остановился.
В другой раз случилось еще более страшное. Былоэто в причулымской тайге в конце мая или в начале июня – в ту пору уж замолкли соловьи, но кукушки еще продолжали, кажется, кричать тоскливо и безнадежно.
Примерно в полдень, когда лес был пронизан тугими солнечными струями и залит хмельным от млеющих трав жаром, у сторожки Демидова появилась вдруг Мария с плетеной корзинкой в руках.
– Ты? – удивленно спросил Павел.
– Вот… грибов поискать.
– Какие пока грибы?
– Масленки пошли уж, сказывают. Места тут незнакомые мне еще, укажешь, может?
Мария говорила это, поглядывая на возившуюся со щенком приемную дочь Павла Надежду, и лицо ее то бралось тяжелой краской, то бледнело, покрывалось серыми, неприятными пятнами.
Одета она была не по-грибному легко и опрятно, в новую, голубого шелка кофточку с дорогим кружевным воротником, в сильно расклешенную, не мятую еще юбку. Вырез у кофточки был глубокий, оттуда буграми выпирали, как тесто из квашни, рыхлые белые груди, умело прикрытые концами прозрачного шарфика, накинутого на плечи.
– Ты как невеста, – сдержанно усмехнулся Демидов, запирая в себе ярость.
– Что ж… я пришла, – проговорила она, не глядя на него. – Веди… на грибное место.
– Что ж… пойдем, – в тон ей ответил Демидов. – Ружье сейчас возьму вот.
Догадка, зачем явилась Мария, мелькнула у него сразу же, едва он увидел ее, подходящую к сторожке. Мелькнула, сваривая все внутри: «Неужели и на этакое она… они, Макшеевы, способны?!» Теперь, после ее слов, всякие сомнения на этот счет исчезли…
Полтора года назад приехали сюда, в причулымье, Макшеевы. Следом, как обычно, явился и Демидов.
– Я тебе давал деньги большие? Давал? – закричал обессиленный вконец от такого неотступного преследования Макшеев, встретив Демидова в поселке.
– Давал, давал, – согласился Павел.
– Что ж тебе еще-то надо? Скажи, сволочь ты такая, что? Какую плату заплатить, чтоб отстал? Дом мы тут купили крестовый, просторный – возьми со всем, что в нем есть. Получай его в придачу к тем деньгам, что обещал, и живи…
Демидов принял дозу спиртного, ставшую давным-давно привычной для него, был добродушен, в хорошем настроении. Бессильная ярость Макшеева веселила его.
– А что ж, надо прикинуть. Значит, те деньги да дом… – проговорил он задумчиво.
– Ну? Бери, бери!
– Н-нст, мало. Еще должок с Марии остается.
– Какой? – осипшим голосом спросил Макшеев.
– Ишь ты! С чьей кровати ты увел-то ее?
– Н-ну?
– Пущай и она расплатится со мной, – жестко сказал Демидов и пошел прочь, оставив Макшеева столбом стоять посреди пустой улицы.
Демидов сказал и забыл, сказал просто так, чтобы еще больше позлить врага своего. Что ему дом, деньги и все прочие блага мира! Простил бы он своего обидчика и так, если б мог. Да не может…
А Денис Макшеев, видно, принял его слова за чистую монету, и вот – решились они, Макшеевы, вот явилась к нему Мария, не понимая, не догадываясь, что не прощение принесет из тайги своему Денису, а еще большую его, Павла Демидова, ненависть. Вот идет Мария чуть впереди, в общем ладная, пышнотелая женщина, мелькают ее крепкие, в тонких дорогих чулках ноги, не подозревая, что внутри у Павла все немеет и немеет, будто стылью берется, что хочется ему схватить палку, сук какой-нибудь и обломать его об это бесстыжее, раскормленное тело.
Что ж, так оно примерно все и произойдет, решил про себя Демидов. Но перед тем хочется ему еще кое-что спросить у Марии, узнать хочется, до какого предела может быть человеческая низость.
– Нету еще грибов, Мария, – сказал он, останавливаясь на глухой поляне, полыхающей таежными цветами. – Поздно нынче пойдут грибы, и мало их будет. В первый день масленицы снегу не было, не шел снег, значит, и не грибное нынче лето будет.
Он сел в траву, поставив ружье под дерево. Мария опустилась на корточки, начала рыться в корзинке, вынула и поставила на траву бутылку.
– Раздевайся! – бросил он ей отрывисто.
Она вздрогнула, медленно, с трудом, выпрямилась, руки ее упали вдоль тела.
– Павел… – Лицо ее опять пошло пятнами, вспухло, будто его наели комары. – Может… выпьешь сперва?
– Стыдно, что ль, на трезвые глаза? Сымай, сказал, все с себя.
Она еще раз вздрогнула, стащила с головы шарфик.
Демидов сидел, опустив голову, он не видел, но чувствовал, как она с трудом расстегнула и стащила кофточку, сбросила юбку, оставшись в нижней рубашке.
– И это… сымай. Тут никого нету.
И тогда она упала перед ним на колени, заплакала, подвывая:
– Совсем не могу… Пожалей, Павел! Пожалей…
Ему в самом деле стало жалко ее. Возникли вдруг, поднимаясь откуда-то изнутри, злость и презрение к самому себе за то, что он заставил ее раздеваться.
– Вот что скажи, Мария… Объясни, как это вы договорились до этого? Словами ведь, поди, разговаривали? Днем али ночью это было? Как… как решилась ты?!
– Как, как?! – Полное тело ее все тряслось, волосы рассыпались, щеки, губы расквасились от слез. – Он меня поедом съел: не убудет от тебя, он, может, отстанет тогда от нас…
– А ты?
– Что я?
– В самом деле не противно тебе?
Она замолчала, молчком вытирала слезы.
– Не знаю… Когда-то я любила тебя. Иногда думаю: счастливая ведь я была бы с тобой, кабы не он.
– Что ж не уйдешь от него?
– Не уйдешь… А куда? К кому? Ты разве принял бы меня теперь?
В голосе ее было что-то такое неподдельное, какие-то тоскливые нотки.
Ему еще более стало жаль Марию.
– А вот, допустим, принял бы. Ты видишь – я не женюсь. А почему?
– Павел? – Глаза ее, мокрые, широко раскрытые, сгорали от изумления. – Неужто… Неужто еще ты меня… еще осталось что у тебя ко мне?
– Нет, ничего не осталось, – ответил он. – Все спалила тюрьма, плен потом.
– За плен-то Денис не виноват. И без того на фронт тебя взяли бы, а там могли тебя захватить…
– Ишь ты, хоть где-то, да оправдываешь его? Как все вывела!
Мария испугалась этих слов, сказанных сурово и враждебно, горячими ладонями схватила его руку, но тут же выпустила, чуть отшатнулась, проговорила:
– Я не оправдываю! Я не оправдываю…
– Вот езжу опять же за вами, таскаюсь, как хвост.
– Так это известно – зачем, почему.
– Известно. – Он скривил губы. – Ничего тебе не известно.
Прилетела тяжелая от взятка пчела, повилась вокруг полураздетой Марии, села зачем-то на ее оголенное плечо. Мария даже не заметила этого. Она все так же изумленно, широко раскрытыми глазами смотрела на Павла, открытый лоб ее бороздили временами набегавшие морщины.
– Нет, я не смогла бы с тобой.
– Почему? Противный шибко стал? Не противней вроде твоего Денисия.
– Не в том дело. С лица воду не пить.
– Почему ж тогда?
– Ты ж, я чую, запретил бы мне… работать в торговле.
– А зачем? – усмехнулся он. – Работа для людей нужная.
– Ну – не позволил бы… этого… ничего такого.
– Воровать? – подсказал ей Демидов.
– Фу, какое слово!
– Обыкновенное. Воровка ведь ты.
– Ты?! – Она тяжело и гневно задышала. – Ты так понимаешь жизнь, а я – этак. Жить надо умеючи, как… как…
Она совсем задохнулась, и Демидов опять подсказал ей:
– Как Денисий научил тебя?
– Да, научил! – истерично выкрикнула она. – Он, Денис, не в облаках летает, на грешной земле живет. Он – цепкий, не проворонит, что мимо рта пролетает… Он такой, я это еще тогда почувствовала, когда женихались мы с тобой. Он человек жесткий, да… Рука у него тяжелая, да – мужик! Он на что угодно пойдет, лишь бы место половчее… потеплее под солнышком отвоевать. А ты – что такое? Всю жизнь так в тайге и проживешь. Если бы принял ты меня, говоришь? А жить на что бы стали? На твою лесниковую зарплату? Смех один, а не деньги. По миру пойти – больше собрать можно за день…
Она говорила еще долго, он слушал, покачивая иногда головой, будто соглашался. Потом взял ружье и зачем-го отстегнул от него широкий, тяжелый, залоснившийся от грязи и от пота ремень.
– Ты что? – сразу спросила она, умолкнув на полуслове. Брови ее изогнулись и поползли кверху, обещая вот-вот разломиться.
– Он и на это, значит, пошел, чтоб спокойствие на земле обеспечить себе?
– Да, и на это! – будто даже гордясь, выкрикнула она. – И я, по рассуждению, поняла – а что ему остается, коли никак иначе не избавиться от тебя? Не травить же, в самом деле, мышьяком. Была нужда в тюрьме за тебя гнить. Животина ты противная! Исподнюю-то рубаху скидывать, что ли?
Глаза ее горели теперь каким-то бешенством, неуемной злобой.
– Исподню не надо, – сказал он и, не вставая, вытянул ее ремнем по плечу.
– Пав… Пашка! – воскликнула она, вскакивая.
– Исподню не надо! – Он тоже поднялся, пошел к ней грузно. Она, закрывая голыми руками лицо, отступала. – Исподню не надо, не надо…
Каждое слово будто прибавляло ему ярости, с каждым словом он хлестал ее все сильнее и безжалостнее – по этим оголенным рукам, по плечам, боясь выхлестнуть ей глаза и все-таки стараясь ударить по лицу.
– Не надо… Не надо! Береги глаза-то, дура!
Наконец она то ли поняла, то ли просто запнулась и упала в траву вниз лицом, прикрыв руками растрепанную голову. Демидов, не уставая, все махал и махал ремнем, уже ничего не приговаривая, крепко стиснув зубы. Легкая нижняя рубашка была давно располосована, на белом жирном теле обозначились синие полосы…
Он прекратил ее хлестать, когда она перестала вздрагивать под ударами.
Бросив в траву ремень, взял под мышку ружье.
– Животное-то не я, а ты! Да еще пуще, видно, твой Денисий. Убирайтесь отседова, чтоб духу вашего я не слышал тут… А я тут человека буду в себе обнаруживать, как мне когда-то один умный человек посоветовал.
И, не заботясь о том, что она не понимает его слов, может быть, даже не слышит их, ушел.
Под осень Макшеевы собрались и ухали на Обь, в село Дубровино. Три года прожил в причулымской тайге Демидов, убеждая себя, что он обнаружил в себе человека и, значит, отстал теперь от Макшеевых навсегда. Но убедить не мог и однажды по весне перевелся в Дубровинское лесничество, что на великой и тихой реке Оби.







