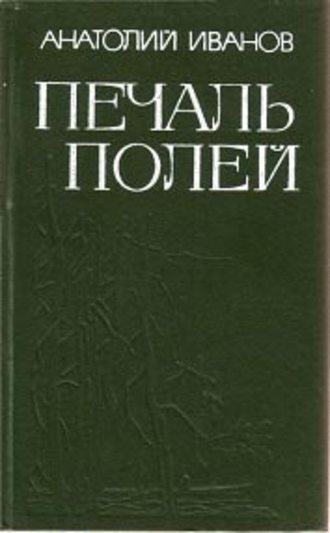
Анатолий Иванов
Печаль полей (Повести)
– Да провались ты со своим Пашенькой! – совсем вышла из себя Софья. – Что ты пугаешь им… этим… Как его и назвать-то только?! Похуже всякого палача он! Детишек малых спалил, не пожалел! А чем они виноватые были? Он, Михаил-то, правильно – деды да отцы враждовали, а мы при чем?
– Ополоумела! Умом сошла… – простонала старуха. – Ты рассуди-ка!
– А тем более дети неразумные те?! Ну, ответь мне, скажи! – наступала на нее Софья.
– Озверела, озверела…
– Мало тюрьмы-то твоему Пашеньке. Его тоже бы из ружья…
– Рехнулась ты-ы! Уймися, замолчи…
– Не замолчу! Мишка этот и не нужен мне… может. А не замолчу.
Израсходовав все силы, старуха, припав на костыль, стояла посреди комнаты, беззвучно уже открывала и закрывала беззубый рот, дышала часто и сипло, будто выталкивала воздух сквозь прохудившуюся грудь.
– И не лезь мне больше в душу со своими… Чего хочу, то и буду делать, – сказала Софья, повернулась к висевшему на стене шкафчику, достала оттуда чашку с блюдцем, хлеб, масло, варенье. – Садись ужинать.
Однако старуха двинулась не к столу, а к печке. Она вскарабкалась на нее с трудом, но помощи у внучки, как бывало всегда, не попросила, села там спиной в угол и оттуда, из полутьмы, поглаживая прыгнувшую ей на колени кошку, стала глядеть куда-то в пустоту, мимо Софьи, будто ее в доме и не было.
* * *
До самой своей кончины большую часть времени она теперь так вот, сидя в углу на печи, и проводила. На коленях у нее постоянно лежала кошка, от ласки и тепла сонно мурлыкала, поблескивая из полутьмы зелеными огоньками. Иногда глаза и самой старухи вспыхивали странным желтоватым светом, и Софья часто не могла различить, кто это смотрит на нее сверху, из тьмы – кошка или бабка Федотья.
Поняла ли старуха, что власть ее над внучкой кончилась, или иссякли ее, питавшиеся ненавистью к людям последние силы, но за Софьей она больше не следила, в ее отношения с миром не вмешивалась. Она с внучкой теперь и не разговаривала почти, поест безразлично, что та приготовит, молча даст себя обиходить, сводить в баню, которую Софья топила для нее по субботам, – и опять на печь, сидит там безмолвно, иногда вздохнет, забормочет что-то.
Сквозь эти вздохи и бормотанье у нее явственно кое-когда вдруг прорывалось:
– Пашенька, сердечный… Не дождуся родимого, некому и глаза мои будет закрыть.
– Меня-то уж и за человека ты не считаешь, что ли? – сказала ей на это однажды Софья.
– А ты что? А ты кто? – ответила ей Федотья, проявив вдруг и прежнюю ясность ума и характер. – Кто прост – у того сто ангелов в душе. Смирная на тебе одежа, да нет на тебя надежи. У-у, лукавая, знаю! А кто лукавит, того черт мохнатой-то лапой и придавит. Мишка-то Афанасьев.
– Постыдилась бы ты, бабушка? Что ты все мне Мишкой…
– Знаю ужо. По глазам твоим бесстыжим все вижу.
– Да что ты в них видеть можешь?! – вскипела Софья. – Ничего в них нет! Нет!
Это Софья так думала, что ничего нет в ее глазах. Михаила она избегала, как и прежде, а коль где сталкивалась, сердито расправляла длинные свои брови – не вздумай, мол, снова разговоры зачинать.
Однажды мать спросила у нее осторожно:
– Долго так мучиться-то будешь? И Михаила мучить.
– Кто? О чем ты? – Сразу почужевшая, Софья отступила на шаг.
– О чем… Гусиха вон сунет голову под крыло, да и думает, что ее не видно.
– Мама! – вскричала Софья, упала ей на плечо. – Мама… Бьюся я, как рыбина на берегу. До воды не добраться, а тут дышать нечем.
– Да что ж не добраться-то? – негромко спросила мать.
– А то и не добраться… Как подумаешь да вспомнишь все – отец, пожар… А бабушка Федотья все бубнит, бубнит.
Разговор случился этот поздним вечером, Лидия отошла от дочери, стала разбирать свою кровать. Она сняла только одеяло, повернулась, села на кровать, одеяло положила себе на колени и долго глядела куда-то в сторону. Наконец, вздохнув, негромко проговорила:
– Федотья… Не знаю, как и сказать-то тебе, доченька. Иголка вот служит, пока ушко не сломалось, а человек-то жив, пока душа в нем не погибла. А у Федотьи души человечьей никогда и не было. И сыну… отцу твоему, она сердце дала… будто шерстью обросшее. И скажу я тебе, доченька… На чужой-то слух это будет грех да кощунство великое, а ты пойми – тем выстрелом Мишка Афанасьев божий свет мне открыл.
Софья слушала эти неторопливые слова притихшая, будто испуганная, в больших глазах ее было мучительное раздумье.
– А раз мне, так и, наверное… тебе, – еще тише произнесла Лидия, по-прежнему не глядя на дочь.
В измученных глазах Софьи что-то дрогнуло, зашевелилась, заплескалась в них тоскливая, невыносимая боль.
– Ну а сестра его… Катерина-то Даниловна, как ко мне, если…
Больше слов у Софьи не хватило.
– Да что ж Катерина… Она еще и меня утешает – погоди, мол, Лидия, как солнышко теплом нагреет, так все и поспеет.
– Неужто… так она? Согласится?! – недоверчиво воскликнула девушка.
– Глупая… – вздохнула Лидия. – Ну как есть ты несмышленая еще. Катерина столько всего нахлебалась, что лучше нас с тобой понимает что почем.
Но и после этого разговора Софья не могла переломить себя, и в ее отношениях с Михаилом было все по-прежнему. Завидя его где-нибудь, она тут же меняла путь, уходила, не оборачиваясь. А он никаких попыток догнать ее или остановить не предпринимал.
* * *
Скоро горит огонь, да быстро течет вода, а время для Софьи тянулось теперь медленно, медленно. Как и раньше, она обмывала да обстирывала свою бабку, частенько оставалась у нее ночевать.
– Давай-ка лучше уж я буду теперь ходить за Федотьей-то, – сказала как-то под осень Лидия. – Сожму уж свое сердце… а то она тебя, как Пашку, совсем в крючок согнет.
– Да ладно тебе! – раздраженно воскликнула Софья. Потом добавила поспокойнее: – Не согнет. А тебя она может… и поленом ударить. Или кипятком плеснуть.
– Да она уж может, – усмехнулась Лидия. – О чем хоть вы говорите-то там?
Теперь усмехнулась Софья.
– Сказать, так не поверишь. Ни о чем мы не говорим.
– Как так?
– Да так. Она молчит, и я довольна.
Действительно, они почти ни о чем не говорили, даже на приветствия каждый день появлявшейся Софьи старуха отвечала нехотя и не каждый раз.
Из дома Федотья еще иногда выползала, если были теплые дни, садилась где-нибудь на припеке, жадно вдыхала свежий воздух, равнодушно оглядывала видимый ей кусок деревни и останавливала тусклый взгляд на поблескивающей под солнцем щебенистой дороге, спускающейся с холмов, точно ждала, не идет ли, не спускается ли по ней внук ее Пашенька.
Осень и всю зиму опять сидела на печи, опять вздыхала да бормотала, высохшими руками гладила свою кошку, на приветствия она теперь и вовсе перестала отвечать. Софья к этому привыкла, принимала все как должное, лишь однажды ближе к весне спросила:
– Что это ты, бабушка, никогда не поздороваешься даже?
– А чего там в колхозишке-то? – вместо ответа спросила вдруг Федотья.
– Живем, что же… К Березовскому колхозу нас хотят вот присоединить. Не колхоз теперь у нас будет, а бригада. А то маломощные вы, говорят, трудно вам.
– Вон чего… Бригада, пожить бы, да не надо. Степка-то, каторжник, грю, Тихомилов-то, чего?
– Что это он каторжник? Хороший он дядька, работает…
– От непонятливая… Да я спрашиваю, с пузом, нет Марунька-то счетоводиха?
– А-а… Ждут ребенка.
– Ага, – качнула головой старуха. – А тебе-то когда Мишка приладит?
Софья вся полыхнула гневом, выпрямилась и, тугая, как стрела, шагнула к старухе:
– Ну вот что! Захочу, так и приладит! Тебя-то уж не спрошусь…
И с плачем выскочила прочь.
Через минуту буквально она, расстегнутая, в опавшем на плечи полушалке, ворвалась в новый дом Михаила, куда он вселился еще по осени, со стоном упала в его сильные руки, забилась:
– Не могу больше терпеть от нее! И мучиться не могу больше… Сил нету, Миша, Миша!
– Да что случилось, Сонь?! – воскликнул он тревожно, – Соня, Соня?
– А назло ей… пришла! – в беспамятстве прокричала она. – Назло! И не уйду больше отсюда.
Михаил все понял, прижал девушку к себе и, вдыхая запах ее волос, проговорил печально:
– Я знал, что ты придешь. Только… Назло-то если, так я не хочу, Соня. Не хочу я так.
Потом он осторожно стал отстранять ее от себя.
– Ты успокойся. Успокоиться тебе, Соня, надо. Ну, ступай домой и успокойся…
– Ага, надо, Миша, – кивнула девушка согласно и обессиленно, не глядя на него. Затем подняла огромные, заполненные слезами глаза, в них зажегся какой-то упрямый и жгучий свет, и она произнесла примерно те же самые слова, которые год назад сказал ей Михаил: – Пойду… Только завтра вечером я опять приду к тебе. Нам обо всем, обо всем поговорить надо. Ты… будешь ждать?
– Да как же не буду?! Как же не буду?! – воскликнул он дважды.
Она улыбнулась и вышла.
* * *
Замужество Софьи бабка Федотья еще перенесла, только свалилась замертво в своей пустой избе. На печку она взобраться не могла, всю ночь лежала с открытыми глазами на кровати, слушала доносящиеся из нового дома Михаила Афанасьева песни, глядела в темноту, по дряблым щекам ее скатывались горькие редкие капли.
На другой день Софья прибежала к ней, как обычно, в урочное время, только была она от счастья бледная, измученная и счастливая.
– Анафема… Проклинаю! – дернулась старуха на постели, схватила стоящий у кровати костыль, прижавшись спиной к стене, выставила его в сторону Софьи, как пику. – Не подходи-и… Пар у тебя ядовитый из рота пыхает.
– Да пойми ты, бабушка…
– Руки у тебя поганые… Не прикасайся ими ни к чему!
– Тогда как же теперь… Кто ухаживать за тобой будет? – растерянно спросила Софья.
– А так помру, без уходу вашего. Сгинь, чтоб духу твоего… Дышать мне при тебе тяжко.
– Ну вот что! – решительно вдруг сказала Софья, шагнула к ней, отняла костыль. – Помрешь, так и землю освободишь. А покуда живая, мучиться с тобой придется. Вставай, я вон еды тебе принесла. Умывайся иди, а я постель приберу.
Софья давно приметила, что резкие слова и решительные действия как-то утихомиривали упрямую старуху, сразу обессиливали и заставляли повиноваться. Лишь ввалившиеся глаза ее при этом все продолжали гореть прежней неукротимой ненавистью.
Вот и теперь, царапая Софью колючими зрачками, она сползла с ее помощью с кровати, побрела к стоявшему в углу умывальнику.
В термосе Софья принесла горячий чай, налила ей, нарезала хлеба, поставила сахарницу, масло.
– Пей давай.
Федотья пошвыркала из чашки, отодвинула ее и стала уныло глядеть куда-то в угол, потом неожиданно заплакала, завыла, как побитый щенок.
– Пашеньку не дождуся вот, того только и жалко мне. Ну да, может, господь пособит, недолго уже осталося…
– Ой, да письмо же от него тебе, бабушка, пришло! – воскликнула Софья.
– Где? – тотчас вскинула старуха иссохшую голову.
– На той неделе мне в конторе еще его… чтоб тебе передать. А я в суматохе этой… А сегодня вспомнила. – И Софья вынула из карманчика юбки конверт.
– Давай сюда! Давай сюда, – торопливо поднялась старуха.
Павел Пилюгин из мест осуждения писал редко и только Федотье, последнее письмо от него было года два назад. И вот теперь пришел от него следующий конверт, старуха мяла его кривыми пальцами, переворачивала, даже понюхала несколько раз.
– От Пашеньки… внучоночка моего. Господи, очки-то где, Сонька? Очки-то! Али сама мне прочитай.
Она протянула ей конверт. Софья вскрыла его, вынула листок из ученической тетради, исписанный крупно фиолетовыми чернилами.
– «Здравствуй, бабушка…» – начала Софья.
– Ну, ну! – нетерпеливо воскликнула старуха.
– «Решил вот написать тебе еще одно письмо, последнее теперь, чтоб высказать все. А там, собравшись с духом, буду писать матери, прощенья у нее за все просить. Недавно только в разум-то я, дубина стоеросовая, вошел, да и понял, что ты ведь это мне, парнишке несмышленому, всю жизнь поломала…»
– Что? Чего-чего?! – качнулась Федотья и, чтобы не упасть, схватилась за край стола.
– Поломала… тут написано, – проговорила Софья, сама растерянная и удивленная, и тут же стала читать дальше: – «Ты, бабушка Федотья, злобой своей невинных детей погубить меня подбила, волком средь людей сделала…»
– Врешь… врешь ты-ы! – страшно захрипела Федотья. – Очки, грю, дай мне.
Софья открыла шкафчик, нашарила очки, протянула Федотье. Трясущимися руками она надела их, вырвала у Софьи листок.
С минуту она примерно глядела в него, читала что-то, медленно шевеля сухими, в крупных морщинах, как в глубоких трещинах, губами. Руки ее все тряслись, лицо все больше и больше серело, будто на виду покрывалось земляной пылью.
– Господи, да неужели очнулся Пашка?! – проговорила Софья, до которой, может быть, только сейчас и начал доходить смысл прочитанных ею слов. – Мама ведь заново возродится!
А Федотья, выронив письмо, подняла трясущиеся руки, зажала ладонями уши, будто в них колотился больной, разбивающий голову звон. Потом опала, рухнула на стул и со стула повалилась на пол.
– Бабушка! – Софья подхватила старуху, кое-как подтащила к кровати. – Бабушка, сейчас я тебе попить чего-нибудь… Капель сердечных…
Через неделю, так больше не сойдя с этой кровати и ни одного слова больше не промолвив, Федотья Пилюгина померла…
* * *
… Каждый день вставало над землей солнце, поднималось в бескрайнее небо, щедро освещало и крохотные деревеньки, и огромные каменные города. Освещало оно и печальные погосты вокруг бесчисленных селений, где люди находили свой последний и вечный приют, где навсегда утихомиривались человеческие страсти.
Всю жизнь Пилюгины враждовали с людьми, не останавливаясь ни перед огнем, ни перед кровью, а теперь накрытые двухметровым слоем холодной земли лежали неподалеку от тех, кого люто и смертельно ненавидели. Могилы Сасония и сына его Артемия давно сровнялись с землей, заросли едкой полынью, со времени смерти Федотьи никто их не приводил в порядок. Потихоньку проваливался и холмик над Федотьей. Поначалу Софья, сердобольная душа, тайком вырывала над местом ее захоронения сорную траву, а потом могила тоже стала приходить в запустение, исчезать.
Романовское кладбище было когда-то голым и оттого еще более печальным. Но Кузьма Тихомилов, отец Степана, велел перед своей смертью обсадить его тополями. Сейчас деревья были большими, в их ветвях каждую весну гнездились птицы, выводили многочисленное и громкоголосое потомство. А когда умолкали птичьи голоса, деревья все равно шумели о вечной и нескончаемой под щедрым солнцем жизни.
1979
Печаль полей
Похоронка на отца пришла как раз в тот день, когда Алешке Платонову исполнилось пятнадцать лет. Мать, распечатав конверт, охнула, бледными губами похватала, задыхаясь, воздух и рухнула на только что вымытый пол.
Потом мать отпаивали какие-то женщины, давали ей что-то нюхать. Алешка вышел из дома, побрел вдоль улицы. Она была самой крайней в их городе, дома скоро кончились, начались поля, березовые перелески. Алешка забрел в одну из таких рощиц и сел в траву, прислонившись спиной к дереву.
И только здесь заплакал, заскулил, тихонько подвывая. Он не хотел плакать, хотел перенести горе молча, для этого и ушел из города. Но сердце давило, оно словно истекало кровью, в животе была холодная пустота, и плач нельзя было сдержать, он рвался сам собой сквозь стиснутые зубы.
Здесь его и нашел Борька Чехлов. Он неслышно подошел сзади, постоял и тихонько сказал:
– Слышь, Алеха… Не надо, а?
Алешка плакал, но слез не было. А тут, после этих Борькиных слов, они вдруг хлынули – обильные и горячие.
– Иди ты! – зло крикнул Алешка, размазывая слезы кулаком, как ребенок.
Борис помолчал, потоптался. Под его ногами похрустывали прошлогодние дудки.
– Мой-то батя тоже там ведь, – сказал он печально.
Эти слова почему-то успокоили немного Алешку. Но он все сидел не поднимая головы, часто всхлипывая.
Борька тоже присел, снял фуражку. Из-за надорванной подкладки вынул клочок газеты, стал крутить самокрутку. В тот год, прячась от школьных учителей и родителей, они начали тайно покуривать.
– А ты хочешь? – спросил Борька. – Успокаивает.
– Давай…
Руки Алешки дрожали, но он все же свернул папиросу. Борис сунул ему зажигалку.
Это была тяжелая, медная зажигалка, выточенная из плоского куска металла. Борька выменял ее на рынке у какого-то старика за ведро картошки. Зажигалка давно и сильно нравилась Алешке, и Борис это знал. Нравилась потому, что это была все-таки машина, с ее помощью можно без труда и в любое время добыть огонь. Спички же в те годы были большой редкостью.
На их улице ни у кого из мальчишек не было зажигалки, и Борькино сокровище вызывало всеобщую зависть.
Алешка открутил колпачок, большим пальцем крутнул стальное колесико. Тотчас над фитильком вырос красноватый язычок пламени.
Прикурив, он дунул на пламя. Потом снова крутнул колесико. Потушил и еще раз крутнул. Зажигалка действовала безотказно.
В другое время Борька крикнул бы: «Дурак! Бензин-то знаешь почем?!» – и отобрал бы зажигалку. Сейчас он равнодушно смотрел на Алешкино занятие.
Помедлив, Алешка протянул Борьке зажигалку.
– Возьми себе, – сказал вдруг Борька.
Алешка непонимающе поглядел на друга: такую вещь – и ему!
– Бери, бери, – быстро сказал Борька. – Я давно решил тебе подарить ее в день рождения.
Алешка опустил зажигалку в карман, не испытывая почему-то никакой радости оттого, что стал обладателем этой драгоценной вещи. И вдруг подумал: его день рождения ни при чем, не будь похоронной, Борька никогда не подарил бы зажигалку, и ему, конечно, жалко ее.
От этих мыслей Алешке стало горько, слезы опять покатились из глаз. Он вынул из кармана подарок.
– Не надо мне…
– Да ты что? Я же от чистого сердца.
Это «от чистого сердца» вдруг взбесило Алешку. Он вскочил и закричал:
– Врешь! Врешь ты все! Жалостливый какой нашелся! Вот твой подарок… – И, размахнувшись, швырнул зажигалку в самые заросли.
Борька, когда Алешка закричал, поднялся, потом медленно сел.
– Ну и дурак, – сказал он.
Алешка тоже сел. Они сидели спиной друг к другу, июльское солнце жгло им плечи. Прилетела ворона, тяжело опустилась неподалеку на березовую ветку. Ветка качалась, а ворона глядела на них. Потом она испуганно вспорхнула, ветка снова закачалась. Из-за дерева вышла Шура Ильина, точно она, притаившись, все время стояла там, слушая их разговор. В руке у нее была старенькая корзинка.
– Вы что кидаетесь, – сказала она, строго вздернув выгоревшие брови. Глаза у Шурки немного косили, она стояла, смотрела в упор на Борьку с Алешкой и одновременно, казалось, высматривала кого-то еще по бокам. – Признавайтесь, кто кидал? Ты, Борька?
– Отстань ты! – сердито проговорил Борис.
– Еще и курят мне! – презрительно добавила Шурка. – Вот скажу вашим матерям, они вам ноздри-то повыдерут.
И разжала кулак. На ее жесткой ладошке поблескивала зажигалка.
– Дай сюда, – крикнул Борька, встал, взял у нее зажигалку, положил себе в карман и опять сел.
Шура тоже опустилась на траву, поджав под себя исцарапанные ноги, рядышком поставила корзинку. На дне корзинки лежали два небольших белых гриба.
– Ни черта грибов-то нету, – с сожалением сказала она. – Измаялась только. Все подлески истоптаны, откуда им быть-то… А ведь ты, Борька, мне чуть голову не проломил.
Шурка жила через три дома от Алешки. Алексей не любил ее за то, что она была красивая, а он, как считал сам, совсем некрасивый. И еще за то, что она все время по поводу и без повода смеялась, будто постоянно видела своими косоватыми глазами по бокам что-то смешное, чего не дано было видеть другим. Еще удивительно, почему она сейчас не хохочет, а сидит и печально смотрит на свою пустую корзинку.
Только он подумал так, Шура заулыбалась вдруг, потом запрокинула голову с гладко зачесанными волосами и захохотала.
– Ты чего? – поднял на нее Борька свои круглые, злые глаза. От злости его жесткие, черные волосы, подстриженные ежиком, заершились, казалось, пуще прежнего.
– Обманул меня сегодня мужичок-грибовичок.
– Какой тебе грибовичок еще?
– Есть такой.. Маленький-маленький. Его даже увидеть нельзя. Но такой хитрый-прехитрый. Утром я вышла из дома, а он стоит за деревом, поманивает: пойдем-ка, укажу тебе самое грибное место…
– Врешь ты все, – сказал Борька. – Видеть его нельзя, а ты, значит, увидела.
– Ничего не увидела я… Ну, догадалась, что он там стоит… Взяла корзинку и пошла. Иду, а он впереди бежит, играет со мной. Отбежит, спрячется за кустик или за травинку, ждет. Я подойду – он покажет язычок и дальше бежит. А язычок ма-аленький, с росиночку. И так же поблескивает.
– Гляди ты, и язычок разглядела.
– Эх ты – обиженно сказала Шура и замолчала. Алешка был рад, что она замолчала. Он бы еще более был благодарен обоим, если бы они догадались встать и уйти, оставить здесь его одного. Он бы еще поплакал, уже не сдерживаясь, потому что понял вдруг: слезы облегчают.
Но они не уходили. Помолчав, Борис равнодушно спросил:
– Как же он тебя обманул-то, этот мужичок?
– А так и обманул, – встрепенулась Шура и опять заулыбалась. – Водил, водил по лесу – и раз! – исчез. Я стою прислушиваюсь – не играет.
– Что не играет?
– Ох, непонятливый! – сморщила девушка облупленный на солнце нос и бросила прутик, которым расправляла, расчесывала примятую траву. – Когда он тут, этот мужичок-то, если прислушаться – тоненькая музыка играет. Будто крохотный-крохотный ручеек звенит. А тут слушаю, слушаю – не звенит.
– Не звенит, значит? – переспросил Борька,
– Ага, не звенит, – вздохнула она. – Так и не показал грибного места.
– Мужики – они такие… Они обманывают, – проговорил Борька.
– Что? – повернулась к нему Шура. И медленно начала краснеть.
Шуре тоже было пятнадцать лет, но она казалась взрослее. Длинная и тонкая, туго обтянутая стареньким застиранным платьишком, из которого давно выросла, эта девчонка всегда чем-то напоминала Алешке ящерицу. Может, тем, что была подвижной, стремительной, появлялась всегда неожиданно: то вывернется вдруг из-за угла, выскочит из подсолнухов на огороде, когда он, Алешка, шел куда-нибудь мимо их домика, или неожиданно выйдет, как сегодня, из леса, И Алексей от этой неожиданности всегда вздрагивал.
Шура, кажется, заметила это и однажды спросила:
– Испугался, что ли?
– Боюсь я… ящериц-то, – ответил он ей. – А ты – как ящерка.
Она захохотала. Хохотала она хорошо, носишко ее в это время подрагивал, а глаза становились еще косее. Но это Шуру нисколько не портило.
– Так они не кусаются, – сказала она, отсмеявшись,
– Шуршат они в траве, вот что. Шмыгают.
– Ну и пусть шмыгают.
– Дак не поймешь, то ли это ящерица, то ли змея…
Шура тряхнула головой, задумалась. Потом, что-то сообразив, холодно пообещала, глядя прямо ему в глаза:
– Я вот принесу из леса ящерку да суну тебе за шиворот. Будешь знать!
И ушла, строгая и обиженная.
Чем он обидел ее, Алексей до сих пор не мог сообразить. И только сейчас вдруг догадался.
Сейчас Шура сидела неподвижно и снова глядела печально на свою пустую корзинку. «Чудная, – подумал он. – То хохочет, то… И в мужичков-грибовичков вот верит». И без всякой связи вспомнил вдруг, что ее отца тоже убили на войне, еще в прошлом году.
Сразу же у Алешки перед глазами встала утренняя картина: мать распечатывает конверт, подносит к глазам бумажку, хватает сухими, жесткими губами воздух и валится на пол… Жгучий тяжелый комок подкатился к горлу и остановился – не проглотить его, не выплюнуть. «Оставите вы меня или нет?» – хотел крикнуть он, но не мог, потому что из глаз потекли слезы, а сквозь стиснутые зубы едва не прорвался стон. И он отвернулся.
Отворачиваясь, Алешка заметил, что старенькое Шурино платьице сбоку, возле небольшой, с кулачок, груди, разошлось по шву, и сквозь дырку просвечивала темноватая, загорелая полоска тела. И на эту полоску почему-то безотрывно глядел Борька.
Потом-то Алексей и услышал его слова:
– Мужики – они такие… Они обманывают.
Алексей незаметно вытер кулаком глаза и поднял голову. Он увидел, что Шура холодно смотрит в упор на Бориса, как смотрела на него, Алешку, когда он сказал: не поймешь, мол, кто там, в траве, шуршит, ящерица или змея.
Она, краснея, торопливо прикрыла локтем порванное место и еще раз, со злостью, крикнула:
– Ты что?!
– Ничего, – ответил Борька, отводя взгляд в сторону. – Чего тут раскричалась? У Алешки вон отца убили, а ты… Идешь мимо, так иди…
Брови у девушки вздрогнули, приподнялись. И больше Алешка ничего не видел. Он уткнул голову в самые колени и сам почувствовал, как затряслась его выгнутая горбом спина. Рвущиеся из горла рыдания он еще мог сдержать, но со спиной поделать ничего не мог: она тряслась.
– Не надо, Алеша… Понимаешь, не надо, – услышал он дрожащий Шурин голос и ощутил на своем плече кончики ее пальцев.
– Иди ты… Поняла?! – взорвался он, поднимая мокрое лицо.
– Я уйду, я уйду сейчас, Алешка… – торопливо проговорила она. И закричала на Бориса: – А ты чего расселся тут?! Ступай отсюда.
– Катись ты! Пристала… – попробовал было огрызнуться Борька, но девушка подошла и толкнула его.
– Иди, иди… Айда, сказано!
Чтобы не упасть, Борька вскочил на ноги, сжал кулаки. Но Шура, не давая ему опомниться, все толкала и толкала его – Борис пятился, махал руками, что-то кричал. А потом плюнул и пошел впереди Шуры.
Алексей смотрел на уходящих с облегчением. Потом лег на траву, растянулся во весь рост и вволю наплакался, уже никого не стесняясь…
С того дня вроде ничего не изменилось на земле и будто все стало немножко другим. Улица, на которой они жили, стала будто чуть поуже и погрязнее, разномастные домики, выглядывающие из-за поломанных заборов и штакетников, казались теперь Алешке испуганными, унылыми, а небо над ними – пустым и неуютным.
– Ну что, Алешенька, – тихо сказала осенью мать. – Как теперь со школой-то? Кормиться как будем?
После похоронной у матери что-то случилось с сердцем, и она ушла с завода, где работала формовщицей в литейном.
– Что ж, пойду работать.
– А может, на пенсию проживем как-нибудь? Хлебные карточки дают ведь…
– Да что уж… Пойду.
И он стал работать учеником токаря, а потом токарем.
До войны завод выпускал сельскохозяйственный инвентарь – бороны, культиваторы, сеялки, а теперь делает гильзы для снарядов и даже минометы. Рабочих не хватало, иногда приходилось не выходить с завода по нескольку дней. Но зарабатывал Алешка хорошо, и в общем жили они с матерью более или менее сносно.
Отношения с Борисом у Алексея были прежние. Виделись они, правда, редко.
Однажды, когда он, усталый, шел с работы, чуть не засыпая на ходу – пришлось почти без перерыва простоять у станка две смены, – его кто-то догнал и тронул за плечо.
– Алеша…
Алексей обернулся. Перед ним стояла Шура. Она была одета в суконное, сильно потертое пальтишко, в руке держала ученический портфель, туго набитый книгами.
– А-а, – сказал Алексей. – Здравствуй.
– Здравствуй, здравствуй, – смеясь, сказала девушка. Было утро, апрельское солнце светило ей в глаза, и, видно, от этого они лучились.
– Ты откуда это так рано? – спросила она, помолчав.
– С завода я.
– Ага… А я в школу. Ну, до свидания.
Еще раз улыбнулась своими косыми глазами и побежала дальше, прижав к груди портфель обеими руками. Но вдруг обернулась и крикнула:
| – Ящерицу-то я тебе положу за шиворот!
Подошел Борька с полевой сумкой через плечо, тоже набитой учебниками.
– Привет рабочему классу! – крикнул он. – С кем это ты тут? А-а, Шурка… Ничего Агаша выросла.
Всех девчонок Борис называл почему-то Агашами. Алешке это не нравилось, но он никогда ничего не говорил Борису. А тут сказал:
– Зачем ты их так? У каждой свое имя есть.
– Много их сейчас, как подсолнухов на огороде… Разве упомнишь всех по именам? – ухмыльнулся Борис. И подозрительно вскинул глаза. – Постой, а что тебе-то?
– А что мне?
– Ты вроде за нее…
– Пошел ты, – сказал беззлобно Алексей, свернул папироску и прикурил от зажигалки, почти такой же, как у Бориса.
– Вот что значит рабочий класс! – сказал Борис, рассматривая зажигалку. – Теперь тебе такую штучку смастерить – плевое дело.
– Какая тут хитрость?
– А ведь я потерял, понимаешь, свою…
– Ну, возьми тогда, – сказал Алексей.
– Что ты! – Борис покачал тяжелую зажигалку на ладони. – Я обдираловкой не занимаюсь.
– Да бери, бери… Подумаешь, сокровище. Я себе еще сделаю.
Алексей все это говорил с удовольствием. Ему было приятно сознавать, что зажигалка теперь для него – пустяк, что он своими руками может сделать точно таких же сколько угодно. Только не увидел бы мастер Карпухин, он здорово греет за эти зажигалки.
– Тогда спасибо, браток. Вот уж спасибо! – сказал Борис. И глаза его блеснули от радости.
До самого дома потом Алексей вспоминал, как блеснули Борькины глаза, и про себя улыбался. Еще он думал, что Шурка Ильина нисколько не выросла с прошлого лета, она такая же, как тогда, в июле, и напрасно Борис называет ее Агашей… А про ящерицу не забыла…
Ящерицу она действительно сунула ему за воротник. Это случилось через месяц, в День Победы, девятого мая.
В этот день в городе творилось невообразимое. Гремела музыка, на улицах и площадях бурлил народ. Алешкина мать смотрела в окно и тихонько плакала.
На душе у Алексея было как-то странно – одновременно и легко, и немного тоскливо, обидно. Он вышел из дома и пошел, как в тот, прошлогодний июльский день, вдоль улицы, за город. Выходя на улицу, он увидел Борькиного отца, приехавшего из госпиталя за три месяца до Победы. Он, немного пьяненький, сидел на крыльце, глядел на толпы людей, валивших мимо дома, а слабый ветерок шевелил пустой рукав его гимнастерки.
За городом тоже было много народу. Кое-где пиликали гармошки. Люди группами сидели на молоденькой, только-только полезшей из земли, травке, пили водку и самодельное пиво, плясали, смеялись и плакали.
Здесь ветерок был покрепче, чем на городской улице, он освежал скуластое Алешкино лицо, успокаивал.
Алексею сейчас хотелось побыть одному, совсем одному. Просто так посидеть где-нибудь в одиночестве, погрустить, что ли. И он вошел в тот самый перелесок, где сидел и плакал в прошлом году, сел почти на то же самое место. «А интересно, прилетит ли прошлогодняя ворона?» – почему-то подумал он и взглянул на березу. Вороны там не было. И ему не хотелось, чтобы она прилетела.
Сюда почти не доносились возбужденные голоса и песни, и здесь совсем не было ветра. Пахло нагретой землей и молодыми, не окрепшими еще и клейкими березовыми листьями.
Шура подошла, по обыкновению, неслышно и опустила ему за ворот ящерицу. Сперва Алешка не понял, что произошло, он только вскочил и удивленно глядел на девушку. Она показала ему язык, а потом спросила:







