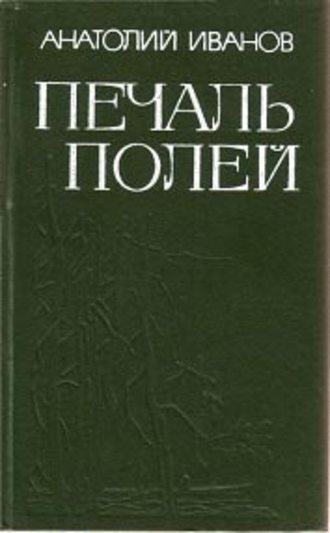
Анатолий Иванов
Печаль полей (Повести)
– Доброго здоровьица. Утро добренькое, – дважды поздоровался Артемий Пилюгин. Стоял он прямо и недвижимо, но Кате показалось, что он дважды поклонился. Видно, оттого показалось, что уж слишком заискивающим был голос. – А мы вот, значит, вернулись. Поскольку родимые места…
– И отец его, Артемушки, тут, на романовском кладбище, погребен, – добавила Федотья.
Несколько мгновений они стояли друг против друга молча и неловко. Наконец Артемий первым шагнул в сторону и старуху потянул за плечо:
– Дай, мать, дорогу-то человеку…
… И знала Катя, когда померк, потух навсегда веселый свет в глазах Степана. Из алтайской тайги, как сообщили ему о смерти Ксении, он прискакал полоумным, ворвался, черный и страшный, к ним в дом.
– Как! Ка-ак?! – застонал он, хватаясь, чтоб не упасть, за плечи отца.
– Теперь и гадай как… – виновато и тоскливо проговорил отец. – Угорела хворая, а мы недоглядели. Хотя всяко на деревне судачат…
– Кто? Что? Как?! – трижды прокричал Степан голосом, от которого у Кати по всему телу посыпались мурашки.
И тут отец жестко воскликнул:
– Образумься, Степан! Крошева и дурак накрошить может… Всякие разговоры да предположения к делу не пришьешь.
Степан все еще держался за плечо отца, а тут ноги стали подламываться, и он начал тяжело сползать вниз. Отец подхватил его, дотащил до голбчика, усадил. Степан привалился плечом к печке, прижался к ней головой в шапке и начал подвывать, как сиротливый щенок.
Кате стало страшно. Мужик, а плачет. Она тяжко и громкj всхлипнула раз, другой, третий…
Опомнилась оттого, что в уши заколотил сердитый голос отца:
– Ты-то чего разревелась? Перестань сейчас же!
Опомнилась и увидела, что Степан сидит на голбчике теперь прямо, шапку сжимает в руках. Глаза его сухие, только нет в них ничего живого, все в них замерзло,
– Степан! Степа! – Она упала перед ним на колени, схватила за руки и, глядя в его потухшие глаза, сквозь слезы заговорила торопливо: – Только ты не плачь, не надо… А детишек мы выходим… С Донькой я буду водиться. Давай ее к нам. Мне что с одной Зойкой, что с двумя… Сестричками и вырастут. А остальные сами бегают, ничего. Ты слышишь, ты слышишь? Пап, и ты скажи ему, скажи!
Отец ничего не сказал, только согласно кивнул, а сам Степан проговорил:
– Спасибо, Катя. Спасибо…
В такую-то минуту и так вот непроизвольно и назвала она впервые Тихомилова не дядей Степаном, а просто по имени, как равного по возрасту.
Все это случилось за несколько месяцев до войны.
Как прошли вторая половина зимы и весна, Катя и не увидела. Шестеро детей на одну – трое своих да трое тихомиловских – это не шуточки. А самому старшему – Мишухе – было тогда лишь девять годков, шел десятый. Хоть и девять, да помощником был и сторожил мальков, когда Катя за водой бегала, коров доила, по хозяйству в том и другом доме управлялась. И самой Кате помогал – дров к вечеру наносит, сенца скотине набросает, если отец и Степан на работе закрутятся. А уж покормить всю ораву почти всегда было его делом. Старшие, понятное дело, ели сами, за ними только строгий пригляд вел Мишуха да покрикивал грубовато: «Вы, заразы, без баловства за столом! А то вот до огня надеру уши! И чтобы все слопать у меня». А младших, Зойку с Донькой да Игнатия, кормил по очереди с ложки, приговаривая примерно на такой манер: «Эти оболтусы хоть и большие, да глупые, вон Колька с Захаром, паразиты, хлебом швыряются, ну я им накручу холки счас. А вы маленькие да умненькие у меня, ешьте да растите пошибче. А то ведь одна на всех на нас мамка-то Катя, измаялась она с нами».
Однажды, когда за окном стоял холодный и вьюжный март, пятилетний в ту пору Колька в ответ на такие слова пропищал:
– Катька не мамка вовсе мне.
– А кто ж, оболтус ты этакий? – строго спросил Мишуха.
– Не знаю… Дочка она тятькина.
– А мне она мамка, – заявил вдруг Захар Тихомилов. Он был постарше Кольки и, прежде чем произнести эти слова, о чем-то, наморщив лобик, старательно думал.
Колька долго выколупывал хлебный мякиш из горбушки, но не ел, а складывал крошки в пустую тарелку. И потом проговорил:
– А твою мамку на могилки отнесли.
Глазенки Захара подернулись влагой.
– То одна была мамка… А Катя другая, – сказал он.
Кормила Катя детей где придется – то в своем, доме, то в тихомиловском. В этот раз ужинали в тихомиловском. Катя возилась с чугунками у печки, Степан только что вернулся с поля, где с рассвета обмолачивали хлебную скирду. Сидя на скамейке, он стаскивал с окоченевших ног промерзлые насквозь валенки. При этих словах старшего своего сына он словно забыл про лежавшие у него на коленях сухие шерстяные носки, минуту назад поданные ему Катей, красные босые ноги его стояли на холодных досках пола, не чувствуя холода, в глазах, обращенных на девушку, плескалось не то изумление, не то растерянность.
– Вот доболтались до чего, – проговорила Катя, будто в чем-то виноватая, глянула на Степана, встретилась с такими вот его глазами. И тут уж смутилась по-настоящему: – Ты, Степан… чего?
Что ответить Кате, Степан не нашелся, опустил голову и стал натягивать носки.
С этого-то вечера между ней и Степаном и возникло то незримое, что стало разделять их все больше и больше. Пролегла вроде какая-то полоса и с каждым днем потихоньку расширялась. Нет, внешне ничего не изменилось, Катя так же приглядывала за его домом и ухаживала за его ребятишками, как за своими, но с самим Степаном разговаривала меньше. Скажет, когда уж нельзя без этого, самое необходимое, а так старалась обходиться без слов. И старалась она не смотреть на Степана, как-то боялась теперь его. И он, чувствовала и видела Катя, вел себя так же. А в глазах его, после смерти жены потухших, и вовсе теперь стояла, как в осеннем болоте, неподвижная тоска и грусть.
А вскоре Катя случайно подслушала такой разговор меж отцом и Степаном Тихомиловым:
– Хватит гнуться-то, Степка. Как горбатый ходишь. Я вот тоже вдовец, такой же детный.
– Что за судьба нам, дядь Данила! Верно говорят – сладко поешь, так горько отрыгнется.
– Да уж прошлого не воротить нам с тобой, Степаха.
– Совсем бы я не выдюжил, дядь Данило, кабы не Катька твоя. Найдется ли у меня богатства, чтоб отблагодарить ее!
– Да уж что говорить. Одна на двоих она у нас с тобой.
– Захарка мой недавно сказал – мамка, мол, мне она.
– Погоди… – негромко вымолвил отец. – Это ты о чем?
– Сынишка, говорю, несмышленыш…
Отец и Степка ужинали, на столе у них стоял закопченный чайник, а Катя с детьми лежала на полатях. Набегавшиеся за день дети спали как мертвые, а Катя уснуть никак не могла, на полатях было душно, натруженные за день ноги стонали. Она невольно прислушивалась к разговору, последние фразы отца и Степана словно огнем ее окатили. Она перевернулась со спины на бок, беззвучно и горько заплакала. Сквозь слезы еще разобрала приглушенный голос отца: «Ты не тревожь, Степка, ее душу. Она у нее еще хрупкая. Ну ладно, разбегаемся, завтра делов-то нам с тобой невпроворот».
С этого вечера полоса, разделяющая ее и Степана, стала будто еще шире. Катя вовсе замкнулась, дела теперь совсем делала молча, сердито хмуря лоб. И в глазах Степана все отчетливее стала проступать растерянность и вина.
Недели через две он не выдержал и сказал:
– Измоталась ты. Давай, я какую старуху попрошу за детям и походить…
– Старуху?! – сорвалась вдруг Катя. – И правда! А то, гляжу, настоящей мамкой меня хочешь для них сделать! Слышала я разговор-то ваш с отцом. Да пропадите вы все пропадом!
И она, рыдая, сдернула с гвоздя пальтишко, стала его натягивать, собираясь бежать домой, никак не попадала в рукава и все повторяла: «Пропадите! Пропадите…»
Степан молча подошел к ней, помог одеться, отстранив ее руки, сам застегнул ей пуговицы, снял с гвоздя шерстяную, самодельной вязки, шаленку. Прикосновение его рук вдруг отняло у нее все силы, она, как ребенок, позволила ему и застегнуть пуговицы, и накинуть на голову шаль, только стояла и всхлипывала.
Одев ее, Степан негромко и грустновато проговорил:
– Слушай, Катя… Я бы и женился на тебе, кабы помоложе был да кабы ты согласилась на столь детей идти… А самое-то главное – кабы Ксенька забылась. А она стоит перед глазами как живая. Без нее я вот и гармонь ни разу не трогал, стоит, осиротелая…
Катя, оглушенная его словами, даже всхлипывать перестала, только вытирала ладонями мокрые щеки.
Степан отошел к окну, стал глядеть на осевшие, почерневшие уже апрельские снега. Широкие плечи его показались ей жалкими и беспомощными. Постояв так безмолвно, она вышла.
А назавтра, едва рассвело, она отмахнула дверь дома Тихомилова, внося беремя поленьев, высыпала их у печки. Степан, глядясь в обломок зеркала, скоблил бритвой со щек жесткую щетину. Повернув к ней намыленное лицо, сказал:
– Кать, я же вчерась сказал – старуху какую-нибудь…
– Ага, – буркнула она, раздеваясь. – Будто у меня руки-ноги отсохли… Отправляйся давай, отец в контору ушел уж, а я на завтрак чего сготовлю.
* * *
… Одного не помнила Катя, когда она все же полюбила Степана, одного не могла понять, как все это произошло.
Но это, наперекор всему, произошло, и, видно, как потом размышляла Катя, задолго до того, как она, лежа на полатях, подслушала невольно их с отцом разговор. А вот когда точно – неизвестно. Да и кто когда такое дело устанавливал с календарной ясностью?
Внешне все обстояло по-прежнему, Катя хлопотала целыми днями по его и своему дому, обихаживала оба детиных выводка, не делая различия, как и раньше, между его детишками и своими. Бесконечные дела как-то и не так ее теперь утомляли. Только ночами она теперь постоянно думала о Степане, и сердце ее больно посасывало. Она засыпала с мыслью о нем и, как пробуждалась, видела сразу же перед собой его тоскливые, невеселые глаза.
Говорили они по-прежнему мало и лишь о самом необходимом. Да и то так, будто каждый стеснялся друг друга.
Гармонь его действительно стояла в углу на столике, онемевшая со дня гибели Ксении, прикрытая кружевной накидкой. Время от времени Катя снимала накидку, обтирала с гармони пыль.
Однажды, в конце мая, когда колхоз отсеялся, Катя истопила тихомиловскую баню. Сперва выпарились отец, Степан, пропадавшие всю весну в поле, Мишуха. Потом Катя с детьми.
Когда она, после мытья розовая и потная, запустила в избу гуськом детей, отец и Степан ели за столом картошку с мясом, между тарелок стояла наполовину выпитая бутылка.
– Садись, Катерина, с нами, – сказал отец. – А детей потом уложишь.
Все это показалось Кате многозначительным, сердце ее упало, тем более что отец плеснул ей немного водки со словами:
– Выпей, дочка.
Водку она пробовала несколько раз, ничего хорошего в ней не находила, от нее противно лишь кружилась голова. Но сейчас отказываться не стала, проговорила с каким-то вызовом:
– А что думаете? И выпью. А за что?
– Да за тебя, Катя, – просто сказал отец.
– Я за нее, дядь Данила, полный стакан выпью.
И он выпил.
Потом, молча поковыряв в тарелке, Степан подошел к стоящей в углу гармони, снял накидку, провел ладонью по ее лакированной поверхности, но в руки брать медлил.
– Сыграй, Степан, – тихонько попросила Катя.
Степан как стоял спиной, так и продолжал стоять, все гладил и гладил трехрядку. Затем медленно укрыл ее накидкой и медленно, с трудом обернулся.
– Не могу, Катя. Я ж тебе говорил…
Вот так вот. А она-то, дура, ждала невесть чего.
Внутри у Кати все стонало не то от обиды, не то от смертельного оскорбления, лицо полыхнуло огнем. И хорошо, мелькнуло у нее, что после бани она распаренная, и хорошо, что глоток водки выпила, а то бы отец заметил ее состояние, обо всем догадался бы. Господи, да и без этого счас догадается, вот вот слезы ручьем хлынут…
Она опустила голову и, не поднимая ее, полезла из-за стола.
– Давайте… А то детей кормить да укладывать пора. – Она повернулась к отцу и Тихомилову спиной, почувствовав, как потоком льются по щекам горячие слезы.
И откуда взялся он, этот слух, что между ней и Степаном было что-то?! И в этот последний месяц, перед тем как грохнула война, со Степаном она почти не виделась. Рано пошли травы в тот год, с самой весны было много дождей, которые мешали севу, а травы к началу июня вымахали по пояс. Сперва Степан пропадал целыми днями на кузне, помогая хромоногому Петровану Макееву отлаживать косы, а потом и вовсе жил на сенокосах. А она, Катя, все так же возилась да возилась с шестерыми детишками.
Зловещее известие о войне и в их маленькой деревушке изменило привычное течение жизни. «Поворо-от!» – произнес свое обычное пьяненький кузнец Макеев, выслушав под вечер 22 июня выступление Молотова по радиоприемнику, который выставили в открытое окно колхозной конторы, и в самом деле все повернулось и потекло теперь в иную сторону. Ночей в июне почти нет, в одиннадцать еще светло, а в три уж и солнце за холмами где-то маячит, огонь в домах людям без надобности, а в эту первую военную ночь они горели до рассвета. С утра заходили по небу тяжелые дождевые тучи, грозя промочить высохшую уже на лугах кошенину, а председатель колхоза с Тихомиловым никак не могли отправить людей сгребать и стоговать сено, колхозники толпились у конторы, дожидаясь известий о том, что немцев за советскую границу уже выперли и война окончилась… Дождь таки обвалился к вечеру и сильно попортил готовое сено. А на другой день была объявлена и первая мобилизация, под которую подпало дюжины полторы романовских парней и мужиков, в том числе и Степан Тихомилов.
На сборы мобилизованным было отведено всего полтора дня, и Степан, бледный и немного растерянный, то прижимал к груди головенку старшего своего сынишки, шестилетнего Захара, то сажал на колени Игнатия с Донькой.
– Кровинушки!.. В детдом, сказали мне в военкомате, теперь вас… Завтра поедем.
– Какой детдом? Ополоумел! – закричала сквозь слезы Катя. – Будто я уж неживая… Али не привычная к такому делу.
– Ах, Катя, Катя! Катенька, война ж. А коли там меня…
– Язык-то у тебя как поворачивается! Бессовестный.
До вечера Степан еще несколько раз пытался завести разговор о детдоме, а Катя, будто дети были ее собственные, сквозь слезы кричала ему враждебно:
– Не дам! Не дам… Пап, да скажи ты ему, дуралею!
И Данила Афанасьев в конце концов хмуро проговорил:
– Пущай она, Степан… Разве там-то им лучше будет?
– Так, дядь Данила… Рано или поздно и ты уйдешь. Как тогда она?
– А там и решать будем, – ответил председатель колхоза.
В июне сорок первого, прощаясь на вокзале со Степаном Тихомиловым, о своих братьях и совсем малолетней сестренке Катя и не думала. Они для нее в те минуты будто и не существовали, а были лишь его, Степановы, дети, о которых она без конца ему говорила и говорила:
– Не заботься об них… Они мне давно не чужие, Мамкой, слышал же, зовут.
– Спасибо, Кать… Спасибо, Кать, – одно в то же повторял он без конца, будто пьяный.
И вдруг в ответ на какие-то ее, тоже бессвязные слова он заговорил голосом твердым и ясным:
– Одно скажу тебе, Катя. После смерти Ксении я будто еще одну долгую жизнь прожил. Не знаю как, но ты у меня в душе переворот сделала. В общем, как с войны вернусь, и если ты будешь согласная…
Закончить она ему не дала, зажала рот ладонью.
– Не надо, Степ… – И припала головой к его плечу.
На районном вокзале, где стоял состав из теплушек, творилось невообразимое. Играла духовая музыка, в голос ревели женщины, слышался пьяный смех, раздавались нестройные песни. В бурлящей толпе несколько раз мелькал Данила Афанасьев, провожая односельчан. Неподалеку от Степана с Катей выла, лежа на груди Артемия Пилюгина, жена его Лидия, а старая бабка Федотья, тыкая ей костылем в спину, говорила: «Вот теперь и поплачь… Шибче убивайся-то, за Советскую власть муженек воевать едет. Отец-то его, Сасоний, вот поглядел бы…» От шума, от гама, от пьяных песен и женского плача и от собственных слез голова у Кати была как распухшая, но она отчетливо слышала слова бабки Федотьи, только никак не могла понять их смысла. Дети Артемия, Пашка с Сонькой, дергали мать за одежду и, хныча, просили ее совсем о другом: «Не плачь, мама… Бабушка вон не плачет, и ты не плачь». Но до всего этого Кате будто дела не было. Она открыто и впервые в жизни прижималась к Степану Тихомилову, чувствовала его тепло, отчего у нее еще больше кружилась голова.
– Не надо, – произнесла она еще раз, оторвалась, поглядела ему в глаза. – А как приедешь – на гармошке мне сыграешь? А, сыграешь?
– Да, конечно, Катя!
Из вагона он ей махал до самого конца, пока состав не завернул за какие-то здания, и все кричал, кричал: «Я тебе обо всем напишу, напишу…»
В первом же письме он еще с дороги написал то, о чем Катя не дала ему договорить: если она после войны согласится выйти за него, то он и ветру на нее пахнуть не даст.
Катя никогда не показывала это письмо отцу, носила его, пока конверт не истерся, при себе, а потом положила в самое потайное место.
Весной сорок второго, когда уходил на фронт и Данила Афанасьев, у крыльца прощаясь, он сказал:
– Вишь, какое горе над землей нашей. Всем тяжко. Ты уж как-нибудь сбереги детишек…
– Папа, папа… – Катя уткнулась ему горячей головой в грудь. – Ты только вернись, вернись…
– Куда ж я денусь? И Степан вернется… – И, помолчав, вдруг проговорил: – А это верно, Кать, он не даст на тебя и ветру пахнуть.
– Ты… ты читал мое письмо? – вспыхнула Катя.
– Что ты, дочка. Так мне сам Степан написал с фронта, Катя, говорит, согласная, а я и ей заявил, и тебе, пишет, обещаю как ее отцу…
– Папка, папка! – еще раз только и воскликнула тогда Катя.
Отец уезжал на фронт один, никто, кроме дочери, хромого кузнеца Макеева да старого Андрона, его не провожал. Да еще у ходка стоял Артемий Пилюгин, недавно вернувшийся с фронта по ранению, самолично решивший отвезти отца в райвоенкомат.
– Ну, Катенька, давай уж как-нибудь тут, – еще раз обнял он ее. – Новый председатель вот обещает помогать тебе с такой оравой по возможности.
– Помогу, помогу, не беспокойся даже об этом, – угодливо сказал тогда Пилюгин.
* * *
«Помогу… Помог, кобелина проклятый», – не раз горько думала о Пилюгине Катя еще до рокового Мишухиного выстрела.
А теперь, когда старая Андрониха с непреклонной убежденностью объяснила Кате причины свалившихся на нее напастей, рассказала о двух этих линиях в Романовке – тихомиловско-афанасьевской и пилюгинской да высказала свое предположение о причине смерти Ксении, жены Степана, – перед Катей как бы распахнулась бездна жизни, заглянув в которую она поразилась. Часто теперь она задумывалась о вещах каких-то отвлеченных, не относящихся к истории затерявшейся в холмах крохотной Романовки, живших и живущих в ней людей. Думала Катя, что вот течет речка, и человек видит, что делается на ее поверхности – солнечные да лунные блики качаются, волны играют, то мутная весной или после дождей, то светлая она течет. А какая жизнь идет в глубине?
Кате казалось, что она стала понимать теперь многое, а что конкретно – объяснить, пожалуй, и не могла бы. Но вот та же Марунька-счетоводиха врезала ей недавно, чтоб не надеялась, что и дальше горюшка будет поменьше, а то, мол, прохнычешь до вечера, так и вовсе жрать будет нечего. Да и сама Андрониха вместо того, чтоб пожалеть, заявила ей будто рассерженно: кто, мол, про твое распутство не знает, нагуляла пузо, так и казнись. А секретарь райкома партии Дорофеев в тот день, как предложил ей взять на себя колхоз, сказал и вовсе ясно и определенно: каждого пожалеть надо бы, да как в такое-то время? И понимала Катя, что невозможно, а тем не менее во всем этом, в словах и Маруньки, и Андронихи, и секретаря райкома, она видела теперь большую человечью жалость к ней и заботу, чувствовала тот большой и вечный смысл жития, который помогает человеку выдюжить и выжить в самых немыслимых обстоятельствах.
… Лето наступило хорошее, в меру выпадали дожди, достаточно было солнца и тепла, посевы дружно зеленели, в лощинах меж холмов быстро подрастали травы.
После похоронок на отца и Степана Катя резко изменилась, она будто вдвое стала старше, замкнулась, ни с кем почти не разговаривала целыми днями, оставив детей на Андрониху, разъезжала в одиночестве по полям, по сенокосам. Осматривать угодья столь часто было безнадобности, но она ездила, иногда где-нибудь выпрягала лошадь и пускала пастись, а сама ложилась в траву, часами глядела, как текут в небе облака, слушала, как в бездонной синеве играют свои любовные игры жаворонки.
Писем от Степана и отца она теперь, понятное дело, не ждала. Иногда Марунька-счетоводиха подавала ей в конторе письма от Мишухи, они были не в конвертах, а тоже треугольниками, как с фронта. Каждое письмо Катя долго держала в кармане порыжелого отцовского пиджака, который возила с собой на всякий случай под передним сиденьем ходка, и часто, лежа в траве, перечитывала. Писал Михаил в общем-то об одном и том же – все у него в порядке, колония хорошая, нормы он свои выполняет, спрашивал, как у них в колхозе дела, кто теперь председательствует, жаловался, что почему-то не отвечает ему отец, он писал на воинскую часть несколько писем, а с фронта ни ответа, ни привета. В последнем письме Михаил прямо спросил: «Может, не дай бог, с отцом чего случилось? Ведь война ж, все может быть, чего ты, Кать, темнишь-то, я ж взрослый…»
Катя облила это письмо слезами. «Взрослый…» И тем же вечером попросила у Марии листок бумаги, а ночью, уложив детей, села за стол и, сглотнув тяжелый комок, вывела: «Родимый Мишенька…»
Беспрерывно обтирая платком глаза, она написала Михаилу наконец обо всем – и о похоронках, которые так долго от нее скрывали («Да и хорошо, а то ведь тебя в тюрьму тогда засуждали, не выдержать бы мне всего-то враз»), и о том, что председательствует теперь в колхозе вместо Пилюгина она («Это секретарь райкома Дорофеев взял да опрокинул на меня весь колхоз. Хитрый он, горе горем, дескать, свету белого теперь не видишь, а вот еще бери воз да и вези… И, Мишенька, какой я там председатель, ничего-то покуда не умею, а вот только сейчас поняла – без воза-то этого, однако бы, я до смертности от горя и скукожилась и детишек осиротила. Выходит, спас он не только меня. А дела в колхозе вести обучусь я, Миша, отцу нашему пусть спокойно там лежаться будет…»).
Слезы, которые она пролила над этим письмом, были какие-то не тяжелые, облегчающие. И были они едва ли не последними за всю ее такую несладкую жизнь. Даже когда лютой гибелью погибли Захар с Зойкой, когда она глядела на их общий могильный холмик, еще свежий и черный, глаза Кати были сухими, только бессмысленными и холодными, как давняя зола, а на лбу сошлась да больше так и не разгладилась глубокая складка. Кузнец Макеев и старый Андрон, стоявшие вместе с ней у могилы, видели, как несильный ветерок выбил у нее из-под платка и стал раздувать прибеленный белой известью клок волос.
Но все это случилось в сентябре, в самом конце его, когда на землю сыпались пересохшие желтые листья, похожие на луковую шелуху. А пока жизнь в Романовке текла внешне без всяких происшествий. Жить было также голодно, но определенно веселее, с фронта что ни день приходили новые радостные известия. Советские войска вели успешные бои по освобождению Белоруссии, Карелии, Прибалтики, Западной Украины. Немцы стремительно откатывались назад. Наши войска ежедневно освобождали десятки сел и городов, о чем каждое утро торжественно сообщалось по радио. Сенокос Катя провела быстро и легко, Дорофеев направил в Романовну несколько десятков баб и школьников старших классов. С зари до зари в лощинах меж холмов, по долинам ключей стоял людской гомон, нередко слышались песни. Раза три за лето объявлялся на колхозных угодьях и сам Дорофеев. Приезжал он на знакомом своем ходке, был без шинели, но в толстом суконном пиджаке – несмотря на жаркие дни, он все же постоянно чувствовал озноб, болезненно поеживался, но глубоко запавшие глаза его глядели весело, а при разговоре с Катей исхудавшее лицо освещала добрая, похожая на отцовскую, улыбка.
– Славно, славно, Катерина Даниловна! – говорил он, кивая на стога и скирды. – А говорила, не еправлюсь, ишь напластали сена-то.
– Да с вашей помощью.
– Ну, помогать и бог горазд. А дело люди делают. Ежели и уборку так проведешь – окончательно колхоз на ноги поставишь.
Уборку… А живот-то давно уже нельзя было скрыть, как раз, высчитала Катя, и придутся на уборку самые последние месяцы, где-то в конце ноября родить. Но Дорофеев будто не замечал, что она беременна. И романовские бабы не видели ее живота, они стали послушнее, все ее распоряжения выполнялись теперь беспрекословно. Да Катя и не распоряжалась, просто говорила, что надо сделать, и все делалось и выполнялось на совесть, проверять ни за кем не было надобности. И еще каждая бабенка старалась чем-нибудь да угодить Кате, оказать ей какую-нито услугу. Вечерами, когда она, измотавшись за длинный летний день, приезжала домой, в комнатах было прибрано, и растопка припасена, и вода наношена, нередко и полы помыты. Все это делали и старшие дети, Захар с Николаем даже полы мыли, но мыли, да не так, как говорится, по углам грязь размазывали, а тут все бывало вычищено и выскоблено женской рукой. Сперва Кате всеэто как-то в глаза не бросалось, но однажды она с удивлением вдохнула посвежевший воздух в своем доме, оглядела еще влажный пол и спросила у бабки Андронихи:
– Кто?
– Чего? – не поняла старуха…
– Хозяйничает тут у меня? Не ты ж полы помыла…
– А-а… Да ладно тебе, – махнула рукой Андрониха. – Намаялась, так вот молочка попей да ложися давай, а я побегу старика своего кормить.
Когда старуха ушла, Катя распытала детей. Оказывается, то Марунька-счетоводиха, то кладовщица Легостаиха, то еще кто-нибудь из баб объявляются в их доме и делают то да се, что бабка Андрониха укажет. А сегодня полы вымыла тетка Василиха.
Лежа в кровати, Катя чувствовала теплый комок в горле, никак не могла его проглотить. Сон ее долго не брал, она все думала, да где же эти бабенки, замотанные до смертельной усталости и колхозной работой, и своими домашними делами, находят еще силы помочь ей, в сущности, чужому им человеку, и, главное, что их заставляет это делать? Вот даже Василиха, вечно хмурая и нелюдимая, обозлившаяся на всех за несправедливое подозрение на нее в гибели Ксении Тихомиловой, носит в душе-то человеческое тепло, не растеряла его. Она не растеряла, старая бабка Андрониха тоже, и Марунька-счетоводиха, и Легостаиха, и другие. А ведь ни у кого сладкой жизни не было, колотила их жизнь без жалости, да не могла выколотить всю душу напрочь, заморозить все на усух и никогда не выколотит, не заморозит, вечно в человечьей душе будет теплиться что-то живое, иначе бы и жизнь прекратилась, кончилась. Как бы там ни было тяжко каждой в отдельности и всем вместе, никто, даже Василиха, до самого-то края, оказывается, не ожесточился и в самый необходимый момент поворачивается к другому, чтоб поддержать на ногах. Потому-то крохотный их колхозишко живет, и хлебушко сеет, и молоко сдает, и скотину на мясо выращивает. Всего понемногу, конечно, да ведь и это все на фронт идет, себе то на трудодни ничего какой год не берется. Пусть малая, да помощь в той беде, какая на землю родимую свалилась. И вот, кажись, беда на убыль идет, недалеко, говорят в газетах и по радио, победа, да какой ценой за нее уже заплачено! Сожрала проклятая война и ее отца, и Степана Тихомилова, и мужа Маруньки-счетоводихи, и немыслимую тьму мужей, братьев, сыновей, женихов других женщин на земле. А сколько еще сожрет? Тает вот на глазах добрый и умный человек Дорофеев, никто вслух не говорит, что близок его конец, да никто в том и не сомневается. А сколько еще здоровья унесет она, подумать, у тех же романовских бабенок, сколько годков жизни отобрала уже и еще отберет у каждой? Господи, как же она, Катя, мало еще знала этих исхудавших вконец людей, которые и на женщин-то уже непохожи, и что она должна сделать для того, чтоб отплатить им за их немыслимо тяжкий труд, за их вот такую, будто даже стыдливую, не выставляемую напоказ человечью заботу и теплоту?
Катя только задавала себе мысленно все эти вопросы, а ответа на них не искала, нечего было искать, ибо они были ясны и понятны. Она чувствовала, как горят в темноте ее щеки, как сладко отдыхает натруженное за день тело, забыв на эти минуты, что внутри у нее живет новая жизнь, зачавшаяся помимо ее воли от ненавистного человека, а потому, как она всегда считала, жизнь чужая и ненужная ей.
* * *
Однажды перед вечерней зарей в домишко Кати пришел хромоногий Петрован Макеев, поздоровался и сказал ребятишкам:
– Ну-к, побегайте еще малость на улке. У меня с вашей мамкой разговор будет.
– Ты чего это, Петрован? – удивилась Катя.
– Предложеньице одно есть к тебе, – спокойно сказал кузнец.
Когда дети послушно друг за другом вытекли за дверь, Петрован, видно не один раз продумавший весь разговор, с которым пришел, сразу же и начал:
– Ты, Катерина, не загорайся только огнем, как уголья в моем горне, а послушай да решай, как тебе способнее. С брезгливостью, чего ж тут не понять, плод-то его в себе носишь… А скоро, понятно, и появится дите на свет божий.
Хоть Макеев и просил ее не загораться огнем, но Катя вся с головы до ног полыхнула пламенем, кровь заколотила ей тычками в голову, никто никогда и намеком не намекал, будто ничего и не видел, на ее беременность, а Петрован Макеев вот в открытую резанул.
– Да тебе-то что? Тебе-то что?! – дважды прокричала она с ненавистью.
– А то, что давай я отцом его скажусь.
Катя так и осела.
– А что ж тут, Катерина, хитрого, – продолжил между тем кузнец. – Человек ты живой, ну и проявила однажды слабость, и произошло меж нами дело…
Катя отчетливо слышала его слова, понимала весь их смысл, и этот смысл не оскорблял, а, наоборот, успокаивал весь ее гнев. Глаза ее заблестели, но слезами не пролились – не было больше у Кати слез – ни горестных, ни благодарственных. Она долго сидела безмолвная, понимая, что добрый этот человек от доброты и пришел со своим необычным предложением, не имея никакой грязной или корыстной мысли за душой. И чтобы окончательно убедить себя в этом, спокойно уже проговорила:
– Ты что ж… свататься пришел?
– А тут, Катерина, надо, если хочешь, тебе самой и поразмыслить кругом, – не торопясь и негромко заговорил Макеев, не стесняясь, оглядел ее всю, – Вишь, какой с тобой поворот-то вышел, думай, так не придумаешь. Я так, не обессудь, размышляю – каково бы Степану было, вернись он… Может, понял бы, а может, и нет, чего с тобой произошло. Оно жалко Степана, да, может, и для него, и для тебя лучше, что он…







