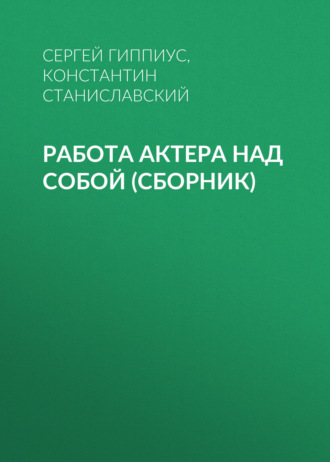
Константин Станиславский
Работа актера над собой (сборник)
– А что тогда будет-то?
– Будет то, что у вас закружится голова от нескольких моментов неожиданного и полного слияния жизни изображаемого лица с вашей собственной жизнью на сцене. Произойдет то, что вы почувствуете частицы себя в роли и роли в себе.
– А после что?
– То, что я уже вам говорил: правда, вера, «я есмь» отдадут вас во власть органической природы с ее подсознанием.
Работу, аналогичную той, которую проделал Названов на предпоследнем уроке, можно повторить, начав творчество с любого из «элементов сценического самочувствия». Вместо того чтоб начинать, как Названов, с ослабления мышц, можно обратиться к помощи воображения и предлагаемых обстоятельств, хотения и задачи, если она выяснена, эмоции, если она сама собой зажглась, представления и суждения; можно подсознательно почувствовать в произведении писателя правду, и тогда сами собой создадутся вера и «я есмь». Важно, чтобы во всех этих случаях вы не забывали доводить первый зародившийся и оживший элемент самочувствия до полного, предельного оживления. Вы знаете, что стоит проделать эту творческую работу с одним из элементов, и все остальные, по неразрывной связи, существующей между ними, потянутся вслед за первым.
Только что объясненный мною сознательный прием возбуждения подсознательного творчества нашей органической природы не является единственным. Есть другой, но сегодня я не успеваю вам демонстрировать его. Поэтому до следующего раза.
______________ 19__ г.
– Шустов и Названов, – обратился к нам Аркадий Николаевич, войдя в класс, – сыграйте начало сцены Яго и Отелло, только самые первые фразы.
Мы приготовились, сыграли, и, казалось, не как-нибудь, а с хорошей сосредоточенностью, при правильном внутреннем сценическом самочувствии.
– Чем вы были заняты сейчас? – спросил нас Торцов.
– Ближайшей задачей, то есть тем, чтобы привлечь на себя внимание Названова, – ответил Паша.
– А я был занят тем, чтобы вникать в слова Паши, равно как и тем, чтоб увидеть внутренним зрением о чем он мне говорил, – объяснил я.
– Таким образом, один из вас привлекал на себя внимание другого для того, чтобы привлекать внимание другого, а второй старался вникать и увидеть то, о чем ему говорят, для того, чтобы вникать и увидеть то, о чем ему говорят.
Нет! Почему же… – протестовали мы. – Потому что только что и могло произойти при отсутствии сквозного действия и сверхзадачи пьесы и ролей. Без них можно только привлекать внимание ради привлечения внимания или вникать и видеть ради вникания и видения.
Теперь повторите то, что вы только что сыграли, и захватите следующую сцену, в которой Отелло шутит с Яго.
– В чем состояла ваша задача? Торцов, когда мы кончили играть.
– В dolce far niente (приятном ничегонеделании), – ответил я.
– А куда девалась прежняя задача: «стараться понять собеседника»?
– Она вошла в новую, более важную задачу и растворилась в ней.
– Припомните, по свежим следам, как вы выполнили обе задачи и как вы говорили словесный текст роли в сыгранных двух кусках, – предложил Аркадий Николаевич.
– Как я выполнял и что говорил в первом куске – помню, а во втором – не помню.
– Значит, он сам собой выполнился, и текст его сам собой сказался, – решил Торцов.
– По-видимому – да.
– Теперь повторите только что сыгранное и захватите следующую часть, то есть первое недоумение будущего ревнивца.
Мы исполнили приказание и неуклюже определили нашу задачу словами: «смеяться над нелепостью клеветы Яго».
– А куда девались прежние задачи: «понимать слова собеседника» и «dolce far niente»?
Я хотел было сказать, что они тоже поглотились попои, более крупной задачей, но задумался и ничего не ответил.
– В чем дело? Что вас смутило?
– То, что в этом месте одна линия роли – линия счастья обрывается и начинается новая линия – линия ревности.
– Она не обрывается, – поправил меня Торцов, – а начинает постепенно перерождаться в связи с изменившимися предлагаемыми обстоятельствами. Сначала линия проходила короткую полосу блаженства новобрачного Отелло, его шуток с Яго, потом наступило удивление, недоумение, сомнения, отталкивания надвигающегося несчастья; потом ревнивец сам себя успокоил и вернулся к прежнему состоянию блаженства и счастья.
Такие переходы настроения мы знаем и в действительности. Там тоже – жизнь течет счастливо, потом вдруг вторгается сомнение, разочарование, горе, и снова все проясняется.
Не бойтесь этих переходов, напротив, любите, оправдывайте, обостряйте их контрастами. В данном примере не трудно это сделать. Стоит вспомнить то, что было раньше, в начале любовного романа Отелло и Дездемоны, стоит мысленно пережить это счастливое прошлое влюбленных и после мысленно перейти к контрасту, сравнить его с тем ужасом и адом, который пророчит мавру Яго.
– Что же вспоминать-то в прошлом? – опять запутался Вьюнцов.
– Чудесные первые встречи влюбленных в доме Брабаицио, красивые рассказы Отелло, тайные свидания, похищение невесты и свадьбу, расставание в брачную ночь, встречу на Кипре под южным солнцем, незабываемый медовый месяц. А потом в будущем… сами для себя подумайте о том, что ждет Отелло в будущем.
– Что же в будущем-то?..
– Все то, что случилось, по адской интриге Яго, в пятом акте.
При сопоставлении двух крайностей прошлого и будущего станут понятными предчувствия и недоумения насторожившегося мавра. Выяснится и отношение творящего артиста к судьбе изображаемого им человека. Чем ярче будет показан счастливый период жизни мавра, тем сильнее вы передадите потом мрачный конец. Теперь идите дальше! – приказал Торцов.
Так мы прошли всю сцену, вплоть до знаменитой клятвы Яго, даваемой им небу и звездам: «Посвятить ум, волю, чувство, все – на службу оскорбленному Отелло».
– Если проделать такую работу по всей роли, – объяснял Аркадий Николаевич, – то малые задачи сольются друг с другом и образуют ряд крупных. Они окажутся не многочисленными. Расставленные в длину пьесы, эти задачи, точно знаки фарватера, будут намечать линию сквозного действия. Нам важно теперь понять, то есть почувствовать, что процесс вбирания в себя мелких задач большими производится подсознательно.
Зашла речь о том, как назвать первую большую задачу. Никто из нас, ни сам Аркадий Николаевич, не смогли сразу решить вопрос. Впрочем, это неудивительно: верная, живая, увлекательная, а не просто рассудочная, формальная задача не приходит сама собой, сразу. Она создается творческой жизнью на сцене, на протяжении работы над ролью. Мы еще не познали этой жизни, и потому нам не удалось верно определить ее внутреннюю сущность. Тем не менее кто-то дал ей неуклюжее название, которое мы приняли, за неимением лучшего: «Хочу боготворить Дездемону – идеал женщины; хочу служить ей и отдать ей всю жизнь».
Когда я вдумался в эту большую задачу и по-своему оживил ее, то понял, что она помогла мне внутренне обосновать всю сцену и отдельные куски роли. Я почувствовал это, когда начал прицеливаться в какой-то момент игры к поставленной конечной цели: «боготворения Дездемоны – идеала женщины».
Направляясь к конечной цели от своих прежних маленьких задач, я чувствовал, как данные им наименования теряли смысл и свое назначение. Вот, например: возьмем первую задачу – «стараться понять то, что говорит Яго». Зачем нужна эта задача? Неизвестно.
Чего стараться, когда все ясно: Отелло влюблен, думает только о Дездемоне, хочет говорить только о ней. Поэтому всякие расспросы и собственные воспоминания о том, что касается милой, ему нужны и отрадны. Почему? Да потому что «он боготворит Дездемону – идеал женщины», потому что «он хочет служить ей и отдать ей всю жизнь».
Беру вторую задачу – «dolce far niente». И эта задача не нужна, мало того – она неверна: говоря о милой, мавр делает самое важное для него дело, которое ему необходимо. Почему? Да потому, что «он боготворит Дездемону – идеал женщины», потому что «он хочет служить ей и отдать ей всю жизнь».
После первой клеветы Яго мой Отелло, как я его понимаю, расхохотался. Ему приятно сознавать, что никакая грязь не может очернить кристальной чистоты его богини. Это убеждение привело мавра в прекрасное состояние и усилило преклонение перед нею. А почему? Да потому, что «он боготворит Дездемону – идеал женщины», и так далее. Я понял, с какой постепенностью в нем зарождается ревность, как незаметно ослабевает его уверенность в идеале, как растет и крепнет сознание присутствия в милой коварства, разврата, змеиной хитрости, гада в ангельском облике.
– А куда же девались прежние задачи? – допытывался Аркадий Николаевич.
– Они поглотились одной заботой о гибнущем идеале.
– Какой же вывод можно сделать из сегодняшнего опыта? Каков результат урока? – спросил Аркадий Николаевич.
Результат тот, что я заставил исполнителей сцены Отелло и Яго познать на самой практике процесс вбирания в себя мелких задач большими.
В нем нет ничего нового. Я повторил только то, что говорил раньше, когда речь шла о кусках и задачах или о сверхзадаче и сквозном действии.
Важно и ново другое, а именно: Названов и Шустов познали на самих себе, как главная, конечная цель творчества отвлекает внимание от ближайшего, как мелкие задачи исчезают из плоскости внимания. Оказывается, что эти задачи становятся подсознательными и сами собой превращаются из самостоятельных в подсобные, подводящие нас к большим задачам. Названов и Шустов знают теперь, что чем глубже, шире и значительнее намеченная конечная цель, тем больше внимания она к себе привлекает, тем меньше возможности отдаться ближайшим, подсобным, малым задачам. Предоставленные самим себе, эти малые задачи, естественно, переходят в ведение органической природы и ее подсознания.
– Как вы сказали? – заволновался Вьюнцов.
– Я говорю: когда артист отдается намеченной большой задаче, он весь уходит в нее. В это время ничто не мешает органической природе действовать свободно, по своему усмотрению, сообразно со своими органическими потребностями и стремлениями. Природа берет в свое ведение все малые задачи, оставшиеся без призора, и с помощью их помогает артисту подходить к конечной, большой задаче, в которую ушло все внимание и сознание творящего.
Вывод из сегодняшнего урока тот, что большие задачи являются одними из лучших психотехнических средств, которые мы ищем для косвенного воздействия на душевную и органическую природу с ее подсознанием.
После довольно долгой паузы раздумья Аркадий Николаевич продолжал:
– Совершенно такое же превращение, какое вы только что наблюдали на маленьких задачах, происходит и с большими, лишь только во главе их появляется всеобъемлющая сверхзадача пьесы. Служа ей, большие задачи тоже превращаются в подсобные. Они в свою очередь тоже становятся ступенями, подводящими нас к основной, всеобъемлющей, конечной цели. Когда внимание артиста целиком захвачено сверхзадачей, то большие задачи тоже выполняются в большой мере подсознательно.
Сквозное действие, как вам известно, создается из длинного ряда больших задач. В каждой из них огромное количество маленьких задач, выполняемых подсознательно.
Теперь спрашивается: сколько же моментов подсознательного творчества скрыто во всем сквозном действии, пронизывающем от начала до конца всю пьесу?
Их окажется огромное количество. Сквозное действие является могущественным возбудительным средством, которое мы ищем для воздействия на подсознание.
Подумав немного. Торцов продолжал:
– Но сквозное действие создается не само по себе. Сила его творческого стремления находится в непосредственной зависимости от увлекательности сверхзадачи.
Последняя тоже таит в себе возбудительные свойства для зарождения подсознательных творческих моментов.
Прибавьте их к тем, которые рождены и скрываются в сквозном действии, и тогда вы поймете, что наиболее могущественными манками для возбуждения подсознательного творчества органической природы являются сверхзадача и сквозное действие.
Пусть полный охват их, в самом глубоком и широком смысле слова, при каждом сценическом творчестве, сделается главной мечтой каждого творящего артиста.
Если это случится, то остальное выполнится подсознательно самой чудодейственной природой.
При этом условии каждый спектакль, каждое повторное творчество будут выполняться непосредственно, искренне, правдиво, а главное, неожиданно разнообразно. Только тогда можно будет избавиться в искусстве от ремесла, от штампов, от трюков, от всякого налета отвратительного актерства. Только тогда на сцене появятся живые люди и вокруг них подлинная жизнь, очищенная от всего засоряющего искусство. Эта жизнь будет возникать почти заново каждый раз, при каждом повторении творчества.
Мне остается посоветовать вам неустанно пользоваться сверхзадачей как путеводной звездой. Тогда и все сквозное действие пьесы и роли выполнится легко, естественно и в большой мере – подсознательно. После новой паузы Торцов продолжал:
– Подобно тому как сверхзадача и сквозное действие поглощают все большие задачи и делают их подсобными, так точно сверх-сверхзадача и сверх-сквозное действие всей жизни человека-артиста поглощают сверхзадачи пьес и ролей его репертуара. Они становятся подсобными средствами, ступенями при выполнении главной жизненной цели.
– Хорошо ли это для спектакля? – усомнился Шустов.
– Плохо, если перевешивает рассудочная сторона, и хорошо, когда воздействие происходит с помощью художественных средств.
Теперь вы узнали, что такое сознательная психотехника. Она умеет создавать приемы и благоприятные условия для творческой работы природы и ее подсознания.
Думайте же о том, что возбуждает наши двигатели психической жизни, думайте о внутреннем сценическом самочувствии, о сверхзадаче и сквозном действии, словом, обо всем, что доступно сознанию. С их помощью учитесь создавать благоприятную почву для подсознательной работы нашей артистической природы. Но никогда не думайте и не стремитесь прямым путем к вдохновению, ради самого вдохновения. Это приводит только к физическим потугам и к обратным результатам.
______________ 19__ г.
– Кроме сознательной психотехники, подготовляющей почву для подсознательного творчества, мы часто встречаемся во время сценического выступления с простой случайностью. Ею также нужно уметь пользоваться, но для этого необходима соответствующая психотехника.
Вот, например: Малолеткова, вспомните ваше «Спасите!» на показном спектакле и расскажите, что вы испытали в эти несколько секунд эмоциональной вспышки?
Малолеткова молчала, потому что, вероятно, у нее осталось сумбурное воспоминание о первом выступлении.
– Попробую припомнить за вас, что было тогда, – пришел ей на помощь Аркадий Николаевич. – Сиротку, которую вы изображали, выбросили на пустую улицу, и одновременно вас, ученицу Малолеткову, вытолкнули, одну, на огромную площадку пустой сцены, перед страшной пастью черной дыры портала. Страх пустоты, одиночества сиротки и ученицы-дебютантки смешались друг с другом по сходству и смежности. Приняв пустоту сцены за пустоту улицы, а свое собственное одиночество за одиночество выброшенной из дома сиротки, вы закричали «спасите» с таким непосредственным и искренним ужасом, какой мы знаем только в реальной действительности. Это было случайное, но счастливое совпадение по сходству и смежности условий.
Опытный актер с соответствующей психотехникой воспользовался бы счастливой случайностью с пользой для своего искусства. Он сумел бы переработать испуг человека-артиста в испуг человеко-роли. Но в вас, по неопытности и отсутствию психотехники, человек победил артистку. Вы изменили творчеству, прервали игру и спрятались за кулисами.
Потом Аркадий Николаевич обратился ко мне и сказал:
– Не испытали ли и вы того состояния, о котором мы говорили теперь? Не было ли и у вас, на сцене, случайного совпадения с ролью по сходству и смежности?
– По-моему, в сцене «Крови, Яго, крови!».
– Да, – согласился Торцов. – Вспомним, что произошло тогда.
– Сначала я закричал слова роли не от имени Отелло, а от своего собственного, – вспоминал я. – Но это был крик отчаяния провалившегося актера. Свой вопль я отнес к себе, но он заставил меня вспомнить об Отелло, о трогательном рассказе Пущина, о любви мавра к Дездемоне. Я принял свое отчаяние человека-артиста за отчаяние человеко-роли, то есть Отелло. Они перепутались в моем представлении, и я произнес слова текста, не отдавая себе отчета, от чьего имени они говорятся.
– Очень может быть, что на этот раз произошло что-то вроде совпадения по смежности и сходству, – решил Торцов.
После паузы Аркадий Николаевич продолжал:
– Мы имеем дело на практике не только с такого рода случайностями. Нередко в условную жизнь на сцене точно влетает из подлинной, реальной жизни простой внешний случай, не имеющий ничего общего с пьесой, ролью и спектаклем.
– Что же это за внешний случай? – спрашивали ученики.
– Хотя бы, например, тот же упавший нечаянно платок или стул, о котором я вам как-то говорил.
Если артисты, находящиеся на сцене, чутки, если они не испугаются и не отвернутся от этого случая, а, напротив, включат его в пьесу, то он явится для них камертоном. Он даст верную жизненную ноту среди условной, актерской лжи на сцене, он напомнит о подлинной правде, потянет за собой всю линию пьесы и заставит поверить и почувствовать на сцене то, что мы называем «я есмь». Все вместе подведет артиста к подсознательному творчеству его природы.
Как совпадениями, так и случаями надо пользоваться на сцене мудро, не пропускать, любить их, но не основывать на них своих творческих расчетов.
Это все, что я могу сказать вам о сознательной психотехнике и о случайностях, возбуждающих подсознательное творчество. Как видите, пока мы небогаты соответствующими сознательными приемами. В этой области нам предстоит еще большая работа и искание. Тем больше следует дорожить уже найденным.
______________ 19__ г.
На сегодняшнем уроке я до конца прозрел, понял все и сделался самым ярым поклонником «системы». Я видел, как сознательная техника создает подсознательное творчество, которое само вдохновляет. Дело было так:
Дымкова сыграла этюд «с подкидышем», который когда-то так великолепно исполняла Малолеткова.
Надо знать, почему Дымкова имеет такое пристрастие к детским сценам вроде «сцены с пеленками» из «Бранда» и нового этюда: она недавно потеряла единственного, обожаемого сына. Мне об этом сказали по секрету, как слух. Но сегодня, смотря ее исполнение этюда, я понял, что это была правда.
Во время игры слезы ручьями лились из ее глаз, а материнская нежность Дымковой сделала то, что полено, заменявшее ребенка, превратилось для нас, смотревших, в живое существо. Мы его чувствовали в скатерти, изображавшей пеленки. Когда дело дошло до момента смерти, пришлось прекратить этюд во избежание катастрофы: так бурно протекало переживание у Дымковой.
Все были потрясены. Аркадий Николаевич плакал, Иван Платонович и все мы – тоже.
О каких манках, линиях, кусках, задачах, физических действиях можно говорить, когда налицо сама подлинная жизнь.
– Вот вам пример того, как творит природа, подсознание! – говорил Торцов в восторге. – Они творят строго по законам нашего искусства, так как эти законы не выдуманы, а даны нам самой этой природой.
Но такое наитие и провидение посылаются нам не каждый день. В другой раз они могут не прийти, и тогда…
– Нет, они придут! – воскликнула в экстазе Дымкова, случайно подслушав разговор.
Точно боясь того, что вдохновение ее покинет, она бросилась повторять только что сыгранный этюд.
Щадя молодые нервы, Аркадий Николаевич хотел остановить ее, но скоро она сама остановилась, так как у нее ничего не вышло.
– Как же быть? – спросил ее Торцов. – Ведь от вас в будущем потребуют, чтобы вы хорошо играли не только в первое, но и во все последующие представления. Иначе пьеса, имевшая успех на премьере, провалится на других спектаклях и перестанет давать сборы.
– Нет! Мне надо только почувствовать, тогда я сыграю, – оправдывалась Дымкова.
– «Когда я почувствую, я сыграю»! – смеялся Торцов. – Разве это не то же самое, что сказать: «Когда я выучусь плавать, то начну купаться»?
Я понимаю, что вам хочется сразу подойти к чувству. Конечно, это лучше всего. Как было бы хорошо, если б можно было раз навсегда овладеть соответствующей техникой для повторения удавшегося переживания. Но чувства не зафиксируешь. Оно, как вода, уходит между пальцев… Поэтому волей-неволей приходится искать более устойчивого приема для воздействия на него и для его утверждения.
Выбирайте любой! Наиболее доступный и легкий – физическое действие, малая правда, малые моменты веры.
Но наша ибсенистка с брезгливостью отмахивается от всего физического в творчестве.
Перебирали все пути, по которым может идти артист: и куски, и внутренние задачи, и вымысел воображения. Но все они оказались недостаточно увлекательны, мало устойчивы и доступны.
Как ни вертелась Дымкова, как ни обходила физические действия, ей в конце концов пришлось остановиться на них, так как ничего лучшего она не могла предложить. Торцов скоро направил ее. При этом он не искал новых физических действий. Он старался заставить ее повторить те, которые она только что интуитивно нашла и так блестяще проделала.
Дымкова играла – хорошо, с правдой и верой. Но разве такое исполнение можно сравнить с тем, что было в первый раз?!
Аркадий Николаевич сказал ей так:
– Вы играли прекрасно, но только не тот этюд, который вам назначен. Вы подменили объект. Я просил вас исполнить сцену с живым подкидышем, а вы дали мне сцену с мертвым поленом в скатерти. К нему были приноровлены ваши физические действия: вы ловко, умелой рукой завертывали деревяшку. Но уход за живым ребенком требует многих подробностей, которые сейчас вы откинули. Так, например, первый раз, прежде чем пеленать воображаемого младенца, вы расправили ему ручки, ножки, вы их чувствовали, вы их с любовью целовали, вы что-то нежно приговаривали, улыбаясь, со слезами на глазах. Это было трогательно. Но сейчас эти детали оказались пропущенными. Да и понятно – у полена нет ни ножек, ни ручек.
Первый раз, обертывая головку воображаемого малютки, вы очень заботились о том, чтобы не сдавить щечек, и старательно выправляли их. Запеленав младенца, вы долго стояли над ним и в три ручья плакали от материнской радости и гордости.
Давайте же исправлять ошибки. Повторите мне этюд с ребенком, а не с поленом.
После долгой работы с Торцовым над малыми физическими действиями Дымкова наконец поняла и вспомнила сознательно то, что подсознательно делала при первом исполнении… Она почувствовала ребенка, и слезы сами потекли из ее глаз.
– Вот вам пример влияния психотехники и физического действия на чувство! – воскликнул Аркадий Николаевич, когда Дымкова кончила играть.
– Так-то оно так, – сказал я разочарованно, – но и на этот раз у Дымковой не было потрясения, и потому ни я, ни вы не прослезились.
– Не беда! – воскликнул Торцов. – Раз почва подготовлена и у актрисы зажило чувство, потрясение придет, стоит только найти ему выход в виде зажигательной задачи, магического «если бы» или другого «катализатора». Не хочется только трепать молодых нервов Дымковой. Впрочем… – сказал он после некоторого раздумья и обратился к Дымковой:
– Что бы вы сделали сейчас с этим поленом в скатерти, если бы я ввел вам такое магическое «если бы»? Представьте себе, что у вас родился ребенок, очаровательный мальчишка. Вы страстно привязались к нему… Но… он через несколько месяцев внезапно скончался. Вы не находите себе места на свете. Но вот судьба сжалилась над вами. Вам подкинули младенца, тоже мальчика, и еще более очаровательного, чем первый.
Не в бровь, а прямо в глаз!
Едва Аркадий Николаевич успел закончить свой вымысел, как Дымкова сразу разрыдалась над поленом в скатерти, и… потрясение повторилось с удвоенной силой.
Я бросился к Аркадию Николаевичу, чтобы объяснить ему секрет происшедшего: ведь он точно угадал действительную драму Дымковой.
Торцов схватился за голову, побежал к рампе, чтобы остановить бедную мать, но залюбовался тем, что она делала на сцене, и не решился прервать ее игру.
По окончании этюда, когда все успокоились и вытерли слезы, я подошел к Аркадию Николаевичу и заметил:
– Не находите ли вы, что Дымкова переживала сейчас не вымысел воображения, а действительность, то есть свое личное, человеческое, житейское горе? Поэтому то, что сейчас произошло на сцене, по-моему, следует признать результатом случайности, совпадения, а не победой артистической техники, не творчеством, не искусством.
– А то, что она делала в первый раз, было искусством? – переспросил меня Торцов.
– Да, – признался я. – Тогда было искусство.
– Почему?
– Потому что она сама, подсознательно вспомнила свое личное горе и зажила от него.
– Значит, вся беда в том, что я напомнил и подсказал ей то, что хранится в ее эмоциональной памяти, а не она сама нашла это в себе, как в прошлый раз. Не вижу разницы в том, сам ли артист воскрешает в себе свои жизненные воспоминания, или он это делает с помощью напоминания постороннего лица. Важно то, чтобы память хранила и при данном толчке оживляла пережитое. Нельзя не верить органически, всем своим телесным и душевным существом тому, что хранится в собственной памяти.
– Хорошо, допустим, что так. Но вы должны признать, что Дымкова зажила сейчас не от физических задач, не от их правды и веры, а от магического «если бы», вами подсказанного ей.
– А разве я это отрицаю? – прервал меня Аркадий Николаевич. – Все дело почти всегда в вымысле воображения и в магическом «если бы». Но только надо уметь вовремя ввести «катализатор».
– Когда же?
– А вот когда! Пойдите и спросите Дымкову, зажглась ли бы она от моего магического «если бы», пусти я его в ход раньше, пока она, как при втором исполнении, холодно завертывала в скатерть полено, пока она еще не чувствовала ни ножек, ни ручек подкинутого ребенка; пока она не расцеловала их; пока не спеленала вместо уродливой деревяшки живое и прекрасное существо, которым она заменила полено. Я убежден, что до этого превращения мое сопоставление грязной деревяшки с ее красавцем-малюткой только оскорбило бы ее. Конечно, она бы расплакалась от случайного совпадения моего вымысла с тем горем, которое она испытала в жизни. Это живо напомнило бы ей смерть сына. Но такой плач – плач об умершем, тогда как для сцены с подкидышем мы ждем плача по покойному, перемешанного с радостью о живом.
Мало того, я уверен, что до мысленного превращения мертвой деревяшки в живое существо Дымкова с отвращением оттолкнула бы от себя полено и отошла бы от него подальше прочь. Там, в стороне, наедине с собой и со своими дорогими воспоминаниями, она пролила бы обильные слезы. Но и это были бы слезы о покойном, а не те, которые нам нужны, которые она дала при первом исполнении этюда. Вот после того как она опять увидела и мысленно ощутила ножки, ручки ребенка, после того как она облила его слезами, Дымкова заплакала так, как нужно для этюда, как она сделала это в первый раз, то есть слезами радости о живом.
Я угадал момент и вовремя бросил искру, подсказал магическое «если бы», которое совпало с самыми глубокими и сокровенными ее воспоминаниями. Тут произошло подлинное потрясение, которое, надеюсь, вас вполне удовлетворило.
– Не значит ли все это, что Дымкова галлюцинировала во время игры?
– Нет! – замахал руками Торцов. – Секрет только в том, что она поверила не факту превращения полена в живое существо, а тому, что случай, изображенный в этюде, мог бы произойти в жизни и что он принес бы ей спасительное облегчение. Она поверила на сцене подлинности своих действий, их последовательности, логике, правде; благодаря им ощутила «я есмь» и вызвала творчество природы с ее подсознанием.
Как видите, прием подхода к чувству через правду и веру в физические действия и «я есмь» пригоден не только при создании роли, но и при оживлении уже созданного.
Большое счастье, что есть приемы для возбуждения созданных ранее чувствований. Без этого однажды осенившее артиста вдохновение являлось бы лишь для того, чтоб раз блеснуть и навсегда исчезнуть.
Я был счастлив и после урока пошел к Дымковой поблагодарить ее за то, что она мне воочию объяснила нечто очень важное в искусстве, в чем я еще не отдавал себе полного отчета.
______________ 19__ г.
– Давайте сделаем проверку! – предложил Аркадий Николаевич, войдя в класс.
– Какую проверку? – не понимали ученики.
– Теперь, после почти годовой работы, у каждого из вас создалось представление о сценическом созидательном процессе.
Попробуем сравнить это новое представление с прежним, то есть с представлением о театральном наигрыше, которое сохранилось в ваших воспоминаниях от любительских спектаклей или от публичного показа при поступлении в школу. Вот, например:
Малолеткова! Помните, как вы на первых уроках искали в складках занавеса дорогую булавку, от которой зависела ваша будущая судьба и дальнейшее пребывание в нашей школе? Помните, как вы тогда суетились, бегали, метались, старались наигрывать отчаяние и находили в этом артистическую радость? Удовлетворяет ли вас теперь такая «игра» и такое самочувствие на сцене?
Малолеткова задумалась, вспоминая прошлое, лицо ее постепенно расплывалось в насмешливую улыбку. Наконец она отрицательно покачала головой и молча засмеялась, по-видимому, над своим прежним наивным наигрышем.
– Вот видите, вы смеетесь. А над чем? Над тем, как прежде вы играли «вообще», все сразу, стремясь прямым путем к результату. Неудивительно, что при этом получался вывих, наигрыш образа и страстей изображаемой роли.
Теперь вспомните, как вы переживали этюд «с подкидышем» и как вы шалили и играли не с живым ребенком, а с поленом. Сравните эту подлинную жизнь на сцене и ваше самочувствие во время творчества с прежним наигрышем и скажите: удовлетворяет ли вас то, что вы познали за истекшее время в школе.
Малолеткова задумалась, ее лицо становилось серьезным, потом мрачным, в глазах мелькнула тревога, и она, ничего не сказав, многозначительно, задумчиво утвердительно кивнула головой.
– Вот видите, – говорил Торцов. – Сейчас вы не смеетесь, а при одном воспоминании готовы плакать. Почему же это так?
Потому что при создании этюда вы шли совсем другим путем. Вы не стремились прямо к конечному результату – поразить, потрясти зрителя, как можно сильнее сыграть этюд. В этот раз вы посеяли в себе семя и, идя от корней, постепенно выращивали плод. Вы шли по законам творчества самой органической природы.
Помните всегда эти два разных пути, из которых один неизбежно приводит к ремеслу, а другой – к подлинному творчеству и искусству.







