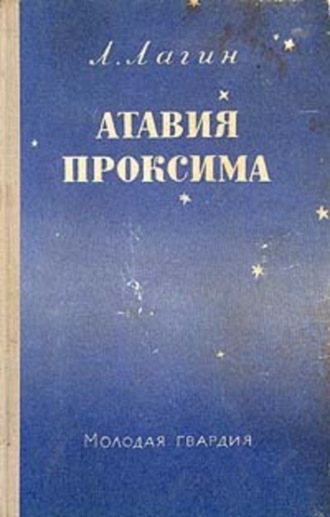
Лазарь Лагин
Атавия Проксима
– Видит бог, я предпочел бы коньяк, – небрежно протянул Обри, не упускавший случая показать, что он настоящий мужчина. – При подобных обстоятельствах единственное достойное пойло – коньяк.
– Вам предоставляется право подождать, пока из крана потечет коньяк, сказал Эксис. – А мы, люди не столь аристократического происхождения, смиренно пососем водицы.
– А верно, Обри, – сказал ближайший друг Обри Ангуста, Тампкин, который в коротких паузах между пребыванием в тюрьмах занимался мелкими железнодорожными кражами, а когда-то давным-давно, вернувшись с войны, два года безуспешно пытался разыскать работу по своей столярной специальности, – Кромман говорит дело. Как только потечет коньяк, мы тебя пропустим без очереди.
Послышался смешок. Больше всего Обри не любил оказываться в смешном положении. Он рассердился:
– Мне надоело играть в прятки. Отдайте мне мои спички. Я хочу видеть того, кто смеет говорить мне дерзости!..
– Мама, мне страшно! – хохотнул кто-то у самого уха Обри.
– И еще я хочу быть уверен, – Обри уже совсем потерял контроль над собой, – что я не пью из крана, из которого до меня сосал воду своими толстыми губами какой-нибудь вонючий черномазый. Отдайте мне спички. Я посвечу и напьюсь.
– Бедный Обри, тебе суждено умереть от жажды! – снова прорвало Билла Купера: его словно несло на крыльях. – Я уже напился из крана, а я ужас какой губастый негр!
– И я уже сосал, и я тоже негр, и тоже страсть какой губастый!
– И я губастый!..
– И я!
– А я такой чернокожий, что меня даже не видно, вот я какой черный! – заорали вокруг в диком восторге негры и белые, молодые и старые, рецидивисты и случайно влипшие в мелкую уголовщину, и совсем невинные. Уж очень им хотелось как-нибудь отвлечься от тяжкой действительности и заодно досадить этому высокомерному-и истеричному барчуку.
– А ну вас всех к черту! – сказал Обри, у которого хватило ума правильно оценить обстановку. – В таком случае и я негр. Не подыхать же мне в самом деле от жажды… Разгоготались, как гуси на ферме!
Он встал в длиннейший хвост, выстроившийся к крану, и когда, наконец, подошла его очередь, наглотался воды впрок.
Тем временем первая партия добровольцев под руководством Эксиса уже приступила к работе. Остальные приглашались пока что отдыхать и, во всяком случае, стараться поменьше двигаться. Каждое лишнее движение влекло за собой ненужную затрату кислорода. Кислород надо было беречь.
Работы продолжались без перерыва все утро, весь день, всю ночь. Каждые два часа люди молча сменялись, молча валились на холодный цементный пол и пытались заснуть. Но заснуть удавалось лишь немногим. Остальные, ворочаясь с боку на бок, перебрасывались скупыми фразами со своими невидимыми и большей частью незнакомыми товарищами по беде. Долгие сто двадцать минут они рядом, локоть к локтю сражались с мириадами невидимых обломков, которые плотно закупорили лестничную клетку, ведшую в часовню из внутренних помещений тюрьмы.
Это была адова работа – бег вперегонки со смертью в кромешном мраке и немыслимой тесноте. Ширина входной двери была метр сорок пять сантиметров. Фронт работы шириной в полторы сотни сантиметров! И притом ровным счетом никаких орудий труда. Пробовали расчленить деревянные стойки раскладушек и действовать этими жиденькими, хрупкими планочками как рычагами, но они ломались как спички. Работали голыми руками. Нащупывали крупный обломок, раскачивали его и, кровавя пальцы, выдергивали. Те, кто стоял позади, передавал обломок следующему, как арбузы на погрузке, покуда не сваливали в дальнем углу часовни, стараясь сэкономить каждый квадратный дюйм пола. Тем временем стоявшие в первом ряду успевали выдернуть новую глыбу. Время от времени потолок пещеры, которую они таким образом выковыривали в многометровом столбе щебня, начинал со скрежетом оседать, люди, натыкаясь друг на друга, отбегали в сторону, обломки с грохотом рушились на покрытую толстым слоем пыли нижнюю площадку, перед людьми в дверях снова вырастала сплошная стена щебня, и все начиналось сначала.
За два часа такой работы еле успеешь узнать, как зовут твоих соседей справа и слева и того, первого, кто стоит позади тебя, и уже, конечно, их голоса и их имена запоминались на всю жизнь. Они узнавали, что их соседей зовут, к примеру, Рок, или Том, или Жан, или Пат, или еще как-нибудь, и они на всю жизнь запоминали, что Жак, к примеру, работяга-парень и душевный человек и держит себя, как полагается мужчине в подобном жизненном переплете, а Рок, тот мог бы быть не такой тряпкой и нюней. Но вот белый или черный эти Жак и Рок, оставалось полнейшей тайной, за исключением тех, не так уже частых, случаев, когда рядом работали старые знакомые. И не то чтобы этот вопрос не интересовал людей даже в те страшные минуты, а всегда получалось так, что если сосед чем-либо тебе понравился, то белый склонен был считать его белым, а негр – негром, и, наоборот, в соседе, оказавшемся неважным человечком, белый безоговорочно признавал негра, а негр – белого. Но проверить эти догадки не было никакой возможности, тем более что, по мере того как человек втягивался в работу, его захватывали другие, куда более насущные вопросы, и человек не замечал, как начинал обращаться к своему соседу, уже не задумываясь больше над тем, каков цвет его кожи.
Само по себе и безо всякого уговора получилось, что единственным качеством, которое стало цениться в этой огромной братской могиле, стало то, как человек относится к работе, от которой сейчас зависело спасение, общее спасение, спасение всех без различия цвета кожи и сроков заключения. Это было совершенно удивительное ощущение, и, право же, не было ничего непонятного в том, что в первую очередь и острее других оно поразило и обрадовало негров да еще с десяток, никак не более, белых вроде доктора Эксиса.
А к исходу первых суток войны до сознания заживо погребенных в часовне дошла и другая не менее поразительная истина, которую, правда, далеко не всякий осмелился бы первым проверить: в этой кромешной тьме можно было откровенно говорить все, что думаешь, не опасаясь, что легавые тотчас же возьмут тебя на заметку.
Но хотя с каждым часом эта истина становилась все яснее и бесспорней, языки по-настоящему развязались только тогда, когда Кроккет утром следующего дня глянул на светящийся циферблат своих часов и сообщил, что уже начало одиннадцатого и что, следовательно, через несколько минут будет ровно двадцать четыре часа, как их здесь засыпало.
– Отрезаны от мира… как где-нибудь на дне океана, – пожаловался кто-то. – Что теперь там, на воле за эти сутки произошло?.. Кто скажет?..
– Не удивляюсь, если наши уже разгуливают по этому вонючему Пьенэму, охотно отозвался Кроккет. – Подумать только: хватило же у такой маленькой державы нахальства ввязываться с нами в драку! Моя бы воля, я бы эту Полигонию в порошок стер!
– Сразу видно, что тебе не грозит призыв в армию, – фыркнул Нокс. Какие вы все герои воевать чужими руками!
– Сам-то ты много воевал, как же! – наугад возразил ему Кроккет.
– Представь себе, повоевал. И мне за глаза хватит этого удовольствия.
– Печально слышать такие непатриотичные речи! – кротко вздохнул Кроккет.
– Есть вещи попечальней. Подумай лучше, во что превратился Кремп.
– Если вчера бомба попала в моих, я наложу на себя руки, – всхлипнул один из тех, кого взяли у аптеки Бишопа.
– Наложи их лучше на тех, кто затеял эту гнусную бойню, – посоветовал ему кто-то.
Прислушиваясь, Кроккет напрягал память, но голос был совершенно неизвестен ему.
Но Билл узнал голос. Это говорил Форд. Билла арестовали как раз на его квартире. Неплохой человек. Толковый негр.
– Я наложу на себя руки, и все! – упрямо повторил тот, первый, негр и разрыдался.
– Когда начинается война, я первым делом думаю о том, кому она принесет барыши, – сказал Эксис.
– Я знаю, что всю прошлую войну мой отец ни дня не пробыл безработным, – запальчиво выкрикнул тот самый тщедушный паренек, который в начале церковной службы сидел рядом с Обри. – Война, – это, если хочешь знать, всеобщая занятость населения, высокая зарплата и…
– …и бомбы, – ехидно досказал Форд.
– При чем тут бомбы! Я говорю не о бомбах, а о всеобщей занятости! Когда война ведется правильно, бомбы не должны падать на атавские города.
– Но падают же!
– Я только знаю, что всю прошлую войну мой отец ни дня не пробыл без работы.
– У нас вот здесь тоже никто не остался без работы… Целые сутки выбираемся из могилы…
– Я говорю о такой работе, за которую платят деньги!
– Дурак, Кромман думал не о тебе. Он подразумевал господчиков с толстыми бумажниками, – вступил в разговор еще кто-то.
– А я думаю о себе. Ты, верно, никогда не ходил безработным…
– Ну, конечно! Я прикатил сюда прямо с заседания биржевого комитета.
Кругом раздались смешки:
– Из биржи в тюрьму не попадают…
– Из биржи прямой путь в министры…
– Интересно, засыпало ли вчера господина Перхотта?
– Простофиля, Перхотт это не человек. Перхотт это фирма.
– Вот я и думаю, засыпало ли эту фирму при вчерашней бомбежке.
– Как бы тебе не пришлось подумать об этом на электрическом стуле, изменник, агент Москвы! – не выдержал Кроккет.
– С удовольствием съездил бы в Москву, честное слово! Если столько мерзавцев ругаются Москвой, значит это как раз тот самый город, который нужен порядочному человеку, – сказал Билл Купер.
– Очень дельная мысль, парень, как тебя там.
– Я же сказал, меня зовут Эксис.
– Ясно. Меня тоже.
– Я еще никогда не был таким свободным человеком, как в эти сутки! – восторженно прошептал Билл на ухо Ноксу и крепко стиснул ему руку.
– Чудачок! – отвечал ему истопник. – Настоящая свобода еще впереди.
– Когда еще она будет?
– Будет! Если хорошенечко бороться, то обязательно будет.
– Следующая партия! – выкрикнул настоящий Эксис. За эти сутки он не сомкнул глаз. – Пора сменять!
– Чего уж там сменять, Кромман? – печально возразил кто-то. – Нам осталось часа два жизни… Разве ты не чувствуешь, что воздух стал совсем густой. Его уже можно резать ножом…
Дышать действительно стало трудно.
– От того, что мы будем сидеть сложа руки, положение не улучшится.
– Не скажи. Все-таки хоть немножко оттянем свой последний час. Ты же сам говорил, что нужно экономить кислород…
– Он прав, Кромман. Встретим смерть как мужчины.
– Мужчины борются. Неужели все раскисли?
– Я не раскис, – сказал Билл Купер.
– Молодец! – сказал Эксис. – Как тебя зовут, дружище, если это не тайна?
– Меня зовут доктор Эксис, – ответил Билл.
– Молодец, доктор Эксис! А еще кто пойдет?
– И я не раскис, – заявили Нокс, и Тампкин, и еще десятка два. Большинство промолчало.
– Пока еще есть куда складывать щебень, будем бороться, – сказал Эксис.
Внезапно ощутимо дрогнул пол, зазвенели остатки стекол в оконных амбразурах, и оттуда, с воли донесся глухой грохот взрыва, второй, третий, десятый…
– Снова начинается… – внятно проговорил кто-то в наступившей тишине. И сразу застонали, завыли, запричитала те, у кого по ту сторону стены остались близкие.
– Молчать! – рассердился Эксис. – Воплями делу не поможешь.
Стало тихо. Только по-прежнему то и дело подпрыгивал под ногами холодный цементный пол да ухали глухие и тяжкие взрывы.
– Вдруг снова на нас грохнется бомба… – вполголоса, ни к кому не адресуясь, проговорил Тампкин.
– Успокойся, – сказал Нокс. – Еще не было случая, чтобы бомба дважды упала в одно и то же место.
– Ты в этом уверен?
– Как в самом себе.
– Все-таки хоть маленькое, да утешение… Продолжаем работать?
– Продолжаем, – сказал Нокс, стоявший рядом с Тампкином у самой двери. – Нащупал?
– Нащупал.
– Хватай ее снизу! Теперь давай раскачивать.
Но только они стали раскачивать очередную глыбу, как где-то совсем рядом земля вздрогнула, как при сильном землетрясении, и грохот чудовищного взрыва на мгновение оглушил всех.
Если бы Кроккет вздумал глянуть на часы, он увидел бы, что новый налет вражеской авиации на Кремп начался ровно через сутки после вчерашнего. Если бы он имел желание и время удивиться тому, что и второй налет начался с бомбежки района тюрьмы, то он, и не будучи военным специалистом, легко понял бы, что все дело было в том, что тюрьма находилась примерно на полпути между железнодорожной станцией и велосипедным заводом.
Но ни Кроккету, ни кому бы то ни было другому в часовне не было в тот миг дела ни до бомб, продолжавших сыпаться на Кремп, ни до ворвавшегося в мрачную часовню воя сирены, возвещавшего воздушную тревогу, ни до громких проклятий и стонов тех, кого только что стукнуло кусками обвалившейся потолочной штукатурки, – все были ослеплены неожиданно пронзившим подземелье лучом яркого дневного света – да, да, самого настоящего дневного света! – который вместе с живительным потоком свежего воздуха хлынул в подвал через образовавшуюся широкую щель в задней стене, возле водопроводного крана. Широким изломанным солнечным клином, похожим на застывшую молнию, она сверкала в очень толстой, потемневшей от времени и сырости кирпичной кладке, неожиданно ярко-алой по внутренней поверхности излома. Нижний конец этой молнии был чуть пошире спичечного коробка, зато наверху, под самым потолком, стена раздвинулась на добрые сорок сантиметров.
Секунды две-три люди в молчаливом восторге, не веря своему счастью, смотрели на трещину. Потом закричали «ура» и ринулись к ней, опрокидывая и топча все, что им попадалось на пути: амвон, стул перед фисгармонией, раскладушки, замешкавшихся товарищей, посуду с неприкосновенным запасом воды, которая теперь уже не потребуется.
– Стой! – заорал Кроккет. – Стой, стрелять буду! Надзиратели, задержать бегущих!
После суток полной тьмы яркая полоса солнечного света больно резала глаза, но Кроккет пялил их вовсю, чтобы не упустить тех, кто осмелится ослушаться его приказа.
– А из чего ты будешь стрелять, скотина? – спросил кто-то, оказавшийся, к несчастью для Кроккета, за его спиной.
Уже чей-чей голос, а этот Кроккет отлично знал – он принадлежал Маркусу Квиверу, арестанту, которому пошел уже седьмой десяток, а срока заключения оставалось еще больше семнадцати лет. Кроккет успел еще подумать, что это очень плохое соседство и что от него можно ожидать самого худшего, потому что еще один такой шанс удрать из тюрьмы у этого арестанта уже вряд ли представится. Он хотел обернуться, но не успел, потому что Квивер, которому нечего было терять, ударил его куском штукатурки по затылку, и свет снова надолго померк в крысиных глазках старшего надзирателя. Примерно таким же способом были на добрые полчаса выведены из строя и его помощники.
Тем временем у щели образовалась давка. Свирепо вытаращив глаза, обливаясь потом, оглашая часовню самыми нечестивыми ругательствами, вовсю орудуя кулаками, заключенные пробивались к заветной щели: надо было торопиться, пока продолжавшаяся бомбежка разогнала с улиц полицию и тюремную стражу.
– Опять негры вперед прут! – завопил плачущим голосом один из дружков Ангуста и кирпичом ударил по голове человека, уже наполовину залезшего в расщелину.
Человек обмяк. Его свирепо дернули за ноги, и он рухнул внутрь часовни на тех, кто пытался протиснуться любой ценой к щели. И тут все увидели, что это совсем не негр, а самый стопроцентный белый. Он был без сознания. Чтобы не задавить, его оттащили в сторонку.
Ну, конечно, Нокс был отчаянным человеком. После всего только что случившегося ему, негру, с которого вчера и драка началась, лезть к щели, да еще расталкивая белых, было безумием. А он лез так решительно и нахально, словно эта щель была входом в его собственный дом.
– Погодите! – крикнул он, заметив, что некоторые уже хватают обломки кирпичей. – Одну минуту внимания, и потом можете меня убивать, как самую последнюю собаку!
– Ну и нахал этот негр! – с восхищением воскликнул какой-то белый арестант.
И все рассмеялись.
– Наша свалка и драка на руку только Кроккету, вот что я хотел вам сказать. Если мы выстроимся в очередь, то выберемся из этого пекла в двадцать раз быстрее. Ну, а теперь кидайте в меня кирпичами!
– А этот негр, убей меня бог, совсем не дурак! – воскликнул тот же белый арестант с тем же изумлением…
Спустя четверть часа в часовне, кроме оглушенных надзирателей, осталось человек полтораста заключенных, которые не хотели бежать. У одних уже подходил к концу срок, у других были серьезные основания рассчитывать на помилование, а иные были слишком стары или немощны, чтобы скрываться от полиции.
Остался в часовне и Обри Август. У него, правда, было еще впереди около семи лет заключения, но он надеялся, что ему скосит срок в поощрение за то, что он не воспользовался возможностью убежать со всеми остальными. Тем более, что он собирался проситься добровольцем на фронт. Когда еще подвернется шанс посмотреть на такую кровопролитную войну! Он считал себя настоящим патриотом, борцом за атавизм, – не чета коммунистам и «цветным». Кроме того, он боялся, что если убежит отсюда и его поймают, то обязательно увеличат срок. А если его не пустят в армию, тоже не плохо: во время войны в тюрьме все-таки куда спокойней и безопасней, чем на воле. Стены толстые, как в крепости какой-нибудь средневековой, и перекрытия солидные, железобетонные. И работать не надо. И питаешься в конце концов не так уж плохо. Особенно если получаешь из дому посылки. А ему посылки присылали часто…
Обри первый кинулся приводить в чувство тюремщиков, лишь только последний беглец выбрался из часовни.
На улицах было пусто. Отвесно стояли не тревожимые ветром огненные языки пожаров. Все еще гудела сирена. Над Кремпом, отстреливаясь от наседавших истребителей, деловито кружили бомбардировщики. Они приглядывались, на какой объект сбросить последние бомбы, предусмотренные на этот день джентльменским соглашением, заключенным между атавским и полигонским генеральными штабами.
Бежавшие из тюрьмы уголовники думали только о том, как бы понадежней спрятаться, переждать, покуда не утихнут поиски, а затем пробираться подальше от этих мест.
Политические знали, что значит сейчас каждый прогрессивный деятель, оставшийся на воле. Сохранить себя для борьбы и как можно скорее в нее включиться, вот что составляло предмет заботы и Эксиса, и Форда, и Нокса, и Билла Купера. Да, и Билла Купера. Если бы кто-нибудь сказал ему, что он стал политическим, Билл не поверил бы. Просто ему ни за что не хотелось расставаться ни с Эйсисом, ни с Фордом, ни с Ноксом, особенно с Ноксом, потому что они настоящие парни и знают, что такое настоящая справедливость.
По всем законам конспирации им следовало разойтись в разные стороны. Но только Нокс и Форд были местными жителями, а этот Кремп до такой степени не Эксепт, что тут любой незнакомый человек – целое событие. Они залегли до ночи в полусгоревшем сарае, пострадавшем еще от бомбы покойного подполковника Линча. Конечно, у Форда и Нокса было очень большое искушение сбегать домой, проведать семьи. Но они не имели права рисковать. Решили узнать обо всем позже и стороной, потому что ясно было, что первым делом полиция кинется искать их на квартирах. Лучше будет, если близкие узнают об их бегстве из уст полиции.
Улицы словно вымерли. Наверху (ни потолка, ни крыши в сарае не сохранилось) видны были в ясном голубом небе крошечные, поблескивавшие на солнце, серебристые силуэтики самолетов, от которых время от времени отрывались, точно капельки от мартовских крыш, черные точки. Со свистом они вырастали в огромные черные зловещие капли, которые несли в себе огонь, грохот, смерть и разрушение. Но падали бомбы примерно в километре от сарая, ближе к тюрьме и вокзалу.
Эксис заметил на улице странно знакомого человека, хорошо, но явно не по росту одетого. Под широкими полями шляпы можно было разглядеть маленькое, желтое, сморщенное личико в седовато-рыжей щетине. Ну конечно же, это Маркус Квивер, тот самый старичок арестант, который недавно ударом кирпича по затылку вывел из строя старшего надзирателя Кроккета. Судя по всему, он мимоходом наведался в чью-то квартиру и сменил надоевшую полосатую одежду на менее броскую и более добротную. Старик трусил мелкой рысцой, то и дело щупая свои небритые щеки. Видимо, он не успел или не догадался побриться в обворованном доме, и сейчас его беспокоило несоответствие между небритой физиономией и вполне приличной экипировкой. Но это было его личное дело. А вот то, что он собирался спрятаться в том же сарае, где и наши четверо беглецов, это было уже их дело. Только и не хватало, чтобы с ними, в случае если их здесь обнаружат, застали этого закоренелого уголовника! Для властей и газетчиков это было бы сущей находкой.
Выждав, пока этот милый старичок достаточно приблизится к сараю, Эксис громко кашлянул, и Квивер, как заяц, с ходу повернул на сто восемьдесят градусов. При этом он показал такую резвость, какой нельзя было ожидать от человека, которому пошел седьмой десяток.
Лежавший у пролома стены, которая была обращена на широкую улицу. Форд вскоре поманил к себе Эксиса.
– Хвостик! Убей меня бог, Хвостик…
Остроносый тщедушный паренек вразвалочку шагал по противоположному тротуару, с рассеянным видом человека, который собрался на досуге пройтись подышать, свежим воздухом. Со всем высокомерием четырнадцатилетнего мужчины он не обращал внимания ни на самолеты, гудевшие над ним высоко в поднебесье, ни на бомбы, рвавшиеся где-то вдалеке. Казалось, ему вообще ни на что не интересно было смотреть. Он шагал себе, насвистывая (это видно было по его губам), засунув озябшие руки в карманы штанов.
– Какой хвостик? – спросил Эксис.
– Это мы его так зовем. Хвостиком, – пояснил Форд шепотом. – Его имя Гек, но мы его зовем Хвостиком.
– Он, видно, не трусливого десятка.
– Хитрющий парень! Такой зря не станет разгуливать под бомбами. Ага! Смотрите, смотрите!..
Гек остановился около окна с выбитым стеклом, не спеша огляделся по сторонам, не спеша отошел подальше на мостовую, приподнялся на цыпочки, заглянул сквозь окно, потом не спеша нагнулся, поднял камень, вынул из кармана листок бумаги, завернул в него камень и, швырнув его внутрь квартиры, не спеша двинулся дальше. У кирпичной стены пивного склада он снова остановился и огляделся по сторонам, достал из кармана кусок мела и торопливо написал крупными жирными буквами одно-единственное слово… И опять, зашагал вразвалочку, как ни в чем не бывало.
– Что он там написал? – поинтересовался Эксис, досадуя на свою близорукость.
– «Ду-май-те!». Он написал: «Думайте!»
– «Думайте!» А знаете, Форд, ей-богу, не плохой лозунг!.. Мы его уже видели на заборах, пока пробирались сюда… Он вас знает, этот паренек?
– Знает! – фыркнул Форд. – Еще бы не знать!
– Тогда, может, вы с ним потолкуете, Форд? Конечно, осторожно, обиняками… Не может быть, чтобы он действовал по собственному почину.
– Попробую, – пообещал Форд и со всеми предосторожностями выбрался из убежища на пустынную улицу.
Тут он нагнулся, делая вид, будто завязывает шнурок на ботинке, и засвистел «Катюшу».
Гек, бывший шагах в двадцати впереди на противоположном тротуаре, порядком струхнул, услышав так близко от себя какого-то человека, который, быть может, видел, как он писал на стене. Но лицо его, когда он медленно обернулся, было спокойно, мы бы даже сказали, высокомерно спокойно. Он внимательно вгляделся в пожилого негра, который, не обращая на него внимания, завязывал шнурок на ботинке и насвистывал русскую песенку, и убедился, что свистит тот самый Форд, которого он встречал с Карпентером и которого на той неделе арестовали с другими коммунистами. Как Гек ни старался сохранить на своем лице невозмутимое спокойствие, приличествующее сознательному и суровому революционеру, но это оказалось свыше его сил. Поддавшись минутной слабости, он широко, по-детски улыбнулся, но нечеловеческим усилием воли тут же принял совершенно безразличный вид и, не торопясь, завернул в ближайший подъезд. Выждав минуту, Форд последовал за ним.
Вскоре Гек со скучающим видом вышел из подъезда, не спеша завернул во двор, перемахнул через один забор, через другой – и был таков.
Полигонцы уже отбомбились и улетели восвояси. Сейчас из подвалов вылезут самые смелые и любопытные. Пусть их читают, сколько влезет, лозунги, которые он написал для них на стенах и заборах, пусть читают листовки, которые он зашвырнул в их квартиры, пусть подумают, кому нужна эта проклятая война, пусть подумают и о людях, которые, рискуя собой, делают эти надписи и распространяют эти листовки, и, быть может, поймут, наконец, что надо бороться против войны и власти капиталистов. Но совершенно не к чему, чтобы в это время поблизости шатался востроносый, ужасно дурно воспитанный рабочий парнишка Гек, который и так уже давно на самом плохом счету у порядочных жителей Кремпа.
А Форд тем временем вернулся в сарай и сообщил, что Хвостик, вымотав у него душу всякими подозрениями, все же пообещал сообщить о нем «одному товарищу», как он сказал. Встреча назначена на три часа у нового пустыря, за тем местом, где раньше была аптека Кратэра.
– Вы ему сказали, что нас четверо? – спросил Эксис.
– Конечно, нет, – подмигнул Форд.
И Эксис сказал:
– Правильно!
На противоположной стороне улицы появились первые люди, вылезшие из подвалов. Они собирались у надписей, сделанных Геком на стене пивного склада.
Все шло, как полагается.
Если вам интересно узнать, что такое настоящее невезение, загляните при случае в Монморанскую тюрьму. Туда перевели из Кремпа всех оставшихся в наличии арестантов. Кремпскую тюрьму спешно восстанавливают, работы идут полным ходом, и если бы не бомбежки, то тюрьма была бы уже частично восстановлена. Но сейчас разговор не об этом. Загляните в Монморанскую тюрьму и попробуйте попросить свидания с заключенным Маркусом Квивером. Если это вам удастся (суньте кому надо десятку, объявитесь корреспондентом какой-нибудь столичной газеты, и вам это, бесспорно, удастся), маститый взломщик поведает вам, что такое настоящее невезенье.
Ведь как все шло хорошо! Не в том смысле, что Квивер так удачно тюкнул Кроккета кирпичом по затылку: он решительно отрицает за собой такую вину. По его словам, он слишком уважал Кроккета и слишком давно его знал по Кремпской тюрьме и по Фарабонской пересыльной, когда господин Кроккет еще был обыкновенным младшим надзирателем, чтобы Квивер мог поднять на него руку, да еще с кирпичом! Тем более, что бить кирпичом по голове старшего надзирателя во время исполнения последним служебных обязанностей – это слишком дорогое удовольствие для человека, у которого и так еще впереди более семнадцати лет заключения. Нет, это только показалось господину Кроккету, и он, Квивер, не возьмет в толк, как это могло такому умному человеку, как господин Кроккет, взбрести в голову такое чудовищное и обидное подозрение! Но потом и сам Кроккет стал склоняться к мысли, что, быть может, это не Квивер, а доктор Эксис огрел его кирпичом по башке, и собирался даже выставить Квивера свидетелем обвинения, лишь только поймают этого самого Эксиса. Потому что лично он, Квивер, определенно помнит, что именно этот доктор и уложил на несколько часов старшего надзирателя чем-то тяжелым. Но только у него по старости отшибло память, и он не очень твердо помнит, как этот доктор выглядел. Лично он, Квивер, убежден, что у него так отшибло память именно от нервного потрясения, когда он увидел, как неуважительно обошлись с таким видным человеком, как старший надзиратель Кроккет.
Нет, говоря о невезении, он, Квивер, имеет в виду то, как ему не повезло уже после того, как он, сам не зная почему, вылез вместе с другими заключенными через щель на волю. Господин, вероятно, слыхал о такой дьявольской штуке, как гипноз? Лично он, Квивер, полагает, что бежал из тюрьмы под влиянием гипноза. Его какой-то нехороший человек, скорее всего этот самый доктор Эксис, загипнотизировал, и он сдуру убежал из тюремной часовни…
И ведь что самое обидное, сначала ему на воле действительно здорово повезло. Он это говорит в том смысле, что его не убило бомбой и даже не ранило. Потом, несколько придя в себя, он вдруг заметил на себе полосатую тюремную робу и, конечно, сообразил, что в таком обмундировании ему ни за что не уцелеть: его зацапает первый же попавшийся фараонишка. Но он был страшно далек от того, чтобы совершать даже малейшее преступление против закона. Он полагал, что, может быть, господь бог пойдет ему навстречу, сотворит чудо, и ему попадется на улице брошенный кем-нибудь узел с одеждой. Во всяком случае, он искренно возносил об этом молитвы господу. Но дьявол не захотел выпускать его из своих лап и раскрыл перед ним двери одного почтенного дома, хозяева которого бежали за город по случаю бомбежки. Двери были раскрыты, – он готов присягнуть, – взлома не было.
Так вот дьявол взял, да и подослал к нему этого коммуниста доктора Эксиса (к сожалению, Маркус видел его только с затылка), который сказал ему не оборачиваясь: «Заходи в этот дом и бери все, что тебе нужно. Теперь все наше. Коммуна!» И дьявол дернул меня, и я вошел в этот дом и выбрал себе в гардеробе подходящую одежонку и подходящие копыта и шляпу – только самое необходимое, хотя мог бы набрать сколько угодно барахла, и пошел себе тихо, благородно. Потому что у меня, сударь, твердый принцип: ничего не воровать в том городе, где я бежал из тюрьмы. Спросите у здешних стариков, и они подтвердят, что я говорю вам святую правду.
Так вот, значит, пошел я себе тихо, благородно, и одна у меня мысль: спрятаться до вечера, а потом убираться куда-нибудь подальше и поступить на работу. Я мечтал поступить ночным сторожем. В какой-нибудь банк. И я так иду себе тихо, благородно и мечтаю о том, как буду работать в банке… Вдруг останавливается машина, из нее высовывается почтенный человек и спрашивает, где это я отхватил себе такую красивую шляпу и такое замечательное пальто. Что вам говорить, это как раз и был хозяин этих вещей, и он поднял такой крик, что набежало сразу четыре фараона, и все было кончено, и меня снова замели… Теперь я должен ждать суда, и один господь знает, что мне сейчас припаяют за то, за что я не могу нести ответственности.
Но я еще имел про запас один козырь. Я спросил у пострадавшего, который уже успел на ходу снять с меня и пальто, и шляпу, и костюм, и ботинки (хотя я уже немолодой человек и легко мог простудиться), так вот я у него спросил: господин Довор (его звали господин Довор), а что, если я сообщу место, где спряталось несколько беглых арестантов, и очень может быть, что именно коммунистов? Тогда господин Довор говорит: «В таком случае я снимаю с тебя всякое обвинение и дарю тебе свое старое пальто». Тогда я говорю: «Пройдите две улицы, сверните на третью и как раз напротив пивоваренного завода есть горелый сарай. Чует мое сердце, что там спрятались беглые „красные“. Но – такое невезенье! – там уже никого не оказалось, и мне набили физиономию сначала фараоны, а потом еще добавили свои же арестанты, потому что нас в фургоне было уже человек восемь, и меня чуть не прикончили за то, что я будто бы стал легавым. Но и не это еще самое главное мое невезение. Господин Кроккет искренне хотел выручить меня, я ему нужен был как свидетель против этого Эксиса, как только его поймают, а через три дня господин Кроккет возьми, да и помри от чумы. Оказывается, он побоялся сделать себе уколы, – такой он был болезненный и нервный, – и схлопотал себе каким-то путем фальшивую справку о прививке. И вот он помер, оставив меня, беззащитного, перед лицом ближайшей сессии суда. Одному господу известно, как я сейчас выкручусь. Даже если вдруг и поймают этого доктора Эксиса, я его вряд ли смогу опознать на очной ставке, потому что память у меня совсем-совсем слабая, и покойный господин Кроккет собирался мне подробно описать его наружность, а сам взял да и помер от чумы…






