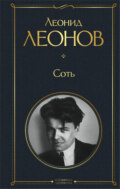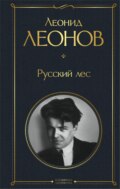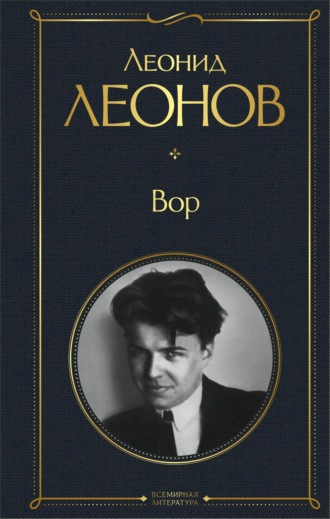
Леонид Леонов
Вор
Для скорейшего, горстью же, извлечения Николкиных монеток он подтянул вверх полу пиджака, причем пришлось сперва разгрузить туго набитый карман. Он уже достал оттуда бывший носовой платок, присвоенный где-то кусок заливной рыбы в промокшей газетке… тут-то пробившийся вперед Фирсов и потряс его за плечо.
– Перестаньте перед хамом сиротку из себя корчить, – властно шепнул он ему на ухо. – Забирайте свои честно заработанные деньги и уходите от греха. Ну-ка, пропустите нас с ним отсюда!
Он выволок Манюкина из людского кольца, нахлобучил на него шапку, подобранную с полу пятнистым Алексеем, собственный шарф намотал на шею старику, так как особые виды имел на него впереди, и повлек на выход вверх по лестнице. Оставшиеся проводили сочинителя с ироническим дружелюбием, весьма пригодившимся ему в последующей деятельности.
Скандал вспыхнул тотчас по их уходе.
– А ловок ты, купец, лежачих-то бить… враз справился! – задиристо заметил еще там один с пронзительным взором курчавый парень, блеснув показным, по уголовной моде, золотым зубом. – Видать, аршин силы накопил, девать некуда!
До тех пор незнакомец Митька никак не вмешивался в происходившую перебранку и только часто, видимо в ожидании кого-то, поглядывал скоса на выходную дверь и на дорогие, под стать шубе, часы. Последнее, прозвучавшее сигналом, замечанье курчавого, подкрепленное дружным гулом остальных, пробудило Митьку от оцепененья.
– А в самом деле, дружок, зачем ты обидел барина? – сквозь зубы и глядя Николке куда-то в горло, в расшитый ворот рубахи, поинтересовался он. – Если в чем и провинился, то взыскано с него, и баста, и нечего тебе чужими слезами тешиться.
– А ты чего вступаешься… видать, сам из таких? – огрызнулся Николка, задетый за живое учительным тоном. – Ведь он же барин, он кровку нашу пил… ай забывать стал, заступник?
– Выпьешь ее из такого борова! – хихикнул кто-то в стороне. – Захлебнешься.
– И впрямь, не жалея своего здоровья, приходишь в такое место и устраиваешь тарарам, – усмехнулся на его дерзость Митька. – Думаешь, длинен вырос, так и в карман тебя не положить?
– Смотри, я в драке тоже страсть вредный, – тотчас оскалился Николка, шевельнув затекшим от напряженья плечом. – Меня можно щекотать до четырех раз, а на пятый сам так щекотну, что родная мать не сгадает, с которого краю тебе начало. Не задирай!..
Собственно, из-за одной свихнувшейся манюкинской персоны обе стороны не стали бы и шума поднимать… но, значит, имелись для ссоры особые сокровенные причины, и вот в распахнувшемся людском кольце уже стояли двое, глаза в глаза, мясо против железа. Похоже было, что и раньше встречались они не раз, что Митьке лестно было опрокинуть навзничь такого исполина, да, кажется, и Николку тоже вдохновляло на подвиг единоборства смертельно-грозное великолепие противника. На сей раз лишь презрительная обмолвка пятнистого Алексея подзадержала начало схватки.
– Сбыл нашему брату на базаре гнилой картошки воз, вот и ломается на все медные. Не иначе как по морде схлопотать желает гражданин… – пробормотал он позади всех, машинально обхаживая салфеткой опустевший после Фирсова столик. – Гуляка тоже, рублишка на божье дело пожалел…
Мимолетное и свысока упоминанье о ничтожности мужицких денег и вздыбило Николку, а затоптанный объедок хлеба под ногами обозначился как преднамеренное попрание святости его труда. Ему стало жарко, он приспустил полушубок с плеча и, словно круг готовил для схватки, посдвинул стол к стенке, так что часть посуды, поближе к краю, повалилась на сбившиеся под ногами опилки.
– А ну, выходи… вы! – гаркнул Николка, и лицо его, как бы осунувшееся от прихлынувшей силы, облеклось бледной пеленой. – Сколько вас тут, на фунт сушеных, супротив меня, Николки Заварихина, а? Рублишком попрекают! Эй, ты в меня гляди… не с ними, а с тобою говорю! – обратился он к Митьке и рукой махнул перед самым лицом, чтоб привлечь его вниманье. – Мужицкого рублишка не хули: он потом нашим пахнет! Вон у кудрявого зуб во рту сияет, ровно солнце… а мы на эту золотинку всей деревней свадьбу справим, да еще на похмелье останется! Ты слыхал ли, почем хлеб нонче?.. а уголь жечь за пятнадцать целковых шестьдесят кубов да скрозь тринадцать суток без сна чекмарем орудовать?.. а ты в пильщиках, в вальщиках, в шпалотесах не ходил, по двугривенному с ходу не получал? Нет, ты ступай к нам в лес, товарищ, поиграй топором, заработай мой рублишко, а после мне проповедь читай! Эй вы все, шпана полуночная…
Наступила та пустовейная тишина, как на лугу, когда грозовой ветер с шелестом проносится по некошеной траве. И все не на Заварихина глядели, судьба которого вчерне была решена, все злым одним глазком косили в Митьку, ожидая – даже не сигнала, а лишь мановенья брови, чтобы в десяток ножей наказать обидчика и чужака. Но Митька медлил, слушал с озабоченным лицом, будто колебался в чем-то, вчера еще для него непреложном. И все равно не дождаться бы в тот вечер Пчхову загулявшего племянника, не вмешайся еще одно, уже последнее перед закрытием пивной, лицо в суматоху вечера; появление его можно было уподобить лишь благодетельному ветерку в душном сумраке колодца… и сразу словно и не бывало ссоры. С изумленьем дикаря, коснувшегося чуда, на голову выше всех обступавших его со сжатыми кулаками, Николка уставился на вошедшую с улицы девушку, – видно, ее и поджидал здесь Николкин противник. Ее миловидное, чуть усталое лицо озарилось улыбкой при виде Митьки, и по тому, как он тоже просветлел при этом, все тотчас признали в ней его сестру: только сестре можно было обрадоваться так, одними глазами. Впрочем, по первому впечатлению ничего не было меж ними общего: вошедшая выглядела труженицей. Подчеркнуто скромную одежду ее несколько скрашивал лишь дорогой, даже в непогоду пушистый мех на плечах, а как будто провинившийся, до сердца достигающий взор слегка раскосых, полных синего детского света глаз придавал подкупающую душевность всему ее облику. Не красавица, она становилась вдвое милей при рассматривании, только еще больше щемило душу от ее втугую сведенных, с искринками растаявшего снега темных бровей.
– Вот и я… ты, верно, заждался меня, Митя? – поздоровалась она открытым и ясным голосом.
Она держалась совсем просто, говорила громко, словно никого не было вокруг, и всем сразу стало известно, что еще час назад освободилась в цирке, долго искала на Благуше и, верно, заблудилась бы в метели, кабы проводить ее сюда не вызвался Стасик; он ждал на улице, наверху. Взяв Митьку под руку, она поспешила с ним к выходу, и по тому, как легко и свободно она двигалась, опять видно стало, что, в противоположность брату, ей вовсе нечего скрывать про себя от людей. Еще длилось почтительное безмолвие, сопровождавшее их уход, когда, на бегу расплачиваясь с пятнистым Алексеем, Николка ринулся им вслед; похоже было, сама судьба поманила его мимоходом. Подозрительная эта, на издевку позывавшая поспешность и сберегла его от расправы собутыльников.
Он еще застал всех троих наверху, возле пивной, и некоторое время стоял невдалеке с обнаженной головой, не сводя глаз с Митькиной сестры. Вдруг, подчиняясь тому же настойчивому внутреннему зову, он сделал шаг вперед.
– Николай Заварихин… – назвался он тихо, и, кажется, та поняла, что это сделано для нее одной.
Все трое, включая и высокого и сильного Стасика, невольно улыбнулись на это дурашливое во хмелю и чем-то привлекательное бесстрашие.
– Ну ладно, ладно, развезло тебя малость, парень… со всяким бывает, – удерживаясь при сестре, строго сказал Митька и легонько отпихнул его в плечо. – Полно тебе со смертью играть… Спать иди теперь!
Потом все они ушли, а Заварихин еще стоял, полный недоверчивого восхищения к ушедшей; лишь когда погас фонарь пивного заведения, он вздрогнул и чуть протрезвел. Пора было убираться восвояси, пока временные знакомые не обнаружили его одного на пустынной улице. Кроме того, мокрый снег перешел в дрянной зимний дождь, и усилившаяся капель с оборжавевшей крыши погнала Николку домой. Прямо по снежной слякоти мостовой возвращался он к дядьке на Благушу, и разбухшие валенки его смачно хлюпали в потемках. Две женщины стояли в памяти у него: та, утренняя, боролась с этой, вечернею. Утренняя была близка, потому что плакала, вечерняя – своей улыбкой; порою они сливались воедино, как половинки разрезанного яблока. Плен их был приятен и нерушим… Без сожаления готов был теперь Заварихин возвратиться к себе в деревню для нового разбега на облюбованную твердыню.
V
Конурка барина Манюкина находилась в третьем этаже того же дома, где и пивная: чтоб перебежать из подъезда в подъезд, не стоило и пальто надевать. Кстати, вместо последнего Манюкин пользовался солдатскою, от недавней гражданской войны, на вате стеганкой, про которую шутил при случае, будто она у него на блоховом меху, что и вправду соответствовало стилю всего остального манюкинского жизнеустройства. За поздним временем свет ни в одном окне уже не горел, и Фирсов, как ни косился, ничего примечательного для своей записной книжки не сумел выглядеть в манюкинском лице.
– Попрошу у вас ровно одну минуточку! – искательным шепотом остановил он Манюкина, заступая ему дорогу; тот поднял голову в ушанке и ждал, переступая с ноги на ногу. – Не задержу… я – Фирсов, с вашего позволения!.. не попадалось в журналах? – Он продолжил не раньше, как удостоверясь, что пустой звук этот не произвел на собеседника ровно никакого впечатления. – Сколько мне известно, ведь вы в сорок шестом номере живете? Это чрезвычайно важное для моего дельца обстоятельство! Только вы не подумайте на меня чего-нибудь такого, в смысле коварства и подвоха… – И рассыпал перед насторожившимся Манюкиным пригоршни уверений, что хоть и литератор, однако полностью приличный человек и ни за что не обманет оказанного ему доверия.
– Ветрено очень, а я старый человек… – зябко поежился Манюкин, прикрывая ладонью горло. – Самая пора для воспалений. Вы… уж докладывайте, любезный, поскорее ваше дельце!
– Э, нет, про это так сразу нельзя-с!.. а не подняться ли нам, знаете, вовнутрь? – качнул Фирсов пальцем во мрак лестницы, откуда так и несло сырым каменным холодом. – Посидели бы, бутылочку изрядного распили б: у меня в кармане затерялась одна. И повторяю, что я не какой-нибудь там… решайтесь! Пристроимся в укромном уголочке, да по-российски, знаете, из души в душу. Самое подходящее время для острого разговора: большая ночь, и древние сваи цивилизации поскрипывают от прибывающей воды, и хочется прижаться к кому-нибудь для взаимного тепла… не испытываете потребности?
– Какое от меня, к черту, тепло!.. я, собственно, и не прочь бы, да вот насчет шума. Видите ли, сожитель у меня по комнате… – поддавался на соблазн Манюкин.
– А что, больной, нервный или, скажем, из блюстителей? – поинтересовался Фирсов, хотя в точности и заранее знал самое размещение жильцов в помянутой квартире.
– Куда там… – отмахнулся Манюкин, – просто выдающийся нашего времени негодяй. Управдом, но числит себя в борцах за всемирную справедливость и страсть любит, чтобы его называли другом человечества… между прочим, если такой анекдотец услышит, то в уборную ходит смеяться… воду спускает при этом, чтоб никто не слыхал, не застал его на запретном, на человеческом. Хуже килы остерегаться следует! – Бывший барин выжидательно помолчал, но Фирсов не уступал, упорствуя на своем, и тот покорно преклонил голову. – Пойдемте уж… что у вас там, в бутылочке-то?
– Красненькое, обломки империи… из-под прилавка, из одного тут великокняжеского погребка, – и показал в бумажке.
– А, это хорошая вещь… давайте-ка, я сам ее понесу, а то, не ровён, разобьете в потемках! Лестница у нас с изъянами, а управдом вдобавок лампочки экономит, чтоб не украли…
При полном безмолвии ночи и чужого сна они подымались в промозглой темени лестницы. Пахло мокрой известкой и щенком. В разбитое лестничное окно задувала непогода, и еще почудилось, будто блеснула там и пропала звезда. И хотя никакой звезды не было, Фирсов ее запомнил и как бы в кулаке зажал, ибо и для звезды имелось готовое место в его еще не написанной повести.
– С вашего позволения, отдышусь немножко! – задохнулся на четвертом марше Манюкин, прислонясь к перилам. – Ишь глубина-то какая черная… так и тянет. На самом-то низу безопасней: падать некуда! – Темнота заранее располагала к доверительности.
– Высоконько обитаете! – участливо поддакнул Фирсов.
– Тут еще один этаж, последний… – шепотом сообщил Манюкин, и снова спотыкающийся его шаг зашаркал по ступенькам.
Во мраке квартирного коридора Фирсов протирал очки, прислушиваясь к непонятным шорохам ушедшего вперед хозяина.
– Разуваюсь… уговор у меня с сожителем, – предупредительно пояснил из тьмы Манюкин.
– Может, и мне? – осведомился гость.
– Зачем же, ведь вы в калошах!
Проведя гостя в дальнюю, соседнюю со своею и пустовавшую после ремонта комнату, Манюкин скоро притащил туда стулья и лампчонку. При вонючем керосиновом свете, еле проникавшем сквозь закопченное стекло, стало видно, что заодно он успел раздобыться и посудой под обещанное угощенье.
– Винишком вашим соблазнился: не воздержан стал к сему самозабвенью… – откровенно сознался он, опускаясь на краешек табуретки и стеля газету на другую такую же для гостя, против себя. – Так о чем же мы беседовать станем? Вроде бы все о России-то напрочь отбеседовано!
Фирсов оглядел комнату, которая оказалась двухоконным, пустым, как площадь, кое-где свежевыбеленным кубом: пахло клеевой краской, известковые потеки сохли лужицами на полу. В открытую форточку проникала простудная сырость, по стене то и дело совались две несообразно высокие, косолапые тени: лампочка стояла на полу. Пока, щелкнув портсигаром, гость нагибался к лампе прикурить, Манюкин рассмотрел его украдкой. Казалось, голова Фирсова состояла из одного лба, – такое заключалось в нем упорство; из-под навеса бровей высматривали не слишком добрые, раздевающие и слегка навыкат глаза. Фирсов почесал себе подгорлие, заросшее кудреватой бородой, и пустил начальный дымок.
– Как вы уже имели оказию догадаться еще в пивной, я по возможности в художественной форме описываю людей, их нравы, быт… ну и всякое остальное, дозволенное к описанью. Простите, я вот только эту дырку в небытие захлопну. – Он направился было к окну и чертыхнулся через мгновение. – Ух, до нее и не дотянешься… да она еще и без стекла, черт! – Удачно обернув форточку газетой, он вернулся на прежнее место. – Итак, я сочинитель… хотя и со чрезмерной пристальностью, попрекают, в том единственном смысле, что о потайных корнях человека любопытствую, об отходах истории и о тех еще сокровищах, что хранятся не в показных витринах, а в потаенных запасниках культуры. Для меня каждый человек с заветным пупырышком, коим он отличается от ближнего, не сливаясь в единое, так сказать, мерцающее тесто… и именно о пупырышках этих любопытствую я. А так как лучше всего видны они на голом человеке, то как раз им-то, голым человеком, и занимаюсь я, в высочайшей степени уважаемый… уважаемый…
– Сергей Аммонычем меня когда-то звали… – шевельнулся Манюкин, перестав разливать по чашкам гостево винцо. – Голый, это правильно вы заметили, голый я…
От усталости он сидел как-то комковато, словно брошенный на стул как пришлось; желтый керосиновый свет резко выделял все его морщинки – безобманную запись пережитых страстей и лишений. Но Фирсова интересовала лишь последняя по времени, односторонняя, глубокая, как надрез; спускаясь от переносья в угол рта, она как бы перечеркивала остальные, черта крайнего человеческого разочарования.
– Как бы это появственней выразить вам мысль мою… человек же не существует в своем чистопородном виде, а всегда в некотором, так сказать… – Фирсов озабоченно поискал нужное словцо, – в орнаментуме! Ну, нечто вроде занавесочки для прикрытия первородных потребностей… бывает из простенького ситчика, но, случается, и накладного золота иногда, это разумеется в смысле традиций, врожденных привычек, самих идей, наконец. Так вот, человек без всякого орнаментума и есть голый человек. Тем и благодетельна из всех прочих революция наша, что сорвала с нас обветшавший и обовшивевший орнаментум. И верно, проносился до дыр, тесноват стал, перестал греть русского человека… особливо в звездные ночи! Вот и охота мне взять одного на пробу, да и посравнить годков через тридцать – сколько и какого нарастит на себе нового-то орнаментума… Извиняюсь, вы что-то возразить имели?
– Нет, я ровно ничего не имел возразить, – успокоил его Манюкин. – Я только попросить хотел: не гудите столь громко, а то сожитель мой проснется! – и кивнул на дощатую, погуще оклеенную газетами стенку позади себя.
– Уже теперь все устанавливается по будничному ранжиру, – посбавил Фирсов голосу, глядясь в черную густоту вина. – Пошатнувшаяся было жизнь возвращается в положенный для цивилизации порядок: чиновник скребет пером, водопроводчик свинчивает и развинчивает, жена дипломата чистит ногти… а, скажем, не наоборот? Организм обтягивается новой кожей, ибо без кожи жить и нечистоплотно, и жутко, и просто холодно. Безумно люблю наблюдать, в какой мере свыше чем тысячелетнее ношение определенной одежды повлияло на душевно-нравственное устройство человека. Голый исчезает из обихода, вот и приходится в поисках его спускаться на самое дно… Боюсь, не очень понятно изложил? Извиняюсь, я вам пепел стряхнул на коленку…
– Пустяки, на меня теперь все можно… – вздрогнул Манюкин, и часть вина выплеснулась из переполненной чашки. – Действительно, не понял: вы уж не меня ли описать хотите? Гол я действительно… наг, сир и общедоступен для описания! А ведь гейдельбергский студент, даже что-то о сервитутах учил, а нынче из всей римской истории удержалось в памяти одно только слово: Публий… Смешно! – горько сознался он. – Все, все утратил, будто и не было ничего! А ведь было, было! Дедовские книги из усадьбы, инкунабулы разные на семи грузовиках вывезли в революцию; так что очень даже было, но разве плачу я!.. Чему вы усмехнулись?
– Это когда про Грибунди вы давеча рассказывали, то же выражение попалось у вас… Мельком! Нет, собственно, не в вас я целился. А вот скажите, Векшин, Дмитрий Векшин, кажется… в этой же квартире живет? Признаться, его-то мне и надо, и для прикрытия вы уж позвольте изредка забегать к вам! Соблазнительно кусок этот прямо с кровью из жизни вырвать, пока в нем не ослабло, не распалось мышечное напряжение. В этом смысле я уж целиком и всю эту квартирку захвачу, с вами в том числе… с вашего позволения, разумеется.
И с целью приручить заранее этого несколько задичалого человека, сочинитель довольно подробно изложил Манюкину свои профессиональные планы, утаив лишь главные сюжетные ходы, даже коснулся архитектуры будущего произведения и наконец закинул в душу Манюкина искусительную возможность посмертно закрепиться в литературном произведении, причем в приличном трагическом рисунке, то есть с сохранением личного достоинства.
– Ну, раз с соблюдением достоинства, то пожалуйста… – задумчиво пошутил хозяин, допил чашку и как-то безотчетно перешел к окну. Притушив гаснувшую лампчонку, Фирсов последовал за ним.
Наползало утро. Пробившись сквозь отсыревшую газету, шустрый рассветный ветерок из форточки путал и сплетал воедино два табачных дымка… Зыбкий сизый воздух за окном пестрел от хлопьев падающего снега, а лужи на мостовой снова успели затянуться снежком. В этот час особенно запоминались и щемили сердце – хрупкая ветхость здешних человеческих жилищ там внизу и опустелость словно вымершей окраины.
– Спать еще не хочется? – спросил Фирсов.
– Расхотелось… – вздохнул Манюкин. – Нет, я не жалуюсь: привык и к холоду, и к обиде, и прежде всего – к самому себе. Не жалуюсь, что какая-то там длинная и глупая трава… – он кивнул на единственный тополек во всем пространстве, охваченном рамой окна, – и в стужу надеется на что-то, ждет весны, а я, человек, закоченел навечно. Видимо, самим существованием вещи оправдываются ее назначение и смысл. Ничто, милый друг, не противоречит ныне моему мировоззрению. Я научился понимать весь этот шутовской кругооборот!
– А я люблю, когда снежок падает, – невпопад отозвался Фирсов. – Прекрасен город в снегу… Кстати, это самая большая вещь, которую себе на шею выдумал человек…
– И поразительно: все я теперь знаю, но не бегу: от себя бежать некуда! – вырвалось у Манюкина со странным смешком. – Бежать надо, когда есть что сохранять. У меня не осталось… – Он показал Фирсову пустую чашку. – Выпито и вылизано-с!
Но тут в тишине раздались шаги. Кто-то шел по коридору, не скрываясь и не опасаясь потревожить лютого манюкинского сожителя. Сергей Аммоныч метнулся было притворить приоткрывшуюся дверь во избежанье непременного вторженья, как уже вошел тот, о ком все время с нетерпеньем помышлял Фирсов. И хотя в мыслях он целиком владел судьбой этого человека, дыханье сочинителя сейчас почти замкнулось от волненья.