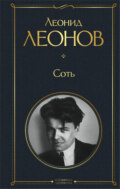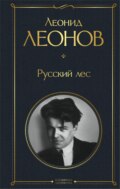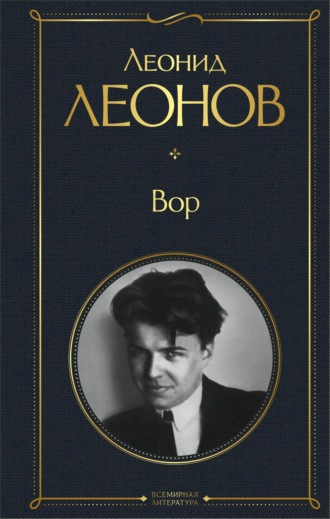
Леонид Леонов
Вор
XVI
В ту пору, когда на удивленье всего блатного мира сам Дмитрий Векшин посетил соперника своего, главной клинической приметой близкой Агеевой поломки была всего лишь полусуеверная боязнь дневного света. Сидя у себя в норе, он без отдышки, от еды до еды, и не гонясь за сходством, крутил бумажные цветы и раскладывал про запас по картонным коробам у задней стены. Он копил их, точно сбирался увенчать ими однажды кое-кого из почтенных деятелей буржуазной современности, которые с помощью хитрейших экономических, моральных и прочих манипуляций подняли его, рядового крестьянского парня, на вершины цивилизации, изготовив из него столь же выдающегося убийцу. Разум Агея спасительно выключался на время этих занятий: трудились одни руки, костеневшие от усталости и не желавшие умирать… Он не терпел входивших к нему без стука и вздрогнул теперь, даже метнулся к подоконнику зачем-то, едва зародился незнакомый звук не Манькиных шагов, и потом шорох бумажных обрезков на полу сопроводил медленное движение открываемой двери.
– Входи же… – в полный шепот крикнул он с мукой затянувшегося ожиданья.
Лицо его выразило высочайшую степень виноватого оживленья, когда увидел Митьку. Услужливо стряхивая бумажный сор с табуретки и привычно пряча что-то в рукаве, он усердно приглашал садиться, заискивал в госте, приход которого таил в себе надежду на какую-то спасительную неизвестность.
– А, вона кого бог послал… давненько. Присаживайся рядком, Митя, подмогни! – и раскатился глухим дрожащим смешком.
– Отложи нож-то, порежешься! Я к тебе насчет того дела, с каким ко мне посыльные твои на днях приходили, – сразу объяснился Митька во избежанье недоумений и, разочарованно оглядевшись, присел на показанное место, но сидел как-то выпрямленно и настороженно, словно опасался, что на всю жизнь прилипнет к нему какой-нибудь Агеев лоскуток.
– И что же, пойдешь со мной, не погребуешь? – недоверчиво покосился Агей, сделав попытку прикоснуться хоть к его рукаву.
– Обсудим, не завтра же отправляться… опять же ты под моим контролем пойдешь, – уклонился от прямого ответа Митька и поднялся, вовремя отдернув свою руку.
Агей сидел, чуть наклонясь вперед, и руки его с видом чугунных провисали меж колен. Нежданно Митьке пришло в голову дикое открытие, что, верно, до солдатчины, пока не пробрызнул первый ус над губой, Агей был красив и статен; тогда еще не вился над низким морщинистым лбом этот вскурчавленный, словно подпаленный волос. Как бы отвечая Митькиным мыслям, Агей прочесал голову всею пятерней и обдернул беспоясую рубаху, отчего стал чуточку еще страшней.
– Митя, – заговорил он, бросая руки на стол, – уж не брезговал бы ты мною! Я и не скрываюсь, что дружбы твоей ищу… не дружбы даже, а хоть изредка подержаться за тебя! Уж больно я нонче… словом, совсем одинешенек стал.
– В деревню ехал бы тогда, чего тебе здесь? – наугад посоветовал Митька и сам себе подивился, с каким жалким нетерпеньем ждал появления Маши, ради чего и притащился сюда. – Осталась же у тебя родня в деревне!.. отец-то жив еще, сказывали?
– Как же, папаня у меня здоровый, точно в кузне ковали. Мой папаня сам на меня в чеку ходил. «Чего вы за ним рыщете, зря сапоги треплете? – это он им про меня говорит, про дитя родное. – Лучше выдайте мне машинку на руки, шпалер по-нашему: он, говорит, ко мне скорей наведается, чем к вам». Отец на сына, каково, а? Какая там, к черту, родня. У меня, Митя, родня только сапоги, остальные – все хорошие знакомые! Меня сапог не осудит, оба мы с ним черные: хвастаться ему передо мной нечем! Да еще вот ты меня не осудишь… потому что знаешь, что меня нечего судить, а сжечь надо и пепел из пушки в небо пальнуть! – Вдруг он заглянул в лицо гостю. – Может, сразу Маньку тебе позвать… ай потерпишь – со мною? – И Митька нашел в себе силу ответить спокойным тоном, что никуда не торопится. – Но если очень тебе желательно, то суди меня, Митя, с удовольствием послушаю. Я к тому, что Манька больно хвалит тебя… честней и чище не бывало мальчоночки на свете, а к нам будто не от разгула, а единственно по скверному ндраву попал. К слову, напрямки, если не секрет… верно это, будто ты так ни разику и не пожил с нею?.. ну, когда на Кудеме-то прятались? – Агей лгал из ревнивой и неусыпной ненависти: жена ни словом не обмолвилась ему про совместное с Митькой детство, однако кое-что Агею удалось самому разведать стороной.
– Мне не к чему судить тебя, Агей, – терпеливо сказал Митька, пропустив главное. – К несчастью, я и сам недалеко от тебя ушел…
– Понятно, не судите, да не судимы будете, хе-хе… – и снова кашляющий Агеев смешок расползся по комнате. – Круговая порука, значит! Не судите, потому что у самих рыльце в пушку. Совестливые всегда бывали хитрее грешных… Ан, врешь, – суди меня, а я посмотрю, с какой такой точки ты меня судишь! – Подавшись вперед, Агей вскользь хлестнул ладонью по столу, так что огарок свалился и продолжал пылать в прозрачной лужице стеарина. – Я тут частенько шумлю, жжет меня, не обращай внимания, Митя. Ты промеж нас совсем как гражданский герой, только второго сорта… и ты собою вроде протестуешь, а мы-то, грешные, давно кормимся нашим делом. Глядишь, тебе еще простят, как своему, и ты по-над нами на казеинном коне гарцевать будешь, а я… – Он понизил голос до шепота. – Я уже знаю, в которое мне место пуля войдет… Нет, мне бы только лестно было, кабы ты меня маненько посудил: даже интересно на себя в зеркало с золоченой рамой полюбоваться. И я не шучу, должен кто-нибудь и во мне разобраться: изучают же нечисть всякую, пускай руками и не прикасаются…
Тогда-то Митька и помянул мимоходом, как неделю назад прогнал от себя одного бесстыжего сочинителя в клетчатом демисезоне. Агей воспринял сообщение с почтительным любопытством… Вскоре Митьке душно и тесно стало от Агеева присутствия. Он подошел к окну и отдернул в сторону чуть наискось и гвоздями прибитое одеяло. Ворвались свет и тревога: на улице оказалась не ночь, лишь вечер пока. Теперь запущенная неряшливость комнаты еще сильней выдавала душевное состояние ее жильца. Окно выходило на запад, – обычно грязноватый городской снег чудесно и оранжево поблескивал на крышах. Где-то в нежнейшем отдалении, под чугунной плитою неба догорала ленточка зари, такая ласковая и тоненькая, словно из девчоночкиной косы.
За спиной вполголоса откровенничал Агей, а Митька кивал, не имея нужды или охоты вникать в признанья, содержанье которых к тому же целиком надо оставить на совести сообщившего их Фирсова. Митька глядел в окно и думал: вот сразу, немедля, выйти бы в эту лиловеющую загородную тишину, выбрать проселок попустынней и, доверясь ему, брести неделю без мыслей и желаний, без ничего, кроме решимости к забвенью, – и не останавливаться нигде, а только все идти: скрозь море, если встренется, через снежные хребты, вон в ту золотистую щелку зари – без желания узнать, к чему все это… Ему почудилось даже, что грудь его наполнилась крупитчатой свежестью морозного воздуха, а ноги налились ноющей сладостью от долгой ходьбы.
– …И ведь сколько разов я тебя добивался, чтоб свидеться, а ни на одну записочку ты мне не ответил, – достиг наконец Митькина слуха укорительный Агеев голос. – А я тебе напрямки скажу, зачем ты сегодня пришел ко мне…
– Ладно, ладно, не хитри, – раздраженно прервал Митька, лишь бы избавиться от этой навязчивой близости. – Я давеча по глазам твоим увидел, что сразу разгадал. Да, я согласился прийти к тебе потому, что Машу захотелось повидать… хватит с тебя?
Митька произнес это, все еще стоя спиной к Агею. Вдруг он обернулся скорей на тишину, чем даже шелест чьего-то другого, кроме Агеева, присутствия. Еще раньше по внезапному замиранию сердца Митька понял, что вошла Вьюга.
XVII
Они не виделись с осени, после случайной встречи в цирке, где им обоим выгодней было не узнавать друг друга. Манька Вьюга была в неизменном для всех случаев жизни чуть старомодном, но словно впервые надетом черного шелка платье, тесном и без ворота, как для эшафота. Стоя на пороге, чуть привалясь виском к притолоке двери, Вьюга курила папироску. Ни лоскута пестрого не было на ней, но такая незнакомая покорительная новизна появилась в ее облике за истекшую треть года, что Митька ослепленно опустил глаза.
– Здравствуй, мой родной… – сказала она просто и приветливо, но пошла к нему не прямо, а почему-то в обход стола и с Агеевой стороны. – Я случайно слышала там, как ты сейчас пытался обмануть Агея, и решила заступиться за него. Ты затем напрямки ему и признался, что ради меня пришел, чтоб он тебе не поверил… а ведь и в самом деле ты ради одной меня притащился. Гляди-ка, нехорошо как получилось: он души в тебе не чает, а ты… – Может быть, желая вознаградить Агея, она сзади кончиком пальцев коснулась его лица, и тот быстро прижал щеку к плечу, стараясь защемить ее руку, но опоздал, а Митька понял, зачем и чего стоила ей эта показная ласка. – Что, дурачок, все со своими цветочками возишься? Выбрал бы покрасивше какая, покрасней да подарил бы гостю розочку на память. Ай плохо гостится тебе у нас, Митя?.. уж и полюбоваться на себя не даешь, никак уходить собрался? Посиди, погости у нас.
Только теперь Вьюга протянула ему руку, и Митька суеверно удивился, как гибка, горяча, беспомощна сейчас оказалась ее рука.
– Я, собственно, мимоходом забежал, о дельце одном условиться, – уклонился от ее прямого взгляда Митька. – Времени у меня в обрез…
– Чего ж ты так волнуешься, чудак! – сдержанно улыбнулась та. – Я ж тебя не на колени к Агею садиться приглашаю… И железа на лицо себе не напускай, сам когда-нибудь увидишь, что я вдвое тебя железнее.
Впервые вступая в разговор после долгой разлуки, они с трудом привыкали к личинам, надетым на них жизнью. Была какая-то головоломная гонка в их падении, кто кого опередит, и все это время оба не теряли из виду друг друга. Не досказав чего хотела, Вьюга отошла к окну и, стоя спиной к мужчинам, рассеянно играла золотым подвеском браслетки. Плечом перекинувшись через стол, Агей потискал протянувшуюся за папиросами векшинскую руку.
«Смотри, какую проворонил… хороша, лакомая?» – мигнул он Митьке с тусклым ножовым блеском во взоре, направленном Вьюге куда-то между лопаток.
А уж почти смерклось, и, пока гаснула девчоночкина лента за окном, Манька Вьюга и гость ее мысленно торопились расспросить друг друга о непоправимых в их жизни переменах, третий же и лишний здесь озабоченно переводил глаза с одного на другую в поисках лазейки – проникнуть в их неслышную беседу. Потом этажом выше стали вбивать бесконечно длинный гвоздь, и, кстати, зорька успела развалиться бурым пепелком по горизонту, – Вьюга отвернулась от окна.
– Гордый стал, никогда старую подружку не навестишь, Митя. Я давненько это свойство за тобой примечала: сам же назначишь свиданье, да еще в глуши где-нибудь, да и не придешь… плохой ты, Митя! – Она сделала длинную паузу на проверку и, подойдя, даже осмелилась приподнять похудавшее его лицо за подбородок – при Агее, который зачарованно взирал на непонятную ему игру, но Митька ничем не выдал своих мыслей. – И угрюмый сделался какой!.. а ты приходил бы ко мне почаще, как друг детства. Я тебя и развлеку малость от твоих огорчений, и винцом угощу… как пойдешь мимо, так и подымись. Ну, взгляни ж на свою Машу! – добивалась она чего-то от Векшина, который продолжал глядеть чуть вниз и в сторону, на дымок своей папироски. – И я хороша, пятно где-то на новое платье посадила, беда какая… да на самом видном месте, на рукаве. Это ты, Агей, твоего пальца след! – И сцарапывала почти несуществующее пятнышко с видом, словно не бывало у ней иной печали. – Ты, верно, стыдишься меня, Митя, прячешься, а зря… я все равно о каждом твоем шаге знаю. Только вздохнешь, а я уж знаю, у меня на каждом углу покупные очи стоят. Заходи и Змея Горыныча моего не бойся… ведь он тоже стоглазый, знает, что у него ни перышка не украдешь! – И долгим взглядом посмотрела на Агея, бурным восторгом встретившего ее сообщенье. – Слух про тебя дошел, будто ты сестренку свою отыскал? Непременно покажи: если ты мне как брат, значит, и она не чужая… Ты пошел бы теперь на кухню, Агей, самовар поставил бы, голубчик. Гость чайку хочет, да вишь, намекнуть стесняется… слышишь, кому сказано?
Кроме глухого ворчанья, муж ничем не выразил своего недовольства, и пока уходил, дважды по пустякам возвращаясь с порога, Вьюга по-женски неумело чиркала спичкой о коробок.
– Вот зажглась наконец… – сказала она, усаживаясь напротив, едва закрылась дверь. – Курить хочешь?
– У меня свои… не люблю с духами, – грубо ответил Векшин, раздражаясь властью этой женщины над собой.
– А ведь ты, я вижу, чуточку меня побаиваешься, Митя… правда? Не отодвигайся, чудак, я же тебя не трогаю… – Ее смуглое лицо, в завитках как бы разметанных ветром волос, оставалось невозмутимо спокойным, только подкрашенные губы слегка подергивались. Она понизила голос: – Впрочем, мне понятны твои страхи: если бы что завелось меж нами, по старой памяти, знаешь ли ты, как поступил бы Агей с нами обоими, с тобой в особенности! Ладно, не бледней… заступлюсь, отмолю! У меня словцо есть на него заветное…
Не закончив мысли, Вьюга легко переметнулась через комнату и быстро рванула дверь на себя. Ссутулясь, Агей стоял за самой дверью, Векшину показалось – с руками чуть не до полу, с головой чуть набочок и в подшитых валенках, а с лица его еще не сползла тяжкая озабоченность незнания.
– Ну, чего, чего вы тут затихли, ровно воруете! – заухмылялся он подло и виновато. – Чего вы у меня воруете?
Вьюга бесстрашно шагнула к нему навстречу.
– Ай-ай, нехорошо-то как, Агей… Кому я раз навсегда запретила подслушивать? Марш на кухню!
Она повернула его, послушного, лицом в обратную сторону и, подтолкнув ладонью в плечо, лишь полуприкрыла дверь на этот раз…
– Слушай, Маша, – только теперь овладев собою, заговорил Митька, – тебе известно, что я не шибко пугливый, но мне и в самом деле неохота драться с Агеем… да и не велика радость рога ему наставлять. Постарайся привыкнуть к мысли, что я не боюсь ни чар твоих, ни его ножа, ничьей мести! – и даже применил точное блатное словцо, чтобы обозначить степень своего пренебреженья к любым страхам и запретам на свете. – Ты постоянно делаешь ту же ошибку в расчетах: уж как-нибудь постараюсь пережить нашу разлуку… и вообще не путай человека и его временную оболочку! – По фирсовскому замыслу, в соответственном месте повести Митька хотел сказать, что даже петля на его шее всего лишь обстоятельство судьбы, а не личная характеристика.
Вьюга слушала его, кружевным платочком рассеянно вытирая с ладони, – может быть, прикосновенье к Агею. Во всем ее поведении Митьке чудился заведомый план, но сосредоточиться, проникнуть в него мешали то раздражающие шорохи ее платья, то отвлекающий вниманье запах ее духов.
– Не боишься, покамест сильный… – бегло и без выраженья заговорила Вьюга, – но однажды задувает незнакомый ледяной ветерочек, сгибает и вяжет гордецов в узелок. Вот как качнешь гнуться, так и прибежишь ко мне, а я уж наготове буду в дверях стоять. И не жди тогда от меня пощады… еще покойный отец примечал, что характер у меня дурной, сварливый. Прямо говорю: я из тебя хуже тех сделаю, кого ты презираешь сейчас… безвинной тебя кровью обагрю. Мне и слез твоих мало, а ведь ты не плакал пока. Думаешь, уж убил свою любовь? Глупый, только изувечил! Отец на глухарей ходил, на глухаря – на любовную песню охота. Его бьют, когда он изнывает от любви, караулят из шалашика. Приспеет время, и я тебя на песне возьму: а потом на помойку выкину… авось человек в тебе родится!
– Рассудок, значит, от тебя потеряю? – сквозь зубы пошутил Митька.
– Зачем же, и терять его не придется… а просто вспомнишь однажды, как ландыши мы с тобой рвали на белянинской опушке. Еще радуга стояла на лугу, совсем близкая, хоть подкрадись и отломи на память… да так и не успели мы с тобой, распалась. Ты хороший, милый был, и все мне поцеловать тебя хотелось… разве уж отдать тебе должок? – Она приблизила было лицо к нему, не ожидавшему нападенья, но в решающее мгновенье, щурко заглянув в глаза, лишь головой покачала и оттолкнула. – Нет, не хочется мне вора обнимать… Неужто вправду говорят, будто ты собственную сестру обокрал? Такого сдуру прижмешь к сердцу-то, а он тебе карманы и обчистит. Не хочу, – с правдоподобной зевотой заключила она.
– Бешеная, таких в погреб на цепь запирают… – с дрожью в голосе заговорил Митька, волнуясь, как при разглядывании старенькой фотографии из чемодана сестры. – Что тебя злит, что гнетет тебя, откройся?! Если и обидел чем, так ведь мало ли чего в жизни не случается: живые… не ровен час, и толкнешь локтем. Ведь я же не сержусь на тебя, что, от бешенства своего кинувшись в эту ямину, ты и мою часть, что я имел в тебе, запоганила… но я простил тебя, почти простил. Объясни наконец, чем же я тебя обидел, Маша?
– Уж будто не знаешь чем? – лукаво прикрыв платочком странно заблестевшие глаза, улыбалась Вьюга.
– Если тогда в Рогове не подошел, как ты позвала меня, так ведь ты же вся в кружевах да в шелке была, а я хуже черта, в мазуте с головы до пят. Зазорно черту рядом с ангелом гулять… все еще не смекаешь? Так скажи – чем?
– Ведь вот ты какой, Митя, хуже смерти человеку причинишь, а и не заметишь. Ступил ему на сердце и прошел дальше по текущим делам…
Митька молчал, бессильный разгадать пугающую, потому что среди улыбки, слезинку в углу Манькина глаза.
– Все равно, на, возьми себе колечко в знак того, что я не сержусь на тебя!
Он протянул ей из бумажки ту, давнюю, с поддельной бирюзой вещицу, – и еще не отдал, как та сама отняла его.
– Ой, колечко, да милое какое!.. откуда оно у тебя, не ворованное?
– Я его на самые первые свои, на чистые деньги купил, – с непобедимой мальчишеской гордостью сказал Митька. – Когда еще у отца жил…
– Это хорошо, что на деньги купленное, – кивнула Вьюга. – А то еще опознают где-нибудь да засадят за тебя твою подружку в казенный домок о сорока решетчатых окошечках.
– Ты не приехала тогда и не пришла на мост в тот последний раз, а я все ходил взад-вперед, в кулаке его тискал. И дождик шел…
– Бедный, до костей поди промок? – пожалела его Вьюга.
– Не в том дело, что промок, а что обмирал по тебе до самого вечера…
С пристальным и необъяснимым любопытством, на минутку охудевшая, некрасивая даже, Вьюга любовалась на подарок, протирала рукавом, подышав, и опять разглядывала.
– Еще бы!.. жалко ведь, если такая вещь без дела заваляется. Ой, спасибо, как она мне теперь пригодится впереди… Дорогая поди?
– Два рубля плочено.
– Только и всего?.. так, значит, поддельный он, камешек твой? Такой еще голубой, а смотри-ка, уж фальшивый! Дешево же ты, Митя, милость мою хочешь купить… – Она вся вытянулась, как на предельном звуке струна, а Митька тревожно покосился в лицо ей, где, почудилось ему, сверкнули молнии. – Вон Донька-то…
– Чего ж осеклась, продолжай!
– Донька, говорю, карточку мою старую, по карманам затасканную, у одного там… страшно даже сказать, на что выменял.
– Не на душу же!.. а два целковых цена вполне приличная, Маша. – И тоже как бы железный дребезг прозвучал в его голосе. – Пятерку сапоги хромовые стоили. А мне всего пятнадцать годков было… много ль со шкета спросишь!
– Все одно мало, Митя, – настойчиво повторила она. – Я к тому так, что дорогая я, нищим не по карману. За меня все тебе отдать придется, и еще, что на донышке души хранишь, сама возьму в придачу. Хоть на Агея оглянись… Может, мы с тобой крылышко в крылышко здесь сидим, милуемся, а ему приходится тряпочкой золу с самовара обтирать. Он и Доньку-то терпеть не может, а ведь ты ему разка в три опаснее, никак не меньше. Опять же у тебя-то еще все впереди – и тюрьма и, бог даст, – петля, а мой уж последнее догуливает и наперед все знает. Как за стенкой в соседней квартире, а стенки тонкие у нас, дети со стола что-нибудь либо табуретку уронят, посмотрел бы, что с ним делается. А тоже крутой был, вроде тебя… хотя ты погордей, пожалуй!.. нет, не на то я серчаю, Митя, что в Рогове ко мне не подошел… я же понимаю, с барышней пройтись перед товарищами неловко, как будущему борцу за человечество. Вот монахи тоже всего красивого страсть как стесняются, чувств сердечных, слабостей души своей. Знаю я таких, неподкупных, в рубаху промусоленную одеться норовят, с сальным ремешком, зато уж наедине-то как останутся… Самые длинные и злые ханжи из них выходят, бичи на спину рода человеческого!
– Я не повинен в твоих несчастьях, Маша, – как в клятве, еще не сдаваясь, но ужасаясь чего-то впереди, сказал Векшин.
– Да разве я потревожила тебя хоть словечком осужденья или намекала, в чем мои несчастья, а твоя вина состоят?.. Вот и отрекаешься, а ведь врешь, Митя, наверно, все до капельки сознаешь. И не прикидывайся, что все тебе нипочем… иначе не стоял бы тут руки по швам передо мной, не терпел бы. Теперь наперед предскажу: лишь бы доказать мне, что не для меня пришел ты в наш горький дом, ты сейчас дашь согласие пойти с Агеем на вполне погиблое дело. И большую беду из-за этого примешь. Бедный же ты у меня: и без того щипаный да еще в любови запутался, а уж срок тебе подступает, Митя, по всем векселькам платить… – В ее голосе хрустнуло что-то звуком стекла под ногой. – Нет, мне неинтересно нынче твое колечко, Митя… своих хоть завались!
– Это не ты, это горе в тебе кричит! – пугаясь ее внезапной решимости, перебил Векшин.
– Нет, это я говорю, Марья Столярова, по кличке Вьюга, жена Агеева. И я тебе как-нибудь расскажу, поделюсь при случае, как мы вроде венчались с ним, и сам дьявол черным ладаном на нас дымил… и как он меня поцеловал, и трупом изо рта у него пахло, и я ему свое да отдала! – прибавила она, не замечая преувеличений, потому что именно так представлялось дело ей самой. – Понятно тебе теперь, как крепко ты меня ему отдал? Вот за это самое, придет срок, я и посмеюсь над тобой. Эх, герой, скажу, где ж знаменитое твое геройство? – Шепотом начав речь, она кончила без опаски, что хоть клочок ее достигнет ушей Агея.
Комната была жарко натоплена. С пылающими висками Векшин снова отошел к окну. На очистившемся западном небосклоне скудно пока светились чужие окна, и слева обычное мутное зарево уже подпирало грозивший рухнуть свод ночи… Вдруг Векшина еле слышно и робко позвали сзади по имени, но нельзя было обернуться, потому что, возможно, с этого зова и должно было начаться Митино возмездие. В ту же минуту Агей внес почти игрушечный самоваришко, держа его в растопыренных пальцах, наподобие гармошки. Кажется, Вьюга решила не откладывать исполнение своей угрозы. Она задержала теплый взгляд на Агее, выражая признательность на их немом секретном супружеском языке и, кажется, обещая награду. Митьке почудилось позже, что, расставляя посуду, Вьюга шепнула на ухо Агею какой-то смутительный вздор, и тот стал еще покорней, а внутри Митьки скользнула странная, мимолетная боль, обожгла и пропала, но ожога ее не залечили бы и годы безоблачного счастья.
Долго гостевать в этом доме было не в Митькиных намерениях. Он решительно отказался от чая с любимыми его сушками и покупного варенья в низких баночках. Стоя, Агей описал вкратце обстановку подготовляемого набега, но его увядший разум уж не был способен к спортивной игре или дерзкой выдумке. Ни искры искусства не оставалось в нем, к намеченной цели он шел напрямки, через мокроту и ужас… Дело предстояло не очень сложное – выпотрошить медведя, несгораемый шкаф в конторе одного частного, акционерного якобы общества, выпускавшего, как сквозь желтые прокуренные зубы пошутил Агей, душистые зубные порошки особо тонкого помола: для девственниц. В действительности предприятие было вовсе не частное и занималось совсем иными делами: Агей предвидел возможное Митькино упирательство. И вообще лишь с запозданием раскрылся каторжный замысел этого лихо построенного Агеем розыгрыша в отношении соперника. Весь его вполне оправдавшийся расчет состоял в том, что, добравшись на место действия через задний ход, Митька, по ночному времени не расчухает, куда пришел с визитом… Со слов бухгалтера-наводчика, медведь был простодушный, старинного устройства, и жирный, то есть денежный. Тот же бухгалтер, придумавший ограбление для частичного сокрытия растраты, дал сведения о ночной охране, размерах дневного поступленья, близлежащих подвалах и, наконец, о тайной сигнализации за наружной вывеской.
После Агея свои условия поставил Митька, и тотчас стало ясно, что все произойдет по его наспех набросанному плану. Сопя, Агей схлебывал с блюдечка чай с сахаром вприкуску, очень довольный и как бы безоговорочно признавая Митькино превосходство. Вьюга с рассеянным видом прислушивалась к сговору, изредка заглядывая в мятый, на столе, Агеев чертежик конторского помещения, потом снова занялась пятном на рукаве, словно опасалась, что с платья Агеево прикосновение проникнет на самое ее тело. Вскоре она совсем ушла…
Разумеется, содержание всех приведенных здесь необузданных словесных откровений следует оставить на совести сообщившего их Фирсова. Впрочем, все из той же сочинительской хитрости он излагал их не от своего лица, а приписывал своему зеркальному однофамильцу; правильнее всего было допустить, что в действительности такого разговора вовсе не было.