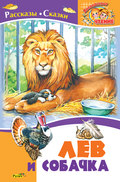Максим Горький
Леонид Андреев
– Вот так поп! Как он меня обнаружил, а?
И вдруг на глазах у него сверкнули слезы.
– Счастлив ты, Алексей, черт тебя возьми! Всегда около тебя какие-то удивительно интересные люди, а я – одинок… или же вокруг меня толкутся…
Он махнул рукою. Я стал рассказывать ему о жизни отца Феодора, о том, как он искал воду, о написанной им «Истории Ветхого Завета», рукопись которой у него отобрана по постановлению синода, о книге «Любовь – закон жизни», тоже запрещенной духовной цензурой. В этой книге отец Феодор доказывал цитатами из Пушкина, Гюго и других поэтов, что чувство любви человека к человеку является основой бытия и развития мира, что оно столь же могущественно, как закон всеобщего притяжения, и во всем подобно ему.
– Да, – задумчиво говорил Леонид, – надо мне поучиться кое-чему, а то стыдно перед попом…
Снова постучали в дверь – вошел отец Феодор, запахивая подрясник, босый, печальный.
– Не спите? А я того… пришел! Слышу – говорят, пойду, мол, извинюсь! Покричал я на вас резковато, молодые люди, так вы не обижайтесь. Лег, подумал про вас – хорошие человеки, ну, решил, что я напрасно горячился. Вот – пришел – простите! Иду спать…
Забрались оба на постель ко мне, и снова началась бесконечная беседа о жизни. Леонид – хохотал и умилялся:
– Нет, какова наша Россия?.. «Позвольте – мы еще не решили вопроса о бытии бога, а вы обедать зовете!» Это же – не Белинский говорит, это – вся Русь говорит Европе, ибо Европа, в сущности, зовет нас обедать, сытно есть, – не более того!
А отец Феодор, кутая подрясником тонкие, костяные ноги, улыбаясь, возражал:
– Однако Европа все ж таки мать крестная нам, – не забудьте! Без Вольтеров ее и без ее ученых – мы бы с вами не состязались в знаниях философических, а безмолвно блины кушали бы – и только всего!
На рассвете отец Феодор простился и часа через два уже исчез хлопотать о водопроводе арзамасском, а Леонид, проспав до вечера, вечером говорил мне:
– Ты подумай – кому, для чего нужно, чтоб в тухлом каком-то городе жил умница поп, энергичный и интересный? И почему именно поп – умница в этом городе, а? Какая ерунда! Знаешь – жить можно только в Москве, – уезжай отсюда. Скверно тут – дождь, грязь… – И тотчас же стал собираться домой…
На вокзале он сказал:
– А все-таки этот поп – недоразумение. Анекдот!
Он довольно часто жаловался, что почти не видит людей значительных, оригинальных.
– Ты вот умеешь находить их, а за меня всегда цепляется какой-то репейник, и таскаю я его на хвосте моем – зачем?
Я рассказывал о людях, знакомство с которыми было бы полезно ему, людях высокой культуры или оригинальной мысли, говорил о В. В. Розанове и других. Мне казалось, что знакомство с Розановым было бы особенно полезно для Андреева. Он удивлялся:
– Не понимаю тебя!
И говорил о консерватизме Розанова, чего мог бы и не делать, ибо в существе духа своего был глубоко равнодушен к политике, лишь изредка обнаруживая приступы внешнего любопытства к ней. Его основное отношение к политическим событиям он выразил наиболее искренно в рассказе «Так было так будет».
Я пытался доказать ему, что учиться можно у черта и вора так же, как у святого отшельника, и что изучение не значит – подчинение.
– Это не совсем верно, – возражал он, – вся наука представляет собою подчинение факту. А Розанова я не люблю.
Иногда казалось, что он избегает личных знакомств с крупными людьми потому, что боится влияния их; встретится раз, два с одним из таких людей, иногда горячо расхвалит человека, но вскоре теряет интерес к нему и уже не ищет новых встреч.
Так было с Саввой Морозовым, – после первой длительной беседы с ним Л. Андреев, восхищаясь тонким умом, широкими знаниями и энергией этого человека, называл его Ермак Тимофеевич, говорил, что Морозов будет играть огромную политическую роль:
– У него лицо татарина, но это, брат, английский лорд!
Но знакомства с ним не продолжил. И так же было с А. А. Блоком.
Я пишу, как подсказывает память, не заботясь о последовательности, о «хронологии».
В Художественном театре, когда он помещался еще в Каретном ряду, Леонид Николаевич познакомил меня со своей невестой – худенькой, хрупкой барышней с милыми, ясными глазами. Скромная, молчаливая, она показалась мне безличной, но вскоре я убедился, что это человек умного сердца.
Она прекрасно поняла необходимость материнского, бережного отношения к Андрееву, сразу и глубоко почувствовала значение его таланта и мучительные колебания его настроений. Она – из тех редких женщин, которые, умея быть страстными любовницами, не теряют способности любить любовью матери; эта двойная любовь вооружила ее тонким чутьем, и она прекрасно разбиралась в подлинных жалобах его души и звонких словах капризного настроения минуты.
Как известно, русский человек «ради красного словца не жалеет ни матери, ни отца». Л. Н. тоже весьма увлекался красным словом и порою сочинял изречения весьма сомнительного тона.
«Через год после брака жена точно хорошо разношенный башмак – его не чувствуешь», – сказал он однажды при Александре Михайловне. Она умела не обращать внимания на подобное словотворчество, а порою даже находила эти шалости языка остроумными и ласково смеялась. Но, обладая в высокой степени чувством уважения к себе самой, она могла – если это было нужно ей показать себя очень настойчивой, даже непоколебимой. У нее был тонко развит вкус к музыке слова, к форме речи. Маленькая, гибкая, она была изящна, а иногда как-то забавно, по-детски, важна, – я прозвал ее «Дама Шура», это очень привилось ей.
Л. Н. ценил ее, а она жила в постоянной тревоге за него, в непрерывном напряжении всех сил своих, совершенно жертвуя личностью своей интересам мужа.
В Москве у Андреева часто собирались литераторы, было очень тесно, уютно, милые глаза «Дамы Шуры», ласково улыбаясь, несколько сдерживали «широту» русских натур. Часто бывал Ф. И. Шаляпин, восхищая всех своими рассказами.
Когда расцветал «модернизм», пытались понять его, но больше осуждали, что гораздо проще делать. Серьезно думать о литературе было некогда, на первом плане стояла политика. Блок, Белый, Брюсов казались какими-то «уединенными пошехонцами», в лучшем мнении – чудаками, в худшем чем-то вроде изменников «великим традициям русской общественности». Я тоже так думал и чувствовал. Время ли для «Симфонии», когда вся Русь мрачно готовится плясать трепака? События развивались в направлении катастрофы, признаки ее близости становились все более грозными, эсеры бросали бомбы, и каждый взрыв сотрясал всю страну, вызывая напряженное ожидание коренного переворота социальной жизни. В квартире Андреева происходили заседания ЦК социал-демократов большевиков, и однажды весь Комитет вместе с хозяином квартиры был арестован и отвезен в тюрьму.