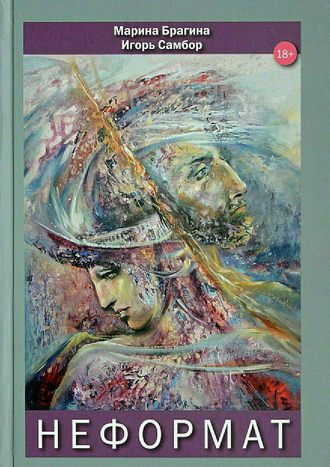
Марина Владимировна Брагина
Неформат
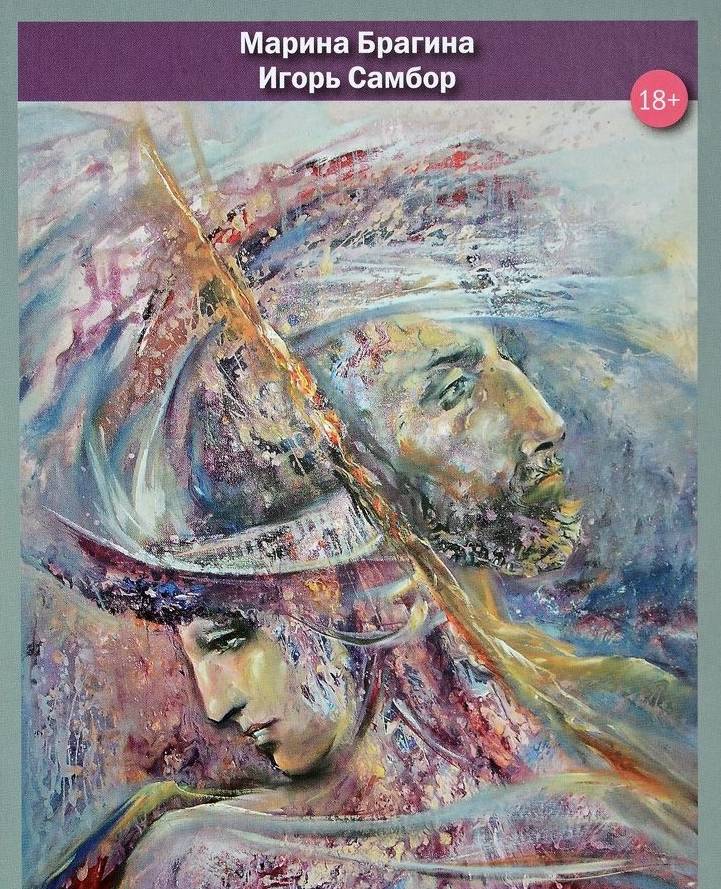
Часть1
Глава 1
«Как молоды мы были…»
Алексей Котин, по кличке Кот, с большим предубеждением относился к людям с
необычными, «выпендрёжными» именами, особенно к женщинам. Они его не просто смешили –
они вызывали резкое отторжение. Особенно если «навороченное» имя звучало в сочетании с
простым отчеством и фамилией.
Ему казалось, что вычурное имя, вне гармонии с отчеством и фамилией, обязательно
оказывает влияние на характер человека: делает его или нелепым, или заносчивым, или наделяет
неоправданно высоким самомнением. И хотя Кот смолоду снискал репутацию отчаянного
бабника, при прочих равных условиях, скажем, у Натальи Васильевны было гораздо больше
шансов стать его пассией, чем, например, у Луизы Степановны. А Сильва Ароновна Пронькина
просто не имела никаких шансов, каких бы чарующих форм и любвеобильности она ни
демонстрировала: «Имя, да ещё произнесённое, – это фонетическое предначертание судьбы», –
сказал ему как-то сокурсник на студенческой вечеринке.
В памяти сокурсника спонтанно рождённый афоризм удержался только до следующего
тоста, а Кот почему-то запомнил эту чеканную формулу, вызванную к жизни лёгким вином в
компании необязательных приятелей. К судьбе Кот относился философски, но не без трепета;
судьба хранила его, как Онегина, в студенческие годы не раз выручая из разных передряг, в
которые он регулярно попадал по бесшабашности, своего характера и на которые советская
власть традиционно смотрела весьма сурово. Впрочем, в том, что касается имён в его
собственном роду, судьба тоже оказалась не без ехидства: сам-то Кот в миру и на комсомольских
собраниях, где регулярно разбиралось его персональное дело, проходил под вполне органичным
сочетанием из свидетельства о рождении – Алексей Андреевич Котин. Ехидная ухмылка
провидения выглядывала, однако, из предыдущего колена на генеалогическом древе: отец его,
Андрей Теодорович, был родом из немцев, и это несообразие в отчестве с духом нового
имперского патриотизма брежневской эпохи всё время незримо маячило где-то в глубине его
номенклатурного досье. Впрочем, многие плюсы в досье отца Кота – в том числе участие в войне –
с лихвой перевешивали сомнительное космополитическое отчество времён Третьего
Интернационала.
Сам же Кот совсем не возражал против своей клички. Плюс к «котиной» фамилии, его имя,
Лё-ша, казалось бы вполне русское, по-французски звучало «le chat», то есть кот.
Его так и в спецшколе звали, когда семья ненадолго вернулась в Москву. И ему всегда
нравилась эта кличка – он даже охотно «косил» под кота в институте и в кругу приятелей – мог
замяукать, или замурлыкать, или очень забавно облизнуться.
Алексей был франкофилом по воспитанию и убеждениям. Конечно, не без оснований:
полдетства с родителями во Франции – тут и настоящий кот заговорит по-французски. Плюс мама-
переводчица. Её всегда приглашали в резерв при официальных визитах. Торговые переговоры,
финансовая тематика – советские партнёры там, где речь шла о деньгах, очень чутко ловили
ледяное неодобрение французов по поводу засилья мужчин в делегациях. Она была для них
палочкой-выручалочкой – этакая русская женщина из романов Толстого или Тургенева, с летучим,
искрящимся остротами знанием их языка.
Где-то – но явно не в дерматиновых кабинетах первых отделов, а много, много выше –
судьба с сардонической улыбкой на физиономии пряла свою непознаваемую пряжу. Иначе чем
можно объяснить вот это имя – Клеопатра Жораевна Беленькая? Имя принадлежало московской
девушке, тип которой хорошо известен со времён Пушкина: маленькая, стройная и воздушная, как
фарфоровая статуэтка. Целая коллекция таких, исполненных изящества и лёгкого кокетства,
фигурок стояла в спальне родителей Кота, хотя он, по своей природной бесшабашности, не
обратил на этот знак судьбы никакого внимания. У неё были бездонные синие глаза; и особенно
смелые ухажёры, не очень греша против истины, говорили ей, что в них можно провалиться, как в
пучину, и никогда не выбраться. Чёрные, ничуть не славянские густые волнистые волосы без
всякой стрижки и укладки мягко обрамляли её миловидное личико и составляли впечатляющий
контраст с синими глазами. Все эти внешние достоинства создавали ей ореол загадочности – но
только если Клеопатра (в просторечии и для родителей – Лялька) молчала. Когда говорила, вся
загадочность сразу же исчезала – она была вся как на ладошке, непосредственная и открытая,
порой даже чрезмерно. Как всякая истая московитянка, она несла в себе коктейль самых разных
кровей – в том числе восточных.
Отец Ляльки, армянин «московского разлива», родился в отдалённом горном районе
Армении, но всю жизнь прожил в Москве, изрядно обрусел и по-русски говорил с
безукоризненным московским аканьем. Впрочем, это не мешало ему при общении с
соплеменниками умело имитировать армянский акцент и напускать на себя, для вящей
достоверности, лёгкую восточную вспыльчивость. Лялька пост-фактум всегда подтрунивала над
его напускной экзальтацией «на публику» и, оставшись наедине с ним на кухне, с дочерней
нежностью третировала его экспансивную манеру общения: «Слюшай, ара, пачему, да, ты
гаваришь как в Арцахе?» Отец смотрел на неё виновато-лукаво, как провинившийся щенок, и в тон
дочери отвечал с утрированным восточным акцентом: «Слюшай, женщина, волос длинный, ум
короткий, как не панимаешь, национальные корни взыграли?!» Вот это «корни взыграли» было в
доме своеобразным паролем. «Корни взыграли» – был ёмкий ответ на вопросы, в какой ресторан
отца позвали и кто именно. «Корни взыграли» – универсальное объяснение того, почему папа
неблагосклонно отзывался о вечеринке, на которой его жену слишком часто приглашали
танцевать другие мужчины. В редких случаях, когда отец Ляльки принимал лишнего, –
укоризненный вердикт его жены «корни взыграли» относился как к нему, так и к вожделенному
напитку Ереванского коньячного завода.
Корни его простирались в горную сельскую глубинку Армении, где за водой ходили с
вёдрами к колодцу, в хлебную лавку стояли две раздельные очереди – мужская и женская, а
предметом гордости односельчанам были земляки: маршал и Герой Советского Союза, вхожий с
докладами к Сталину, видный академик, а также прозападный композитор – автор шлягеров
шестидесятых, безупречно стилизованных под блюзы, буги-вуги и даже «Караван» Дюка
Эллингтона.
Его личная судьба была наполнена теми самыми превратностями, о которых так много
говорят. Лет в пять он был привезёным в Москву дальними бездетными родственниками, которые
убедили его родителей, что мальчику в Москве будет лучше: и образование получит, и
московскую прописку.
Он был необычно поздним ребёнком. Родители его, очень пожилые, уже имели внуков.
Конечно, отец был гордился (ему как раз стукнуло семьдесят), что в столь почтенном возрасте
смог родить сына. Но малыш сильно подорвал здоровье матери, и было очевидно, что вырастить
его будет крайне сложно.
Московские родственники принадлежали к тогдашней, ещё довоенной, элите – Иван
Петрович Беленький работал в Совмине, а его жена, на четверть армянка, – в Министерстве
культуры. Они несколько раз забирали Жорика к себе в гости в Москву и привязались к малышу.
Им удалось убедить настоящих родителей оформить отказ от ребёнка – только так они могли его
усыновить. Так Жорик – в свидетельстве о рождении он был записан как Жора – стал носить
фамилию Беленький. Впрочем, весь его вид со всеми внешними атрибутами армянской
национальности представлял разительный и исполненный юмора контраст с фамилией; ирония
усиливалась тем, что по документам он всегда значился не Георгием, а Жорой, и почему
высокообразованные усыновители намеренно пошли на такой афронт в антропонимике – одному
богу известно.
После рождения дочери у Жоры Ивановича сработал, видимо, какой-то схожий механизм
противостояния обыденному, быть может навеянный армянскими генами, и он, к ужасу жены
Валентины, решил назвать дочь Клеопатрой. Самое поразительное, что в решающий момент в
споре с мужем по этому поводу Валентина обнаружила, что у неё нет убедительных
контраргументов.
– Клеопатра! – мечтательно закатив глаза, словно пробуя на вкус пахлаву, нараспев
произносил Жора. – А известно ли тебе, женщина, что означает это имя?
Валентина оплошала – не подготовилась к разговору и имела в арсенале что-то весьма
обыденное в диапазоне от Ольги до Екатерины. Но Жора, что называется, закусил удила, он был в
восторге от своей находки:
– Это имя означает «царица, любящая своего отца». Отца, понимаешь? И ты хочешь, чтобы
я отказался от такого имени для своей единственной дочери?! Тебя-то она и так любить будет – а
для меня это единственный шанс.
Имя оказалось пророческим – дочь любила отца нежно, с какой-то особой
доверительностью, какой так и не случилось в её отношениях с матерью. Но это стало понятно
много позже. Пока Валентина месяц после родов умоляла мужа дать девочке «нормальное» имя,
в качестве эрзаца использовали просторечное Лялька. Валентина окончательно признала своё
поражение, увидев свидетельство о рождении, где чёрным по белому написали: Беленькая
Клеопатра Жораевна. Она готова была расплакаться, но Жора, обычно податливый и неупрямый,
как все армянские мужья, в этот раз не отступал. Больше в этой ситуации она ничего не смогла
сделать. Не разводиться же! В качестве реванша за поражение Валентина узаконила в обиходе
имя Лялька, резонно указав мужу, что Клеопатру невозможно вслух и без истерического смеха
попросить, допустим, вынести ведро к мусоропроводу или напомнить Клеопатре поменять трусы
на чистые. Как альтернатива с подачи хитрой Валентины фигурировала вообще несуразная Клёпа.
И Жора смирился.
За исключением этого эпизода, Жора являлся идеальным мужем: любил свою жену, решал
все житейские вопросы, одаривал её дорогими подарками, везде и всюду находился рядом – в
общем, настоящая опора и защита. Карьеру он сделал блестящую – стал дипломатом. На момент
рождения Клеопатры уже трудился в Министерстве иностранных дел и ждал назначения за
границу.
Коллеги по работе за глаза иронически-дружелюбно величали его «Беликяном» –
впрочем, с оттенком неподдельной сердечности. Для сердечности имелись простые человеческие
причины: Жора был от природы незлобен, улыбчив, по-восточному обходителен и, взбираясь по
крутой служебной лестнице, соблюдал политес не только с начальством, но и с подчинёнными.
Ему претило вошедшее в моду среди партийной элиты в брежневское время рабоче-крестьянское
хамство, выдававшее себя за «демократизм». Он лишь тонко улыбался, выслушивая дежурные
сальности в ходе застольных партийных посиделок, и не торопился ответить смачным словцом на
пьяную тираду мидовцев из тех, что попроще. У помощника Брежнева Александрова-Агентова он
позаимствовал мудрость в стиле Дейла Карнеги: «Нервный человек – не тот, кто кричит на
подчинённых. Кричит на подчинённых просто хам. Нервный – это тот, кто кричит на начальство».
Жора предпочитал не кричать ни вверх, ни вниз. В пронизанной интригами и неврозами
атмосфере МИДа он был лучезарен, доступен для нижестоящих коллег, надёжен в качестве
конфиданта для «дипломатов в штатском» и обходителен без наивности в общении с
иностранными коллегами. Он был весьма несоветским в манере общения. В кулуарах в пику
разговорам о «ленинской внешней политике» он оспаривал Киплинга, утверждая, что СССР – это
удачный пример того, как вместе сошлись практичный Запад и лицемерный Восток. В припадке
откровенности он признался как-то дипломату из тех, что «под прикрытием»: идеал мидовца – это
помесь восточного падишаха с английским лордом. Жора и являлся таким идеалом.
Он начинал свою мидовскую карьеру ещё при «и примкнувшем к ним Шипилове», когда
тот активно осуществлял послесталинский поворот СССР лицом к арабским странам; но Жора
служил тогда в средних чинах и не числился среди креатур Шипилова, так что политический крах
патрона никак на него не повлиял, тем более что в своих географических пристрастиях Жора был
традиционалистом – невзирая на свои армянские корни, мало интересовался Ливаном, Ираном и
прочими странами армянского рассеяния, а выбирал более традиционные для дипломата
столицы – от Праги и западнее. Они по нескольку лет жили и в Праге, и в Берлине, где к тому же
имелись хорошие советские школы при посольствах. Жора с истовостью настоящего армянина из
двух возможных поприщ – коммерции и книжной учёности – без колебаний выбрал последнее, и
ставил образование дочери выше своего карьерного роста. Впрочем, он оказался удачлив в
карьере. Отчасти потому, что проявился, как говорят американцы, в нужное время в нужном
месте, но в основном благодаря образу, который он сам для себя создал. Образ обозначался
особым термином – «внутренний дипломат».
В ответ на добродушное подначивание со стороны жены Валентины, которая первой
услышала диковинный термин, он не без ироничного удовольствия, объяснял:
– О женщина, сосуд несовершенств, как ты не можешь уразуметь? Коридоры МИДа полны
«внешних дипломатов» – людей, которые пользуются вежливостью и радушием не чаще, чем
ножом и вилкой, и то лишь на официальных банкетах. В повседневной же жизни это трамвайные
хамы, подсиживающие коллег и тиранящие нижестоящих сотрудников. А «внутренний дипломат»
– я, например, – ест с ножом и вилкой, даже когда его никто не видит, и доброжелательно
относится к внутреннему кругу коллег и подчинённых. Ну, как Микоян, – пояснял он для пущей
ясности.
Верный этой философии, Жора уживался со всеми, не забывая о каждодневном,
методичном труде – подъёме по карьерной лестнице. При этом никого не подставлял и не
подсиживал. И те скандалы, увольнения, упразднения отделов и кадровые перетасовки, что
время от времени сотрясали МИД, обходили его стороной.
Лялька росла принцессой, и Жора с широтой души восточного падишаха бросал к её ногам
всё: и стильную западную одежду, которая всё настоятельнее заявляла о себе в Москве, –
«Москвошвей» и даже ателье индпошива уступали под напором западной моды и становились
позорной архаикой, – и украшения, и дорогие, только по подписке доступные книжные собрания
сочинений. Странно, что при всей своей любви к дочери он ухитрился не испортить и не
избаловать её. Был строг и требователен к учёбе, внушал ей, что «всё это» (следовал широкий
жест, охватывающий квартиру со всем её содержимым, включая огромный шкаф с одеждой, и
саму Ляльку) будет принадлежать ей только в случае хороших отметок и примерного поведения.
Впрочем, Ляльку не приходилось понукать: учиться она любила и с азартом накапливала книжные
знания, даже из ненавистных ей точных наук – Лялька росла прирождённым гуманитарием.
В МГИМО поступила легко. Конечно, её фамилия числилась в соответствующем списке, но
«за уши» её тянуть не пришлось – она блестяще знала материал по всем предметам, и, с
торжеством размахивая сумкой, возвращалась домой, чтобы отрапортовать об очередной пятёрке
на вступительном экзамене. А вот по поводу правил поведения у неё с папой образовались
неразрешимые противоречия. Верный своим армянским генам, Жора был патологически ревнив
по отношению не только к жене, но и к дочери. Одна мысль, что какой-то мужчина может
приблизиться к ней ближе, чем на расстояние вытянутой руки, повергала его в нездоровое
возбуждение, которое иногда заканчивалось сердечным приступом. Пока Лялька училась в
школе, особых проблем не возникало: все невинные школьные романы укладывались в рабочее
время, и к приходу папы с работы она сидела паинькой за учебниками. Да и боязнь пролететь с
поступлением в институт тоже делала своё дело – Жоре как-то удалось внушить дочери, что у него
принципы и что просить за неё он не пойдёт. Более того, если она провалится, то навсегда
замарает его честное имя, и он просто не знает, сможет ли после этого жить. Лялька
действительно грызла гранит науки, утешая себя тем, что, вот поступит – и тогда…
«И тогда», по логике событий, наступило в летний день сразу за последним экзаменом,
когда ей позвонила приятельница-абитуриентка Лилька с радостным воплем: «Свершилось! Мы с
тобой – в логове будущих дипломатов! Готовь вечерние платья для приёмов и сумки из
крокодиловой кожи для валюты! Учись пить Курвуазье не морщась и соблазнять мужиков одним
выстрелом глаз!»
Лилька и так умела устроить праздник души и тела на ровном месте, а тут событие тянуло
– конечно, в её системе координат – на феерический загул. Ляля познакомилась с Лилькой в
самом начале, на первом экзамене – сочинении по литературе; ту в присущей ей бесшабашной
манере угораздило писать сочинение на вольную тему – что-то типа «Есть у революции начало –
нет у революции конца». Вольность темы стала, кажется, уважительным предлогом для того,
чтобы беспокойная Лилька, сидевшая в соседнем ряду, шумно, как мышь в амбаре, шуршала
бумагами, ёрзала по стулу, восторженно хихикала себе под нос и даже задавала уточняющие
вопросы экзаменаторам, надзиравшим за общим порядком в зале, чем отвлекала
дисциплинированную Ляльку, с трудолюбием муравья раскрывавшую тему «дубины народной
войны» по толстовскому роману. Общего между ними ничего не было, если не считать
номенклатурности родителей и необузданности семейной фантазии при выборе имён – Лилька
проходила по документам не иначе как Черных Лионелла Марксовна, что, конечно, звучало ещё
забористее, чем Клеопатра Жораевна Беленькая, с учётом идеологического гандикапа в отчестве.
В остальном Лилька, с её характером экстраверта, импульсивностью и невоздержанностью
на язык, выгодно отличалась от Ляли, которая, при всей открытости характера, всё-таки
додумывала мысли, прежде чем их озвучивать, и заканчивала фразы там, где Лилька издавала
первобытные звуки и беспрестанно хохотала. Вот и тогда, после экзамена по английскому, Ляля,
втянувшаяся в каторжную гонку два года назад, никак не могла расслабиться и, стоя в прихожей с
телефонной трубкой у уха, пыталась до конца осознать, что всё закончилось, приз у неё в кармане, а самое главное, можно остановить этот лошадиный аллюр и пойти, наконец, по жизни шагом,
оглядываясь по сторонам и не угорая во сне от навязчивых обрывков исторических дат,
неправильных английских глаголов и образов литературных героев, которые захламляли её
подсознание все последние месяцы.
Лилька, напротив, о жизни шагом вразвалочку и слышать не хотела. Она сорвала подружку
с места, отогнала от телефонной трубки и выудила её, как непослушную, упирающуюся устрицу из
раковины, в большой свет – для начала в кафе «Крымское» рядом с метро «Парк культуры»,
которое она с вальяжностью завсегдатая именовала «Крым».
Ляля, позвонив отцу и отрапортовав ему о поступлении, получила, как и предполагалось,
порцию заслуженных комплиментов (Жору распирало от гордости), а заодно и согласие на мини-
праздник с шампанским и мороженым в компании своей новой знакомой – тоже новоиспечённой
студентки МГИМО из очень приличной семьи. Жора легко дал согласие аж до десяти часов
вечера. Ляля, спускаясь в метро по пути в кафе, автоматически отметила для себя: «Вот и началась
моя взрослая, самостоятельная жизнь». Лилька, несмотря на свою взбалмошность, оказалась
предусмотрительно-хозяйственной, и, заскочив по пути на рынок, притащила с собой в кафе
пакетик свежей клубники. Она деловито заказала большие порции мороженого и бутылку
шампанского, победно выложив на стол избыточную сумму со словами «без сдачи», и легко
уговорила официантку водрузить им на столик графин с широким горлышком.
– Сегодня пьём крюшон! – громогласно провозгласила она, обрушивая в графин клубнику
и заливая её сверху шампанским.
Ляля, как подмастерье, зачарованно наблюдала за этими хозяйственными манипуляциями
своей приятельницы. Угар экзаменационной гонки ощутимо исчезал с каждой минутой, можно
было никуда не торопиться, и тёмно-красная садовая клубника в крюшоне уже бледнела на
глазах, обещая летний отдых и приятные приключения.
Они выпили по бокалу шампанского, радостно чокнувшись бокалами, и набросились на
мороженое, болтая без умолку и вспоминая перипетии экзаменов. Лилька хохотала, роняла капли
подтаявшего мороженого на глянцевую поверхность столика, смеясь, красила оставшейся в
пакете клубникой губы до клоунской красноты и вообще веселилась до упаду. Захмелев к концу
бутылки, она перескочила на детали письменного экзамена по английскому, выдала попутно пару
английских пословиц, которыми, по её словам, поразила экзаменаторшу – уксусную старую деву –
и, отталкиваясь от образа старой девы в сторону, противоположную приличиям, решила ни с того
ни с сего проэкзаменовать Лялю по неформальной английской лексике.
Ляля, не выходя из лёгкого, шутливого настроения, растерянно соображала, что,
оказывается, не знакома с аналогами ни существительных, ни глаголов, которые так часто
употребляются на Руси, и, конфузясь, вынуждена была признать это. Лилька, раззадорившись ещё
пуще, хохоча так, что на них оглядывались за соседними столиками, стала второпях просвещать
Лялю. Той даже пришлось пару раз смущённо шикать, потому что Лилькины модуляции
разносились по залу довольно ощутимо.
Отсмеявшись, Лилька приобрела наконец серьёзный, даже таинственный вид и без
обиняков ударилась в девчачью исповедальность.
– У тебя сейчас кто-то есть? – заинтересованно осведомилась она.
Лялька растерялась ещё раз. Над ней довлели Жорины максимы – «ни одного поцелуя без
любви» и «первым мужчиной может быть только законный муж». Она забормотала что-то
оправдательное о том, что все одноклассники на период экзаменов разлетелись в разные
стороны, но Лилька перебила:
– Ладно, это и так понятно. А сколько у тебя их было всего?
Вопрос поставил Лялю в тупик – подруга явно подразумевала что-то серьёзнее поцелуя.
– Смотря, что ты имеешь в виду, – пробормотала она, надеясь выиграть время и
выкрутиться из ситуации.
– Это!.. Это я имею в виду, – настойчиво гнула своё Лилька. – Слушай, ты что, вообще не…
то есть… ни разу? – Она даже оглянулась в тревоге, будто кто-то мог подслушать эту страшную
тайну.
Ляля, окунув лицо в бокал с остатками шампанского так, что клубничины со дна коснулись
кончика её носа, смущённо кивнула головой, расплескав остатки напитка на столик.
– Ну ты даёшь! – поражённо выдохнула Лилька. – Слушай, ты институтом не ошиблась?
Тебе с такими подходами надо не в МГИМО, а в археологический. Там тебя и похоронят среди
окаменелостей старой девой. А в МГИМО даже не вздумай никому говорить – засмеют! И моя
репутация на любовном фронте пострадает, если узнают, что я общаюсь с «окаменелостью».
У Лильки снова, в третий раз за вечер, поменялось настроение. Из образа задушевной
подруги она без усилий прыгнула в образ наставницы-учителя.
– Ну так давай решать проблему! У тебя хоть кто-то на примете есть?
Ляля неуверенно покачала головой.
– У меня… – нет. Был один парень у школьной подружки, который мне нравился, и,
наверное, у них что-то было. Хотя он, как мне казалось, поглядывал в мою сторону. Я не
решилась…
– «Наверное», – беззлобно передразнила её Лилька. – Наверное, у всех всё было, и по сто
раз. Кроме тебя, подснежника. В каком сугробе ты пряталась?
Остаток вечера в кафе Лялька слабо отбивалась от наседавшей на неё подружки, которая
требовала прямо сейчас, не сходя с места, составить перечень потенциальных любовников и
начать действовать.
Но в метро по пути домой, отходя от винных паров и, вне всякой логики разглядывая
пассажиров, тех, что помоложе, – будто она собиралась внести их в Лилькин список – Ляля
невольно призадумалась. Взрослая жизнь, о пришествии которой она сама себе объявила по пути
в кафе, делала первый стремительный зигзаг и звала за собой, требуя на что-то решиться.
Тогда, в 1971-м, в своём неистовом стремлении приобщить подругу к таинствам плоти и
снять с неё позорное пятно девственницы Лилька оказалась упорнее, чем того требовала ситуация
и здравый смысл. Она терроризировала Ляльку ежедневными звонками, каждый из которых
выливался в обширный, многоступенчатый разговор на тему «кто у нас есть в обойме». Благо бы
только днём, когда Жора был на работе! Но она стала покушаться и на вечернее время, а Жора
терпеть не мог неупорядоченные телефонные связи; да к тому же Лилька на пиках энтузиазма так
орала в трубку, что Ляля всерьёз стала опасаться, что тема разговора каким-то образом дойдёт до
ушей отца. Наконец её терпение лопнуло и, вызвав Лильку на деловое свидание на ближайшую
станцию метро, она сделала ей решительный укорот. Эрудиция, накопленная за два года учебной
каторги, была ещё свежа в сознании, и Лялька, перехватив инициативу у напористой подруги,
назидательным тоном поведала ей остроту вековой давности: анекдот о том, как царь Александр
Второй наградил графа Клейнмихеля за строительство железной дороги в Петербург медалью с
надписью: «Усердие всё превозмогает», на что записные остряки братья Жемчужниковы – они же
Козьма Прутков – откликнулись язвительной ремаркой: «Иногда усердие превозмогает и
рассудок».
– Вот и ты мне напоминаешь этого Клейнмихеля, – выговаривала Ляля подруге. – Ты чего
кричишь в трубку как оглашенная?! Хочешь, чтобы родители услышали и вместо МГИМО
постригли меня в Новодевичий монастырь? Это ещё хуже, чем твой археологический с
окаменелостями.
– Для тебя же, росомахи, стараюсь! – горячилась Лилька. – Если ничего не делать, жизнь
мимо пройдёт!
– Кто тебе сказал, что ничего не делается? «Наши цели ясны, задачи определены – за
работу, товарищи!»
Легко сказать – «за работу!» Наступление на постельном фронте ещё даже не
планировалось – не было подходящей кандидатуры. Правда, Ляля сделала несколько робких
шагов навстречу судьбе – позвонила бывшей однокласснице Эллочке и, между прочим, среди
болтовни о том, кто куда поступил, выудила у неё важную новость. Эллочка, оказывается,
рассталась со своим последним воздыхателем, который охмурял её весь последний год
романтикой горных восхождений, песен под гитару у костра и сентенциями о том, что все едут за
делами и деньгами, а он, непонятый лирический герой, едет за туманом и за запахом тайги. План
поиска кандидатуры был просто, как мыло, – Ляля логично предполагала, что на все эти песни у
костра наверняка слетаются, словно таёжные комары, потенциальные кандидаты на её первый
сексуальный опыт. Разрыв между Эллочкой и романтиком гор поначалу сбил Лялю с толку, но она
тут же сориентировалась, тем более что Эллочка по телефону говорила об этом без ожесточения и
даже несколько шутливо. Ляля сразу удачно сымпровизировала – осведомилась, где встречаются
любители самодеятельной песни, они же альпинисты, уточнив, что, мол, её парень, с которым она
познакомилась в МГИМО, большой энтузиаст и того и другого. Эллочка, ничуть не удивившись
наличию у Ляльки парня, тем более из МГИМО, легко выдала номер телефона своего отвергнутого
ухажёра и стала исподволь выяснять, нет ли у Лялькиного парня друзей, явно прицеливаясь на
новые отношения. Потребовалась некоторая изворотливость, чтобы выкрутиться из разговора, не
вдаваясь в конкретику, но главное было достигнуто – в руках была ниточка, ведущая в лабиринт
минотавра, в закоулках которого наверняка отыщется её первый мужчина. Единственное, что
смущало во всех этих хлопотах: они как-то явственно напоминали ей предэкзаменационную
горячку. Ляля с неудовольствием отметила про себя, что, вопреки ожиданиям, взрослость не
освободила её от хлопот, как этого хотелось, а, напротив, усугубила их масштаб и значимость;
неправильные английские глаголы и даже любовь Онегина к Татьяне теперь казались лёгкой
задачкой по сравнению с житейскими альтернативами – делать? не делать? рисковать? или нет?
Она даже малодушно подумывала о том, чтобы оставить всю эту затею – в конце концов,
впереди ещё пять лет в институте, времени навалом. Но Лилька досаждала ей расспросами, да и у
самой Ляли в глубине сознания шевелился червячок любопытства. Подспудно начинало бесить
сознание того, что она всё ещё какая-то маленькая, ненастоящая, и чем дальше, тем чаще она
впивалась глазами в своих сверстниц в попытке нюхом опытного физиогномиста определить –
было это с ней или нет.
Все чувства, кроме разве что тактильных и вкусовых, настойчиво твердили, что да – было!
И у этой, другой, тоже было! Да у всех, если на то пошло, было – кроме неё самой… И Ляля
решилась: набрала номер телефона этого самого Романа и, сославшись на Эллочку и своего
несуществующего ухажёра, напросилась на вечеринку послушать песни под гитару.
Она прежде видела его один раз, да и то мельком, издали, в компании Эллочки, и теперь
ни за что бы не узнала, если бы он, на правах хозяина вечеринки, не представился первым. Он
отпустил роскошную курчавую бороду – то ли с горя, то ли в поисках нового имиджа – и теперь
походил на молодого народовольца, правда, ни дня не сидевшего на каторге и вовсе не
сгорающего от чахотки – напротив, с артистическим румянцем во всю щеку.
Несколько лет спустя, когда вся страна с мазохистским любопытством прильнула к экрану
телевизора, отслеживая в десяти сериях фильма перипетии судьбы молодого Карла Маркса: его
попойки, безумные студенческие выходки и конфликты с набожным евреем-отцом – Ляля узнала
этот типаж. Но тогда, в квартире, наполненной прыщавыми юнцами в водолазках и их подругами
в очках и длинных шерстяных юбках крупной вязки (отдалённое эхо Парижа 1968-го и заокеанских
хиппи), в повестке дня стояли другие вехи-ориентиры: разговор вертелся вокруг Тянь-Шаня и
Эльбруса, старины Хэма (Ляля с запозданием сообразила, что подразумевался Хемингуэй), индийских йогов и дзен-буддизма. А Сергей и Татьяна Никитины, о которых Ляля, к стыду своему, слыхом не слыхивала, фигурировали просто как Серёжа и Таня, недалеко отставая от Володи
Высоцкого и Андрюши Вознесенского.
Она без усилий озвучила заранее отрепетированную ложь, объясняя отсутствие своего
ухажёра и выдавая себя за рьяную поклонницу самодеятельной песни, и Роман, ничуть не
удивившись, словно только этого и ждал, пригласил её в круг, где среди бутылок с портвейном и
открытых банок со шпротами уже вовсю болтали в преддверии выступлений бардов.
В голове прочно засела установка «Не понравится – в любой момент уйду, меня здесь
ничто не держит». Именно эта ложная свобода выбора и держала её там. Это и ещё странное
ощущение двойственности: её окружали вполне взрослые люди, но с какой-то щербинкой, с
каким-то вывертом, который делал их похожими на рано повзрослевших, не в меру серьёзных
детей. Представить себе здесь Жору было немыслимо – даром что он тоже был из мира взрослых.
Ляле всё время чудилось, что эти взрослые дети условились сыграть в какую-то странную




