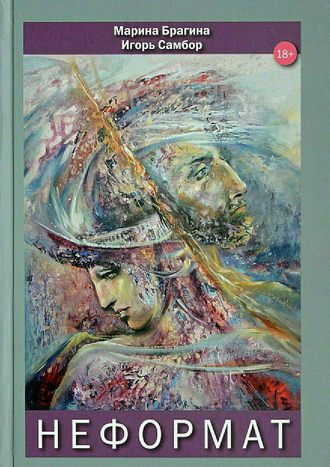
Марина Владимировна Брагина
Неформат
московскими мулатками с их стройными ногами и красивыми руками в кольцах и маникюре,
которых уносил в столицу урчащий кондиционерами поезд под печальные прекрасные звуки
марша «Прощание славянки», льющиеся из вокзального репродуктора. А он оставался на
перроне, как будто вместе с купейными вагонами красивого поезда снова уехала от него его
мечта – быть там же, куда так беззаботно отправились эти красивые женщины со своими
дочерьми и уверенные в себе мужчины. Он бродил и бродил по перрону в ожидании
донбассовского поезда, собранного из изношенных, с замызганными стёклами вагонов,
разглядывая вокзальную башню с часами и надпись у главного входа в зал ожидания,
выполненную крупными золотыми буквами на чёрном зеркале: «Партия торжественно
провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
И Савченко каждый год давал себе по-мальчишески страстный зарок: после десятого
класса во что бы то ни стало уехать из Изотовки туда, к этим мулаткам, похожим на стрекоз в своих
стильных очках, подальше от донбассовских матрон с их густопсовым прононсом и необъятными
формами.
Глава 3
«Продлись, продлись, очарованье…»
– Ну, расскажи мне, авиаконструктор, что такое Изотовка и где она находится.
Позади оставались тот сказочный малиновый рассвет в горах, и скрип троса подъёмника, и
монастырское меню завтрака с неизменным творогом и блинчиками. Она предложила не
морочиться с лыжами, а просто погулять вокруг базы, и он с тайным облегчением согласился:
недавние и непрочные навыки катания, кажется, атрофировались за одну ночь, и позориться
перед ней не хотелось…
– Изотовка – это что, такие донбассовские Петушки?
Савченко с недоумением посмотрел на неё:
– Петушки? Какие Петушки?
– Да нет, не обращай внимания, – отмахнулась она. – Я думала, у вас в МАИ, может,
читают.
– А что, это какая-то новинка? – ревниво навострил уши Савченко.
– Да нет, говорю же тебе: не обращай внимания! – нетерпеливо отмахнулась Ляля. –
Просто я тут недавно рукопись читала. О том, как шибко умный, но вдрызг пьяный интеллигент
целый день на электричке в Петушки едет. Это такая станция под Владимиром, если ехать с
Курского вокзала. Такая, знаешь ли, недостижимая для него утопия.
Савченко сдержанно покачал головой. Слово «утопия», конечно, подкупало своей
элитарностью, как и вчерашнее «эмпирически». Но вообще до встречи с ней он всегда без
энтузиазма относился к разговорам об Изотовке и тихо бесился, когда его спрашивали в МАИ,
откуда он приехал. Раздражало всё: и необходимость натужно, в длинных придаточных
предложениях объяснять, в какой это области (Донецкой), и само это название, от которого за
версту разило не городом (пусть провинциальным и непритязательным), а самой захудалой
деревней. То ли дело Торжок или Великие Луки! Или, на худой конец, какая-нибудь Гатчина…
Вроде тоже глушь, но от тех названий веяло стариной, ярмарками, рыбными обозами,
купеческими загулами, колокольным звоном. Их даже упоминали в школьных учебниках истории.
От Изотовки, Кадиевки, Макеевки и прочих донбассовских дыр веяло мещанством худшего
пошиба – всеми этими коврами на стенах стандартных хрущёвок-малометражек, пьяными
воплями в открытые окна невысоких домов в разгар лета: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня…»;
да ещё этим мерзким, базарным словом «скупилась»!» «Я вчера была в магазине и скупилась…»
Это хуже похабщины. Но вопрос был задан, и она выжидающе смотрела на него внимательными
беличьими глазами с интересом и совсем не высокомерно, и он снова, как и вчера, ощутил
небывалую до этого лёгкость в общении с ней. Вадим лишь на долю секунды пожалел, что не
встретил её года три назад в Москве – это были бы совсем другие годы! Болталось с ней легко, и
всё, что он обычно мысленно обсуждал и анализировал только сам с собой, от чего закипал
перегревшийся его мозг в предутреннем сне – всё это, оказалось, можно как-то просто и без
стеснения обсуждать с ней. Ну, за исключением эротических снов – тех самых, которые донимали
мужчин со времён Адама. Пушкин, к слову, жаловался Кюхельбекеру, что ему-де всю ночь
накануне снились «нагие девы».
Изотовка по сравнению с ночным неистовством плоти – детский утренник.
Странно, он вдруг почувствовал себя с ней тоже москвичом – не провинциалом, а именно
столичным жителем, но только более искушённым, чем она, – этаким антропологом, готовым
познакомить менее опытного коллегу со странностями и причудами аборигенов далёкого
архипелага. Как там было в школьном учебнике литературы об Островском? «Колумб
Замоскворечья»? Вот и он почувствовал себя таким Колумбом, открывающим наивной юной деве
жестокую правду жизни.
Они шли по утоптанной дорожке вдоль корпусов турбазы, с облегчением сбросив с себя
обузу – горные лыжи, на которых пытались кататься всё утро.
– Изотовка – это ничто, – категорично озвучил свой главный тезис Савченко. – И находится
она нигде. В этом, пожалуй, и заключается проблема.
– То есть ты человек ниоткуда? – спросила Ляля тоном первой ученицы.
– Да, именно так. Изотовка – это не место, это образ жизни, и совсем не мой. И получилось
так, что я там прожил всё детство, но не имел с ней ничего общего. Только и ждал, как бы оттуда
сбежать в Москву.
– Ну, это уже ближе к теме. Я имею в виду, что это не место, а образ жизни. Вот с этого
места поподробнее, пожалуйста.
– Объясняю. Население – потомки раскулаченных, бежавших от голода жителей
центральных районов России, а самое главное – уголовники с судимостями. У моего школьного
приятеля мать в детской комнате милиции до сих пор работает. Так вот закрытая статистика:
каждый третий взрослый в Изотовке имеет в прошлом судимость. Основное – угольные шахты;
есть ещё целый цветник интересных производств – ртутный комбинат, например. А есть
коксохимзавод. И ещё азотно-туковый завод. Можешь себе представить, какая там атмосфера?
– Ну, у нас в Москве тоже есть места не подарок, – неуверенно заметила Ляля. – Тот же
ЗИЛ, например. Или Нагатинская пойма.
Савченко нетерпеливо помотал головой:
– Нет, ты не понимаешь. То же, да не то. Я же тебе говорю, это не география с розой ветров
– это образ жизни.
– То есть ты говоришь не о месте, а о людях, – полувопросительно-полуутвердительно
сказала Ляля.
Вадим пристально взглянул в её полные внимания глаза:
– Вы умны, Красная Шапочка. Это вам каждый Волк в лесу скажет. И, да, я говорю именно
о людях.
– Ну и чем они так уж отличаются от обитателей Черёмушек?
– Ты знаешь, все-таки отличаются. Хотя вроде много общего. Но скажу тебе честно:
Изотовка – это не Рио-де-Жанейро. Это значительно хуже.
Ляля вспомнила отца, который запоем цитировал Ильфа и Петрова, и невольно
усмехнулась.
– Давай я тебе нарисую картинку, если красноречия и изобразительных способностей
хватит, – воскликнул Вадим, снова входя в придуманную им роль антрополога. – Но для начала
загадка. Угадай, что такое 1113?
Ляля, чуть забежав вперёд и повернувшись к нему лицом, старательно вышагивала задом
наперёд, несколько искусственно, как цапля, поднимая пятки, чтобы не споткнуться о бугристую, с
наледью поверхность снега.
– Это, наверное, количество минут, которые истекли с того момента, как ты меня поднял
вчера на лыжном склоне! – весело воскликнула она. – Или количество шагов, которые мы сегодня
уже прошли вместе. То есть или время, или расстояние – что-то типа того?
Савченко улыбнулся внутренней, сосредоточенной на себе улыбкой:
– Время? Нет, не угадала. Расстояние – да, этот ответ намного теплее… Так вот: 1113 – это
количество километров от Курского вокзала в Москве до железнодорожной станции в Изотовке.
Ляля, по-прежнему проворно пятясь перед ним в такт с его шагами, радостно заплясала,
поскальзываясь на утоптанном снегу:
– Угадала, угадала! Откуда ты это знаешь? На этой станции в твоей Изотовке наверняка
стоит километражный столбик с этой цифрой! Всё просто, как кофе! И в чём тут загадка? Чем
примечательно это число?
– Ничем. Кроме того, что оно без остатка делится на три. Но для меня оно какое-то
знаковое. Это барьер, который я много раз преодолевал за эти годы, приезжая в Москву и потом
уезжая из неё снова в Изотовку – только для того, чтобы снова вернуться обратно.
– Дровосек, да вы, кажется, не математик, а поэт в душе! – так же радостно и беззаботно
рассмеялась Ляля. – Это же самый настоящий романтический герой, который уезжает, чтобы
снова возвратиться! Кстати, твоё «вернуться обратно» стилистически хромает. Тавтология, «масло
масляное»; вернуться – это уже означает «обратно». Это я тебе как начинающий филолог говорю.
На неё невозможно было обижаться! Разве можно обижаться на белку, которая, торопясь
схватить орешек с рук, невольно тяпнула тебя острыми зубками за палец?!
И он, чтобы поддержать, не дать разрушиться этой весёлой, необидной для него
атмосфере разговора, как игривый пёс, спародировал её – забежал вперёд и развернулся к ней
лицом, спиной к анемичному январскому солнцу, которое теперь подсвечивало её лицо и
заставляло слегка щурить глаза.
Ляля с готовностью приняла игру:
– Но романтический герой всё равно не объяснил, чем обитатели этой Изотовки
отличаются от, скажем, московских лимитчиков. Или я чего-то недопонимаю?
– Главное отличие – гонор. Или отсутствие его. В этом главная разница. Ваши лимитчики
(Опять, чёрт возьми, сорвалось это «ваши», словно он не прожил в Москве четыре года!) то есть
московские лимитчики, – поправился он, – это люди в движении. Они бросили провинцию и
приехали в Москву. Они приехали за новой жизнью – пусть они даже сами себе в этом не
признаются. У них куча того, что в умных газетах называют «родимыми пятнами». Только не
капитализма, – улыбнулся Савченко, – а провинциализма. Но при всех этих родимых пятнах у них
есть одно достоинство: они знают, что они никто и звать их никак. У них нет гонора, нет
самодовольства. У них, может, есть комплекс неполноценности или комплекс провинциала, но у
них нет довольства собой. И это очень хорошо, потому что заставляет их искать варианты решения
задачи. Жизнь для них – сложная, почти нерешаемая задача, и они готовы продать душу дьяволу
за то, чтобы выбиться в люди. Ты школьную химию помнишь? Свободная валентность?
Ляля сокрушённо покачала головой:
– Что-то припоминаю, но очень смутно. Ну и при чём здесь вся эта химическая заумь? Ты,
егерь, умеешь всё усложнить до головной боли в мозжечке.
– По-моему, головная боль в мозжечке – это тоже – как ты выразилась? – тавтология. – Он
игриво, ненавязчиво вернул ей порцию ехидства, которой она попотчевала его минуту назад. – А
валентность – это очень удачный, как мне кажется, образ, позволяющий проиллюстрировать
разницу между жителями Изотовки и нашими (Да, нашими! В нашей Москве! – внутренне
воскликнул он.) лимитчиками с ЗИЛа. Посуди сама, эти люди, как атомы, оторвались от своей,
органически присущей им среды, бросив всё, ну или, скажем, многое из того, что их с ней
роднило. Бросили семечки на завалинке по вечерам, домино дотемна, сизый неочищенный
самогон по праздникам и слоников на телевизоре, накрытом сверху салфеткой с бахромой. Они
оборвали многие из своих валентных связей и помчались в столицу. И, знаешь, им плохо,
неуютно, их там никто не ждёт, они не знают и не любят эту столичную жизнь. И, казалось бы,
почему не вернуться обратно (Опять эта чёртова тавтология! Но Ляля не обратила на неё в этот раз
внимания, потому что слушает его очень серьёзно), – к этим вечерам на завалинке, пьянкам по
праздникам и слоникам в ряд? Почему бы не заполнить эти свободные, незанятые валентные
пары чем-то родным, знакомым и понятным? Ан нет! (Его вдохновение, сродни лекторскому,
выдало из глубин памяти это книжное «ан».) Не идут они на это. Каким-то шестым чувством,
печёнкой чуют: не надо! Лучше заполнять эти освободившиеся валентные связи чем-то новым,
чего в провинции не было и нет, даже если им это не по нутру. Они оторвались от прежнего мира, но не пристали к новому.
Вадим в пылу вдохновения шагал назад с носка на пятку, оскальзываясь на снегу и
сбиваясь с шага, но не обращал на это внимания. Он чувствовал прилив энтузиазма, который
знаком каждому, кто долго искал и наконец нашёл решение замысловатой теоремы и теперь
спешит познакомить с ним аудиторию.
Его подмывало сказать ей, что всё это совсем не заметки учёного антрополога из столицы,
а его собственное ощущение, эти сиротские метания ума в проходящем поезде Сухуми–Москва,
который каждый раз безжалостно увозил его из Изотовки после каникул в Москву, когда его
холодный, рассудочный ум приказывал ему плюнуть на эту Изотовку, покрытую пеленой
противной ноябрьской измороси, а по-украински ещё гаже – «мряки», висевшей в воздухе, а
сердце его сжималось при мысли о том, что завтра он снова очутится в Москве, холодной и
неприветливой, но ждавшей его и сулившей ему лучшее будущее.
Ляля, утратив свой шутливый тон и посерьёзнев, неутомимо шла вперёд, как будто
скорость ходьбы подгоняла ход мысли:
– Ну что же, убедил. Образ, пожалуй, хороший, хотя и странный. Никогда не думала,
сколько у меня валентностей и сколько из них свободных. Но ты же начал с другого слова –
«гонор». Это что, тоже валентность? Только занятая, а не свободная?
– Да, почти так. Гонор – это внутреннее состояние такого человека-атома, у которого все
валентности не просто заняты, а очень ладно и уютно заняты; он их рвать и освобождать для чего-
то другого и не думает. Более того, он считает, что жизнь у него состоялась, всё путём, ничего
больше не надо.
Он получил от коксохимзавода квартиру, стоит в льготной очереди на установку телефона,
и через пять лет ему его поставят, а прошлым летом по профсоюзной путёвке за тридцать
процентов съездил в Трускавец. И он работает на шахте – каком-нибудь «Юнкоме», то есть «Юном
коммунаровце». И зарплата у него шахтёрская – триста рублей. А жена – маникюрша, через кассу
получает семьдесят рублей в месяц, а на самом деле чистыми рублей двести-триста – кто же
работает через кассу?! В Москве они тоже бывали – в основном за покупками ездили. И
единственное, что они поняли после посещения Москвы: жизнь там сумасшедшая, все носятся,
как угорелые, и вообще ничего особого в ней, этой Москве, нет, а так, большая деревня!
Ляля с любопытством и удивлением прислушивалась к новым ноткам в голосе егеря –
язвительным и жестоким. Таким она его ещё не видела.
– И вот, – продолжал Вадим, – таких обладателей связанных валентностей в Изотовке, да и
вообще в Донбассе, – большинство. Театра в Изотовке нет. А если бы и был – кто туда пойдёт? Для
театра свободные, незанятые молекулярные связи надо иметь в душе – свободную валентность. А
у них всё уже и так заполнено до полного удовлетворения. Знаешь, как у Пушкина: «Всегда
довольный сам собой, своим обедом и женой…»
Вместо театра бесконечные посиделки на лавочках возле подъезда в тёплое время года. И
разговоры соответствующие: «Я вчера сходила на базар, скупилась там. Купила сто яиц, девять
кило – обрати внимание, именно “кило”, а не килограммов! – бедная система СИ! Я готов от неё
за одно это сокращение отказаться! – говядины, накрутила 200 котлет на неделю».
Так может говорить только человек с полностью удовлетворённой валентностью. На
балконах гордо красуется постиранное бельё, по преимуществу нижнее, на всеобщее обозрение.
Считается хорошим тоном орать снизу, от входа в подъезд своему мужу на пятом этаже так, что
слышно на всю улицу: «Ваня, борщ выключи!» Ну и мужчине выходить на улицу в майке посидеть
у подъезда – это само собой разумеется. И понимаешь, они все так довольны собой! Ходячая
иллюстрация – жизнь удалась!
Ляля зачарованно слушала этот всплеск эмоций и даже шаг замедлила.
– Слушай, а зачем двести котлет? – наконец спросила она, просто чтобы прервать этот
поток информации, который захлёстывал её с головой, – там что, большие семьи?
– Какие, к черту, большие! – с ожесточением отозвался Савченко, – Двое детей –
максимум. Я же говорю, гонор! Я прошлым летом случайно в мебельный магазин забрёл. Туда как
раз завезли пять спальных гарнитуров из ОАР – Объединённой Арабской Республики. Название
мебели – «Людовик Шестнадцатый», и каждый набор – три тысячи рублей. Вычурная, навязчивая,
бьющая в глаза роскошь в стиле «умереть не встать». Ты не поверишь, их смели за два часа!
Самое смешное – я потом видел этот спальный гарнитур в квартире у соседей. А для него ведь
действительно дворец нужен. Желательно такой, как у Людовика Шестнадцатого. А они его в
малогабаритную хрущёвку втиснули. В результате в спальню войти просто нельзя: она занята
целиком кроватью в стиле Людовика. Открываешь дверь в комнату и сквозь дверь ложишься на
кровать. Класс!
Это воспоминание настолько рассмешило Савченко, что он даже утратил свой
язвительный тон, и Ляля подумала, что ему не идёт злиться –становится некрасивым лицо.
– Ну что ты прицепился к этому гарнитуру, Дровосек?! – примирительно сказала она, –
знаешь, красиво жить не запретишь. Это их представление о том, что такое жить красиво.
Савченко с сожалением, как на маленькую, посмотрел на неё:
– Как же! Красиво! – задиристо воскликнул он. – Выходят они из этой квартиры, с такой вот
красотой, и идут, скажем, прямиком в ДПИ. – Столкнувшись с непонимающим взглядом Ляли, он
расшифровал: – Донецкий политехнический институт. У нас там филиал. Я уж не говорю о том, что
иняз тоже имеется. Так вот, при входе в оба эти института, представь себе, торжественно
красуются сварные рамы с поперечинами для очистки обуви от налипшей на подошвы грязи. И,
поскоблив об это устройство подошвы, местные последователи Людовика потом ещё обмывают
верх обуви от запачкавшей её грязи в тут же стоящей специальной сварной ванне с вечно бурой
водой. Как тебе такая картинка?! Я уже не говорю о том, что при дворе Людовика не пили
«Червоне мицне».
Ляля опять вопросительно поглядела на Савченко.
– «Красное крепкое» в переводе с украинского, – объяснил он, – местное пойло, которое
почитатели мебели Людовика считают полноценным вином. Впрочем, другого в Изотовке днём с
огнём не сыщешь. Разве что грузинский портвейн по рубль семнадцать. Ты знаешь, я до приезда в
Москву вообще не понимал, что такое настоящее вино. Так что до красивой жизни там далеко, и
арабскими гарнитурами ситуацию не исправишь. А потом – ладно бы они сами себе это «красиво»
делали! Но ведь их критическая масса среди населения зашкаливает. Они и формируют
мировоззрение, как в книжке Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?». Стеллажи с
книжными корешками – чтобы модно было. Но книги, само собой, ни разу не прочитаны.
«Хельга» с чехословацким хрусталём. Я в детстве у репетитора брал уроки музыки. Так вот,
насчитал у неё в одной комнате двадцать три хрустальных вазы! А самое восхитительное –
«Жигули» в экспортном исполнении и сзади под стеклом на всеобщее обозрение – настоящий
профессиональный футбольный мяч! Стоит, по-моему, целых двадцать пять рублей. Такими
команды мастеров в высшей лиге играют. Новенький, накачанный воздухом. И заметь, им ни разу
не играли в футбол! И ни разу играть не будут. Для того и лежит под стеклом. Для красоты. Все
валентности заполнены до отказа. Приходит суббота – и народ в массе своей напивается
дешёвым самодельным самогоном, заедая его холодцом, а те, кто побогаче, колбасой сервелат.
Сыр голландский тоже режут на отдельную тарелочку тонкими ломтиками – угощение… Ну и
хоровое пение пьяными голосами – что-нибудь хватающее за душу. «Каким ты был, таким ты и
остался, орёл степной, казак лихой…»
Вадиму захотелось карикатурно, во весь голос передразнить своих невидимых
оппонентов, и он с трудом подавил в себе это желание:
– А в понедельник, едва опохмелившись, с головой, которая трещит с перепою, едут на
«икарусах-гармошках» на Коксохим или на «Карла». Так называют шахту имени Карла Маркса.
Видела бы ты эти физиономии!
– Да, егерь, чувствуется, там тебе не выжить. А как же твои родители? Они что, тоже как ты
или даже умнее?
Хороший вопрос! Где начинался и где заканчивался ответ на него, он и сам, пожалуй, не
знал. Обычно он отсекал всякие попытки со стороны определить, что представляют собой его
родители. Ну разве что за исключением анкеты в первом отделе. Но там и не требовалось
подробностей. В графе «социальное происхождение» хватало скромного «из служащих». А здесь
– что же можно сказать ей? Так, чтобы она не удивилась, а, главное, чтобы поняла. То, что она
удивится, – само собой разумеется. Удивится – это мягко сказано… Конечно, можно не говорить
ничего. Отшутиться, откупиться какой-то второстепенной, малозначимой подробностью. Но
теперь было поздно: он уже нарисовал живописную до отвращения картинку. Да и чёрт с ней, с
Изотовкой, не жалко… Но не хватало ещё, чтобы она подумала, что его родители из тех, что
забивают козла в ближайшей беседке среди хрущёвских пятиэтажек…
Да, двести котлет – это нечто. Он сразил её наповал этой цифрой.
И он, подобно петушку, который, ступая по двору, зорко всматривается в разбросанные по
земле крошки – какие склюнуть, а какими пренебречь за их ничтожностью, – стал скупыми
деталями давать конспект развёрнутого ответа:
– Мой отец – преподаватель. Но это на самом деле мало о чём говорит. Чтобы ты лучше
поняла – в украинском языке, который мне пришлось учить в школе, есть такое выразительное
слово – «выкладач». То есть по-украински «преподаватель» – это «выкладач». Вот это как раз про
моего отца. Он не из числа этих современных учителей с поурочными планами,
методразработками и прочей бумажной канителью. Он это не признаёт и терпеть не может. Он,
видите ли, «выкладывает» материал – с блеском, остроумно, в прекрасной лекторской манере. А
там дальше усвоили что-то недоросли или нет, его не интересует. Знаешь, такой старомодный, в
стиле чеховских интеллигентов, интеллектуал-словесник. Я пару раз был на его занятиях в
Енакиевском горном техникуме. Это театр одного актера! Ему не надо готовиться к занятиям – у
него всё в голове. И он единственный в Изотовке, если не во всём Донбассе, что называется, не
поперхнувшись, произнесёт название «Коломбе ле дёз Эглиз».
Ляля поневоле дернулась, будто её несильно стукнуло током, и Савченко самодовольно
улыбнулся в ответ:
– Видишь, я даже благодаря отцу знаю, что это название резиденции президента Франции,
– с напускным бахвальством сказал он. Ляля с всё большим интересом внимала рассказу. И да! На
её лице, конечно, было написано восхищённое удивление! Он так и знал! – Вот ты какие слова в
самом раннем детстве произносила?
Савченко с улыбкой, словно представив её ребенком, вышагивал рядом с ней по
подтаявшему полуденному снегу. Ляля пожала плечами и тоже улыбнулась:
– Ну, не знаю. Ти-ти-ля, кажется. Что означает «вентилятор».
– А я, – с энтузиазмом воскликнул Савченко, – в два года тащил по полу газету отцу и во
весь голос просил: «Папа, прочитай про Чомбу!»
Ляля вопросительно подняла брови.
– Моиз Чомбе, кажется. Был такой африканский злодей где-то в бельгийском Конго, –
пояснил Савченко, – вроде бы причастен к убийству Патриса Лумумбы. Представляешь, мой отец
ежедневно по часу читал вслух газеты. Этаким лекторским голосом, с выражением! В нашей семье
такой вот Чомбе упоминался чаще, чем родственники. Между прочим, в 1956 году, когда в
коллективах зачитывали доклад Хрущёва на Двадцатом съезде о культе личности, в Лисичанском
горном техникуме чтение этого доклада поручили именно моему отцу. За неимением Левитана.
При том что отец даже в партии не состоял! Потому что, где бы он ни работал, все ощущали, что
он настоящий интеллектуал.
Вспомнив вчерашний свой тезис о языках как о параллельных математиках, Савченко с
азартом добавил:
– Отец рассказывал, что в 1940 году, до войны, на первом курсе Харьковского института
имени Сковороды – был такой украинский философ – он единственный, не задумываясь, ответил
на вопрос с подковыркой от лектора: как перевести на украинский название пьесы Шиллера
«Коварство и любовь».
Ляля зачарованно слушала этот словесный очерк.
– Представь себе, «Пiдступнiсть та кохання»! Отец ещё тот оригинал! В снег, в мороз, в
пургу, ещё не рассвело, а он мчится к газетному киоску покупать какую-нибудь «Красную звезду»
или «За рубежом».
А в доме у нас часами звучит пианино – он играет, просто для души. Причём не «Катюшу»
или «Шумел камыш», а ариозо из оперетт Имре Кальмана! – И Савченко, больше не сдерживаясь,
шутливо, но в тональности пропел целиком музыкальную фразу:
Блистательный успех и я когда-то знал…
И чардаш иногда недурно танцевал…
Весёлый праздник новогодней ночи
Мне казался дня короче, горя я не знал…
Ляля, глядевшая во все глаза на Савченко, открывшегося ей с совершенно неожиданной
стороны, зааплодировала вязаными шерстяными варежками:
– Браво! Но тогда у меня есть вопрос: что твои родители вообще делают в Изотовке? То
есть я хочу сказать: почему они не уехали в крупный город, где, как ты выражаешься, больше
людей с открытыми валентностями?
Вадим сразу скис: на этот вопрос не было рационального ответа. Он серьёзно посмотрел
Ляле в глаза и с неохотой произнёс:
– Потому что оригинальность моих родителей заходит так далеко, что там кончается
всякая практичность. Моему отцу, прямо по Маяковскому, «и рубля не накопили строчки». Это
при всём при том, что он, со своей игрой на пианино, душа любой компании. Но деньги он
зарабатывать не умеет. Ни копейки лишней. И никогда этому не научится. Так что моя мать одна
везёт весь воз семейных финансов… Кстати, тоже очень оригинальна. Одна на всю Изотовку в
сорок лет играет в бадминтон со своим сыном. То есть со мной. Можешь себе представить, что
говорят о ней соседки на лавочках. Учитывая, что у неё сорок шестой размер, а у них – шестьдесят
второй. Выводы излишни, поскольку очевидны.
Ляля кожей почувствовала, что он скис, и, торопясь вернуть то лёгкое, беззаботное
настроение, с которым они отправились на прогулку, убеждённо, будто что-то давно выношенное
и передуманное, сказала:
– А ты никогда туда не вернёшься. И правильно поступишь. Знаешь, я читаю американскую
прессу по своей специальности. И там, что интересно, при проведении опросов общественного
мнения никогда не спрашивают, в хорошем ли состоянии находится экономика страны или,
допустим, какова финансовая ситуация.
Он с интересом прислушивался к ней, и Ляля, с удовольствием овладев его вниманием,
сказала, будто гвоздь вколотила:
– В этом нет смысла. Вопрос должен стоять так: туда ли мы идём? на правильном ли мы
пути? Если подумать, то это ведь самое главное. Ты можешь быть на дне кризиса, но если ты
идёшь в нужном, правильном направлении, значит, ты приближаешься к цели. И наоборот, ты
можешь сейчас быть довольным всеми валентностями, как ты выразился. Но рано или поздно
жизнь тебе отомстит за то, что ты шёл не туда. Или вообще никуда. Так что не унывайте, егерь. Вы
на правильном пути.
***
А она? Она-то пошла по верному пути, сблизившись с ним? Если доверять женской
интуиции, то да, несомненно! С того утра, когда она действительно встретила рассвет с этим
смешным егерем, она всё не могла избавиться от мыслей о нём. Лялю снова потянуло к нему уже
после того, самого первого восхода на склоне горы, и она в тот день с нетерпением ждала
послеобеденного моциона на лыжах – слава богу, он легкомысленно согласился кататься с ней
вместе. Эта тяга, которая гнала её из турбазовского номера с утра пораньше в вестибюль, где он
уже ждал её, как верный пёс, до сих пор была ей незнакома; Ляля с самого детства, с четвёртого
класса, любила одиночество – или, может, самостоятельность? Оставалась одна в их большой
квартире на Кутузовском, готовила уроки в тишине комнат, где оглушительно тикали привезённые
из ГДР часы-ходики, в которых притаились немецкие кузнецы. Они ежечасно выскакивали из
своих ладных немецких укрытий и, добросовестно отмолотив по маленькой наковальне
положенное количество ударов, снова расходились по своим домикам. Наверное, и этих
игрушечных кузнецов тоже снедало нетерпение, они маялись, каждый в своём домике – им было
ждать не дождаться, пока не наступит запланированное время их следующей встречи. Так и она
теперь всё время ловила себя на мысли, что торопится убежать к нему, используя любой предлог
и досадливо отмахиваясь от настойчивых приглашений Лильки познакомить её с одним из
двенадцати братцев-месяцев.
Через пару дней после заезда на турбазу, возвращаясь к себе в номер и невольно досадуя
на то, что до следующей встречи с ним целая ночь – минимум восемь длинных часов, она даже на
секунду потерялась, когда Лилька без умысла вскользь спросила, где она пропадала целый день.
Действительно, где? С ним! Они практически не расставались, везде были вместе: с утреннего
паломничества к подъёмнику и ритуала встречи рассвета и до вечернего кефира в столовой. «Чёрт
бы побрал этот кефир, напиток расставаний!» – подумала она, прощаясь с ним тем вечером и с
досадой представляя себе, как он отправится в огромную шестикоечную (он сам так определил)
берлогу, наполненную (это она уже сама додумала) молодецким храпом, двусмысленными
шутками и бьющим наповал запахом мужских носков. Повинуясь ревнивому женскому инстинкту,
она как можно дольше скрывала существование егеря от Лильки. Но утром третьего дня, несмотря
на всю конспирацию, та застала их вдвоём, да ещё смеющихся, этаких закадычных знакомых, на
крыльце корпуса, когда Лилька – чёрт побери её разгильдяйство! – вернулась за забытыми
варежками. Лилька с видом провинциальной актрисы, индифферентно делающей вид, что не
замечает присутствия слона в гостиной, нарочито громко топая лыжными ботинками,
прошествовала по террасе, пока Ляля, внутренне чертыхаясь, как бы невзначай разворачивала
своего нового знакомого спиной к входу в вестибюль. Никакие ухищрения, конечно, не помогли,
глазастая Лилька увидела всё, что хотела увидеть, и тем же вечером перед сном устроила ей
форменный допрос – дружеский, но с пристрастием: «Ты где это такого красавчика откопала? Что-
то я его раньше не видела. И ходишь молчишь, тихоня».
Ляля слабо отбивалась от вопросов, внутренне чувствуя себя победительницей: – Это не я
его откопала, а он меня – из снега, на склоне горы. Я там каталась в гордом девичьем одиночестве
и навернулась на вираже – чуть ногу не сломала. Если бы он вовремя не оказался рядом,
наверное, до вечера бы пролежала, или ползла бы, как Маресьев…
Лилька презрительно скривилась:
– Фу, что за ассоциации! Что за кондовые грёзы у тебя – Маресьев какой-то… Лёня
Голиков, пионеры-герои… Нет чтобы представить себе журнал «Плейбой»! Юная воспитанница


