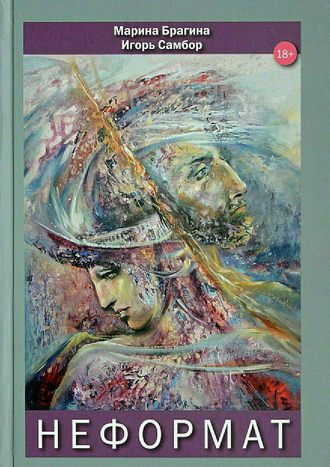
Марина Владимировна Брагина
Неформат
теснят молодые, охочие до наград и госпремий варвары из внутренних провинций. Он, кстати, не
из Днепропетровска? Сейчас это бы не повредило… Или, скажем, можно вести родословную с
хутора в Малороссии или Белой России, где на всех одна фамилия, она же название самого
хутора… – Жора опять тонко улыбнулся, и Ляля смешливо хмыкнула себе под нос: намёк на
Громыко был более чем прозрачен. – Савченко… Nomen est omen.
Перехватив её непонимающий взгляд, Жора с победными нотками в голосе отчеканил:
«Имя есть знак». Он любил набирать победные очки в интеллектуальном разговоре с
собеседником, и Ляля знала за отцом эту извинительную слабость.
– Савченко… – продолжал размышлять вслух Жора, – а почему бы и нет? Были же Илюшин,
Яковлев, Туполев, Миль, Лавочкин, наконец. Последние двое – так вообще, кажется, евреи. Тут в
другом проблема, – Жора невольно покосился на потолок и чуть понизил голос: – у нас, в нашем
Третьем Риме, такая закономерность: раньше, чем станешь римским папой или кардиналом в
синклите, велика вероятность, что тебя, этакого раннего и, главное, вполне лояльного и
преданного христианина, скормят свирепым львам на арене под общие одобрительные возгласы
публики. По крайней мере, Туполева с Королёвым едва не скормили. Слышала о том, что была
такая «туполевская шарашка»? Да и Королёв ведь из особого контингента… Сегодня Герой
Соцтруда и лауреат, а позавчера, если брать повествование в отмеренных сроках, – опять
покосился он на потолок, – мог по этапу бесследно уйти в Магадан… Впрочем, смягчение нравов
за последние двадцать лет налицо. Хотя всё мной вышеозначенное сугубо «для служебного
пользования».
Ляля только нетерпеливо пожала плечами в ответ на последнюю ремарку отца: она с
самого детства привыкла к тому, что самые интересные темы разговоров с ним неизменно в
конце оказывались «для служебного пользования».
Сейчас Ляля с внешней беззаботностью перевела разговор с Вадимом в шутливое русло,
зацепившись за эти «соль и перец»:
– Насчёт соли и перца не знаю, а вот на твой мармелад, представь себе, тоже обратили
внимание.
Савченко посмотрел на неё вопросительно:
– Внимание? Какое? Неблагосклонное?
– Дровосек, у тебя очень литературная речь для студента-технаря! Нет, не комплексуй, ради бога. Вполне себе благосклонное. Просто у меня отец такой, знаешь… непростой. На его
работе простых не держат. Мне иногда кажется, что у него звериное чутьё на людей. Кроме,
может быть, меня, – добавила она лукаво. – Любит он всякие умственные конструкции не меньше,
чем ты. Только у тебя всё замешано на точных науках: угол падения равен углу отражения, ну и
всё такое прочее, а у него – на межличностных отношениях. Он, например, дедуктивным методом
определил, что мой гость, по крайней мере, не армянин и вообще не с Кавказа – иначе притащил
бы виноград, или кишмиш, или какую-нибудь чурчхелу. Но при всём при том он уверен, что ты с
претензиями – иначе не купил бы такие дорогие цветы в разгар зимы. Ты будешь смеяться, но он
сказал, будто даже то, что мармелад ты купил не простой, а в шоколадной глазури, – это тоже
симптом твоих претензий. Ну-ка, признавайся, ты и вправду такой честолюбивый? Тебе, наверное, лавры Генри Форда или Александра Белла покоя не дают?
Савченко держал её маленькую ладонь в своей руке и, как молящийся чётки, машинально
пересчитывал костяшки её пальцев возле фаланг – от указательного до мизинца, организуя тем
самым мысли и одновременно согреваясь каким-то эротическим теплом от её рук. Ему снова
захотелось её – так же сильно, как и полтора часа назад, когда она, опустившись на колени и на
локти рук, расположилась перед ним и он, возвышаясь над ней сзади, видел эти же пальчики с
красивым маникюром. Он усилием воли отогнал от себя этот образ, понимая, что постель уже
заправлена и до прихода её родителей осталось всего ничего.
Лавры? Нужны ли ему лавры? Чёрт его знает! Для него Москва была в первую очередь
бегством из провинции. Но вот он убежал и прибежал в этот город патрициев и их жён, дочерей и
наложниц, в город их храмов и бастионов власти и влияния. И оказалось, что убежать из Изотовки
– этого мало.
– Смотря что считать честолюбием, – сказал он полушутя-полусерьёзно, – в идеале,
конечно, здорово стоять в одном ряду с Фарадеем, Джоулем, Омом или Теслой – это когда в твою
честь назвали какую-нибудь единицу измерения в системе СИ. Мне это, увы, не грозит. Правда,
слава Дизеля или Бессемера – это тоже неплохо. Я бы, пожалуй, согласился на то, чтобы моим
именем назвали новую конструкцию авиадвигателя или революционное решение стойки шасси
самолёта. Остановка за малым – сделать это революционное открытие, после чего сразу же
поменять фамилию на более краткую, изменяемую по падежам и менее хохляцкую. Белл, Форд,
Уатт, Ом – заметила, что у всех них краткие фамилии? Проблема русских в том, что у них такие
длинные, неудобоваримые фамилии. Пока выговоришь, интересная мысль, родившаяся в мозгу,
успеет исчезнуть без остатка.
– Тогда мне не на что надеяться! с моей-то фамилией! – воскликнула Ляля с напускным
отчаянием.
– Да, фамилии у нас достаточно ординарные. Тебе не кажется, что мы их интеллектуально
переросли? Мы сложнее наших фамилий, особенно ты. Не говоря уже о том, что ты не беленькая.
– Он наклонился к её уху и добавил шёпотом: – Нигде. Я проверял.
Ляля мельком взглянула на него и почему-то покраснела.
– Дровосек! Вы, кажется, перебрали по части запретных житейских впечатлений. Не
вгоняйте Красную Шапочку в краску.
Савченко тряхнул головой, будто пытаясь отогнать образ того, о чём только что подумал, и
сказал с нарочитой покладистостью:
– Ладно, не буду. Хотя впечатлений оказалось действительно много. Боюсь, что
неизгладимых. Возвращаясь к фамилиям – они вообще-то много что могут сказать, только их
правильно читать надо.
– Правильно – это как?
Она шутливо загнусавила, имитируя обычные интонации дикторов: «В аэропорту их
провожали товарищи Зимянин, Капитонов, Соломенцев, Долгих, Русаков…»
– …та деякi iншi, – подхватил Савченко с какой-то хитрой, жуликоватой улыбкой.
А Ляля впервые подумала: «А ведь он хохол. Вот тебе и раз! Никогда раньше в нём этого
не примечала! Что-то в нём такое – от Могилянской – или как там у них? – академии».
– Угадала! – Она вскочила с кресла и, сделав попой какой-то танцевальный пируэт перед
его носом, торжественно объявила: «…и некоторые другие»! Правильно?
– Да, их нужно читать вот так, в ряд, через запятую, и тогда у тебя начинают роиться в
голове мысли и ассоциации – не всегда, правда, верноподданнические. Меня, кстати, на это
совершенно случайно натолкнул отец. Он как-то стоял в вестибюле института там, в Изотовке. –
Савченко с усилием подавил желание сказать «там, у нас, в Изотовке». – Просто ждал мою мать,
чтобы проводить до дома после занятий, и, чтобы скоротать время, читал учебное расписание
института с фамилиями преподавателей. А там ряд получался живописный: Чавка, Чвёртка,
Швачко, Перебийнос…
– Слушай, это ведь чистый Гоголь! – захохотала Ляля, – а Довгочхуна там не было?
– Мог быть. И в этом-то и есть вселенская печаль жизни в Изотовке.
– И что же твой отец сказал?
– А вот это самое пикантное! Он вообще большой оригинал, правда, у него сугубо
гуманитарное мышление… Посмотрел он на этих Швачко в расписании и выдал фразу, которая
тянет на афоризм: «Куда делись Шаховские, Волконские и Шереметьевы?»
– Дааа, это сильно! – протянула Ляля. – Вот ты в кого такой необычный!
– Да нет. Не совсем. Он-то гуманитарий до мозга костей. Вроде тебя. А я в плену точных
наук и формул. Хотя, должен сказать, что благодарен ему за то, что научил меня стихи любить.
Просто читать их, повторять эти словесные формулы без причины и без пользы для себя и других.
Исключительно ради удовольствия.
– Знаешь, надо будет у себя в институте почитать расписание по методе твоего отца! А что
ещё можно читать подряд, чтобы появлялись незапланированные ассоциации? Названия
магазинов? Или улиц?
– Вот тебе задачка на сообразительность. Постарайся угадать, что за ряд? Наушки,
Лужайка, Джульфа, Унгены, Чоп, Брест…
– Да это ведь, кажется, железнодорожные станции! Брест и Чоп – точно! У меня подруга в
Будапешт ездила, так они в Чопе из вагона выходили и смотрели, как меняли колёсные пары на
европейскую колею.
– Угадала. А Джульфа вообще двойная станция, советская и иранская… Я с отцом в детстве
часто ходил на вокзал в Изотовке – просто так, от нечего делать. Знаешь, зачем мы ходили?
Посмотреть на пассажирские поезда. Мой отец – заядлый путешественник в душе, правда, из-за
вечного отсутствия денег не пропутешествовал и десятой доли от того, что хотел. А у нас каждые
пятнадцать минут останавливаются кавказские поезда: Адлер, Тбилиси, Ереван, Баку, Махачкала…
И каждый день ходит поезд Москва–Тегеран. Представляешь? Где эта несчастная Изотовка, а где
Тегеран?
– Представляю. То есть представляю, что из Изотовки это непредставимо. А почему ты
названия станций-то запомнил?
– Вот в этом, милая Красная Шапочка, и есть сокрытый от простых смертных смысл.
Поезжай на Курский вокзал – впрочем, от тебя ближе Киевский – и почитай расписание движения
поездов со всех вокзалов Москвы за границу.
– И что? – Она никак не могла понять, к чему он клонит.
– А то, что в этом расписании всегда указывается расстояние в километрах до конечной
станции, то есть до пункта назначения. Так вот для этих поездов, идущих туда, – расстояние
никогда не указано до пункта назначения – Будапешта или Тегерана, а только до пограничной
станции – Чопа или этой самой таинственной Джульфы. А значит…
– Значит? – подхватила она заинтригованно.
– Значит, что там, дальше, за этой Джульфой советской или Лужайкой, что на границе с
Финляндией, – дальше кончается мир, который мы знаем. Это предел нашего познания атома.
Может, там, дальше, в этой Джульфе иранской есть материя, волны, частицы или античастицы, но
нам это неведомо.
– А тебе не хочется там очутиться? Поверь мне, уж я-то была. В Вене, например. Правда,
самолётом туда летала и оформляться пришлось четыре месяца. Так что в Чоп не попала. Но
побывала там – за гранью бытия, как ты говоришь. Там есть всё, о чём ты догадываешься, и даже
больше! Ты разве не мечтаешь там побывать?
– Боюсь, что с моей специальностью километраж пути оборвётся в этой таинственной
Джульфе. Странное название, кстати. Напоминает собачью кличку.
– А при чём здесь твоя специальность?
– Понимаешь, самолётостроение у нас военная отрасль. Все лучшие наработки идут туда.
Сплошной спецхран и спецдопуск. Я вот на днях с Кавказа в купе с нашими клиентами ехал.
Которые летают на нашей технике. До Вены им не добраться. Боюсь, как и мне. А хотелось бы… А
придётся ехать не дальше ЗабВО.
– А это что за станция?
– Это не станция. Это специфический юмор моих попутчиков, которые служат в
Забайкальском военном округе, сокращённое название которого они садистски расшифровывают
как «забудь о возвращении обратно».
***
Она решила познакомить Вадима с родителями недели через три после возвращения в
Москву. Прошедшие каникулы с оранжевым кавказским небом над чёрными горами, с
ежедневным бездельем и ленивыми лыжными прогулками плавно откатывались в дальние
запасники памяти, а на их место заступила московская круговерть забот и занятий в институте. А
ещё – любовных ласк, которые он дарил ей каждый вечер, уже не стесняясь ни того сокровенного, что она ему показывала, ни своих прикосновений к её телу там и так, как раньше он не мог и
помыслить. Каждый зимний вечер, который начинался по-московски рано, в полпятого, они будто
сказочные герои, неуловимо ускользали от яркого света прихожей, от кремовых переливов обоев
гостиной через потаённую дверь спальни в волшебный, с каждой минутой сгущающийся
полумрак. Они снова и снова становились Дровосеком и Красной Шапочкой и, влекомые
неведомой лесной силой, бесшумно рвались друг к другу, срывая с себя одежду, как деревья,
роняющие листья в дремучем осеннем лесу. Одежда, как ненужная листва, разлеталась по
комнате, а они, второпях вспоминая главы книги, снова и снова начинали своё странствие по
тайком открываемому для себя континенту, и в горячке желания бросались от «закусок к
десертам» под аккомпанемент лиловых февральских метелей за окном. Снег за стёклами падал
крупным мохнатым пухом, медленно кружась в свете уличного фонаря, свет которого пробивал
белую занавесь и ложился бликами на её лицо, на подушку и на контур её грудей в полумраке
спальни. Ляля нарочно оставляла шторы открытыми, и им обоим чудилось, что они одни среди
зимнего вьюжного леса. В широкое окно, казалось, заглядывала волшебная тень лесовика,
застывая в недоумении и молчаливом восторге; и этот призрак, точь-в-точь копия того бородатого
сластолюбца из книги, бесплотно реял над их ложем, пока Вадим, напрягаясь и дрожа от желания
всем телом, покрывал поцелуями её груди, спускаясь всё ниже и ниже к животу, одной рукой
грубо и властно обнимая её за шею, а другой, правой, проникая в разрез её губ и нежно лаская их
до тех пор, пока она не начинала приближаться к оргазму, рыча и извиваясь, как маленькое дикое
животное, стискивая его ладонь своими бёдрами до боли в связках, а потом, внезапно ослабев,
отпускала его ладонь из плена своих крепких ног и, жестом хищника нежно повалив его на спину и
оседлав его, начинала тереться своими раскалёнными губами об его грудь, соскальзывая дальше,
как будто танцуя диковинный ритуальный танец лесного зверя, пока не упиралась в его мужское
естество – для того, чтобы приподняться и с размаха вскочить на него, как в седло.
Им всякий раз было досадно, что приходится отложить в сторону эту сказочную книгу,
захлопнуть её грешные страницы на самом интересном месте, и призрак-лесовик, как чудилось
Ляле, разочарованно всплеснув несуразно длинными руками, таял в снежной круговерти за
окном, пока они с Вадимом второпях заправляли постель, воровски пробирались в ванную и
лихорадочно смывали с тела улики только что бушевавшей страсти, пользуясь одним полотенцем
на двоих, чтобы не вызвать подозрений родителей.
Ляля мысленно проклинала эту вынужденную конспирацию, которая крала у неё полчаса
от каждой встречи, и с решимостью женщины, которую не на шутку обуяла страсть, решилась
легализовать его присутствие у себя дома, познакомив отца со своим первым молодым
человеком:
– Ара, что ты больше любишь – летать на самолёте или ездить на поезде? – весело и без
нажима спросила она у отца за ужином.
Вопрос был из числа риторических – Жора не ездил в поездах со времён расцвета
волюнтаризма, за исключением редких вылазок в Питер.
Он с хитрецой внимательно посмотрел на Лялю и ответил ей в тон:
– Поездом безопаснее, но, увы, уныло. И не потому, что медленно и долго, хотя и это
верно. Ездить поездами было «комильфо» во времена Витте; при регентстве министра путей
сообщения Бещева поезда, как мне кажется, стали уделом пассажиров, которые проиграли в
схватке с жизнью. Те же, кто всё ещё надеется победить, должны летать самолётами вопреки всем
опасностям. Тем более мужчины. Благо, стюардессы привлекательнее проводниц и на
международных рейсах подают вино и коньяк, а не чай в подстаканниках. И самолёты летают в
Париж, а поезда по большей части идут куда-нибудь в Нижний Тагил. Несопоставимые величины.
Но мне кажется, в твоём вопросе кроется загадка. Причём сопряжённая с мужчиной. Если ты
хочешь спросить моего совета, за кого выходить замуж – за Витте или за Бещева, мой совет:
однозначно Витте. Трудолюбие сопоставимо, а порода и манеры лучше. Погоди, но ведь твой
знакомый, кажется, из небесной сферы – будущий авиаконструктор? Так что разговор о поездах
лишнее? Или у тебя многочисленные поклонники, избравшие в качестве поприща разные виды
транспорта?
– Какие там многие поклонники! – отмахнулась Ляля. – Я о нём и говорю, о Вадиме, с
которым познакомилась в Чегете. И при чём тут замужество? Я просто пытаюсь понять, о чём ты с
ним будешь говорить – о поездах или о самолётах, если я рискну вас познакомить? Он, несмотря
на будущую специальность, в основном железнодорожный пассажир. Даже знает о
существовании двух идентичных станций в Азербайджане по обе стороны границы –Джульфа
советская и Джульфа иранская.
– Говорить я с ним буду о том, что ему интересно, это непреложное правило дипломата.
Но постараюсь получать ту информацию, которая интересна мне.
– Хотела бы я знать, что ты извлечёшь из его сентенций! Ну, например, что такое советская
власть?
– А вы и такие темы обсуждаете? – Жора видимо напрягся.
– Да нет, ара, не беспокойся. Сейчас ты получишь его ответ на этот вопрос – и сам
поймёшь, как движется мысль этого человека. Итак, готов? Ну вот, советская власть – это
социализм минус электрификация всей страны! – торжествующе провозгласила Ляля.
Жора, опешив на секунду, расхохотался вместе с дочкой:
– Да, метко, чёрт возьми! Поделом Ильичу с его упрощениями! Достаточно перевести
любой член уравнения в другую его часть с отрицательным знаком – и уже смешно. Напоминает
анекдот от армянского радио. Самое главное, чтобы он на выездной комиссии что-нибудь
подобное не сказанул.
– С выездом у него могут быть проблемы, – неохотно бросила Ляля, потому что примерно
знала, куда теперь повернётся их разговор.
– А что, анкета не в порядке? – Жора опять, как и минуту назад, заметно насторожился.
– Ара, ну откуда я знаю, какая у него анкета?! Я с ним вообще всего раз пять встречалась, –
легко соврала она, – не думаю, что у него пятый пункт. И родственников за границей нет – он ведь
из Изотовки, а не из Таллина. Или Джульфы иранской, – лукаво добавила она.
– Так, а в чём тогда загвоздка? – не отставал Жора.
– В его специальности – «конструктор летательных аппаратов». Секретность там всякая,
допуски.
– Да, это всегда бодяга… – раздумчиво протянул Жора. – Он сейчас на каком курсе? На
четвёртом? А всю эту секретность когда оформляют?
Ляля нетерпеливо пожала плечами:
– На пятом, кажется. Говорил, что его курсовую за четвёртый курс засчитали как диплом.
Так что в институте ему уже особенно нечего делать. Просто ждёт выпуска, а пока что-то
изобретает мудрёное.
– Знаешь, пригласи-ка к нам в гости твоего конструктора. Он не застенчивый? Компании не
дичится?
– Нет, он вполне себе социализирован. Только с девушками робеет, – опять легко соврала
она, про себя удивившись, насколько эта ложь близка к истине.
Жора широко улыбнулся и сказал с наигранным вздохом облегчения:
– Слава богу, гора с плеч! Обойдёмся без Дон Гуанов. Это во мне корни взыграли. «Что за
комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом!» – продекламировал он с виноватой улыбкой.
– Но насчёт секретности надо уточнить, и не откладывая, – добавил он, становясь вполне
серьёзным, – я сам наведу справки через наших кадровиков. Сословность, черт её подери – всё
возвращается на круги своя! Как до семнадцатого года: из мещан, из дворян, из купцов. И знаете,
– он обращался уже и к Валентине, и к дочери, – с каждым годом, по-моему, эти ветры крепчать
будут. Секретность, «почтовые ящики» – их сейчас как грибов после дождя. Попадёшь туда –
обратной дороги нет. В Болгарию по турпутёвке не выпустят до смерти. А если не секретность – то
пятый пункт заедает. Причём, не только детей Сиона. Что-то не видно в последнее время притока
туркестанцев или кавказцев в номенклатуру. Не говоря уже о прибалтах. Сегодня с генштабистами
встречался – к визиту Никсона готовят информацию по стратегическому оружию. Рассказали
армейский анекдот: «Может ли сын полковника стать полковником? Ответ – конечно может. А
может ли он стать генералом? Конечно нет, ведь у генерала есть свой собственный сын».
Вот так и живём. Да и у нас в МИДе то же самое – по крайней мере, если брать
номенклатуру по странам так называемого «первого мира». Чувство хорошего тона, а пуще того –
дипломатическая сдержанность не позволили мне ответить генштабистам нашей мидовской
остротой. Помните цитату из Островского? Того, который Павка Корчагин? Про жизнь: «Она даётся
человеку один раз…»
Жора замолк, жена и дочь, как по команде, вопросительно посмотрели на него. Жора,
тонко улыбаясь своей восточной улыбкой, проворковал вполголоса:
– Меняем одну-единственную букву, и… вуаля! Как меняется смысл! Итак, жизнь даётся
человеку один раз, и нужно прожить её там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы… Далее – по тексту! Так что приглашай сюда своего авиаконструктора – предмет и
дум, и грёз, этсетера… – завершил он вполне серьёзно.
– Но, ара, у меня никаких серьёзных намерений нет! – Ляля говорила всё убедительнее.
Постельные утехи – дальше этого её планы пока не шли, а легализация его визитов к ним домой
была только что достигнута.
Жора проницательно посмотрел на дочь:
– А если они появятся? Так что зови на выходной, когда мы оба с матерью дома.
Глава 7
«Любовь и честь… на этом свете есть»
Чем ближе она оказывалась, та назначенная пятница, тем больше Ляля нервничала, хотя
видимой причины не имелось. Ей вдруг стало казаться, что идея познакомить его с родителями –
даром что она сама её и выносила – или безумна, или как минимум не ко времени. А может, она
впервые посмотрела на себя и, что ещё существеннее, на своих родителей со стороны, как бы его
взором?
Конечно, это было совсем не то, что раньше, когда она девчонкой, забравшись с ногами в
отцовское кресло, обитое мягкой бордовой кожей, разглядывала семейный альбом с
фотографиями. Ляле всегда нравилось трогать эти снимки, сделанные на плотной, матовой
фотобумаге («Бромпортрет», кажется?) – да к тому же крупного формата, так что один снимок
занимал целиком площадь всего альбомного листа; Жора не признавал сиротский размер 9х12,
победительно заявляя, что экономить можно на всём, кроме материальной памяти о былой
жизни. На тех фотографиях отец неизменно хранил умное, с восточной хитринкой выражение
лица, а мать всегда улыбалась лёгкой, как бы вполсилы улыбкой – и Ляле всё время чудилось, что
фотокарточку слишком рано извлекли из проявителя и что, подержи неведомый лаборант бумагу
в растворе проявителя чуть дольше, – улыбка на лице Валентины получилась бы шире, теплее и
душевнее. Но жизнь, этот странный уличный фотограф, снова и снова слишком скоро вынимала
этот незавершённый, полупроявленный образ её матери из ванночки с прозрачной жидкостью,
резко отдающей химикатами, и Ляля, в который раз досадливо передёрнув плечами, торопилась
оторваться от этого несовершенного лика и с удовольствием впивалась глазами в другие снимки,
где сама она, хохоча во весь рот, ещё дошкольницей, с длинными чёрными волосами, восседала
на шее у отца.
Повзрослев, она даже изобрела для себя рабочую метафору того, что стояло за
фотографическим образом каждого из них. Мать – это всегда символ туманного росистого утра,
прохладно-спокойного и как бы томящегося в ожидании восхода с востока яркого, жаркого
солнца. Отец, напротив, образ прошедшего, но ещё не завершённого дня, исполненного
сознанием всего, что успело случиться – летний тёплый луг на закате, излучина широкой,
респектабельной, уверенной в своём течении реки, быть может заслужившей даже упоминания
на страницах школьного учебника по истории в связи с древними битвами или прочими
пертурбациями в жизни человечества. И, наконец, она сама, Ляля, как жаркий, знойный полдень с
громким пением птиц в ослепительной вышине безоблачного летнего неба.
А теперь, по мере приближения встречи в пятницу, она всё больше ощущала какую-то
необъяснимую неловкость при мысли, что он увидит другую, неявную сторону её жизни. Ляле
вдруг захотелось спрятать своих родителей подальше от его взора, или, по крайней мере, как-то
извинительно отшутиться перед ним за то, что они такие – совсем на него непохожие и, скорее
всего, даже в чем-то нелепые, учитывая его странную, не от мира сего, оптику. Может быть, она
стала смотреть на себя и свою семью отстранённо, его глазами? Как смотришь на свою детскую
комнату, куда возвращаешься перед первым сентября после долгого трёхмесячного странствия по
морским курортам и санаториям, когда всё в комнате тебе кажется и мило-знакомым, и
одновременно глупым.
«Я что, стала совсем похожа на него?» Сон не шёл именно из-за тянущего душу
беспокойства и необъяснимой неловкости, и Ляля внимательно, немигающим взором смотрела
на потолок спальни, будто рассчитывая найти там ответ. «Может, я чересчур с ним сблизилась? И
начинаю думать и смотреть на мир так же, как он? Говорят, что супруги, долго прожив друг с
другом, становятся даже внешне похожи. Может, в силу физиологии? Обмен гормонами, всякими
там эпителиями слизистой оболочки? Проникновение друг в друга? Проникновение… да уж…
Глубже не бывает. Особенно после сегодняшнего…» Они дошли до очередного «блюда» в
заветной книге – что-то этакое «африканское». Недаром называется «а ля негресс». Ляля
вспомнила, как сегодня, прежде чем повести Вадима в спальню, она заставила его закрыть глаза
и, быстро раздевшись и стараясь не шуметь, надела на лицо устрашающую маску с ядовито-
тропическими мазками красок – сувенир, который отцу привёз сослуживец то ли с Мадагаскара,
то ли из Боливии. Она, наверное, выглядела очень загадочно в этой маске. Загадочно и
раскрепощённо. Вот так, закрыв лицо маской и раздевшись догола, можно было бы бегать по
джунглям, совершенно ничего и никого не стесняясь. Будто Ева в Эдемском саду до своего
грехопадения.
Африканцы в джунглях, никогда не видевшие белых людей, воспринимали бы её как
живое божество. Главное не снимать маску! Ни за что не снимать маску! И тогда то, что
происходит с твоим телом, то, что он со мной сегодня сделал, – кстати, здесь, на этой самой
постели, – всё это как бы не со мной. Но одно несомненно: божеством, единственным и главным,
во всех этих играх, начиная оттуда, с турбазы, всегда и во всём была она. Ей нравилось
командовать им, и у неё это здорово получалось!
Погрузившись в неё с тем стоном-всхрипом, который она услышала за спиной, теперь он,
оказывается, проник и в её сознание!
Всё ещё глядя вверх перед собой, туда, где угадывался потолок, она вспомнила, как на
днях, подскальзываясь в сапогах на укатанном до блеска снежном тротуаре и торопясь на
маршрутку возле универмага «Москва», она смешалась на минуту с толпой приезжих,
выскакивающих из двух или трёх «Икарусов» с тульскими или калужскими номерами. Что-то тогда
она ощутила, какую-то несуразность. Так чувствует себя в предбаннике среди десятков голых или
полуодетых тел новичок, только что ввалившийся туда в зимней одежде из морозного тамбура.
Сейчас, размышляя об этом в темноте, она остро ощутила, что вот это, эти «гости столицы», как их
без тени иронии, на полном серьёзе именовали в «Вечёрке» и на втором московском канале,
покорно разглядывающие Кремль и Мавзолей, а затем ожесточённо штурмующие ГУМ, ЦУМ и
Военторг, которые Ляля терпеть не могла за их многолюдье и убогость, – это ведь, пожалуй, и есть
тот мир Изотовки, из которого, как пловец из скользких и противно-мохнатых водорослей, плюясь
и отчаянно отряхиваясь, пытался выбраться этот странный егерь все эти годы. И, выбравшись из
трясины провинции с её тётками в мохеровых бесформенных шапках и мужиками в куртках из
дешёвого кожзаменителя, что он увидел? И что он увидит в эту пятницу, когда встретится с её
родителями? «В зеркале двух миров», как постулирует рубрика в газете «Правда». Вот и она,
случайно приручив этого чудака, невольно заглянула в это зеркало двух таких разных миров –
Москвы и этой всесоюзной Изотовки. Ей стало неловко за свою большую квартиру; за то, что в ней
есть не просто телефон, а даже два на одной линии, один из которых, в кабинете отца, стилизован
под антикварный аппарат; за те дорогие розы, на которые Вадим потратился в первый визит.
«Надо будет сказать ему, чтобы не тратил деньги на цветы, – подумала она почти панически. – А
то он, пожалуй, живёт по принципу Ломоносова: в день на денежку хлеба и на денежку квасу».
Нет, он, конечно, наотрез отказался обуздать свои амбиции и сэкономить на цветах и
подарках, когда Ляля осторожно завела с ним об этом речь в четверг, накануне визита.
– Ты лучше скажи мне, что подарить твоему отцу? Что он ценит?
– Книги, пожалуй. Только учти: у него почти всё есть. То есть все книги, которые, по его
мнению, имеют художественную ценность.
– Понятно. А мемуары Жукова у него есть?
– Да, наверняка. Он и мне давал их читать, когда я готовилась к экзамену по истории.
Он всё же умудрился удивить и её, и ещё больше Жору. Явившись на следующий день
ровно в пять, как и было оговорено при приглашении, Савченко с порога вручил Валентине
Евгеньевне роскошный букет, поцеловав ей руку, чем немало её смутил. Для Жоры ради
церемониала знакомства у него оказалась припасена небольшая книжка стихов Мандельштама в
мягкой обложке, изданная в ГДР, где немецкий перевод зеркально отражал текст оригинала.
– Благодарность от однокашника из Берлина за помощь в овладении и русским языком, и
точными науками, – лаконично, но с достоинством объяснил происхождение книги Вадим. – Я
сделал себе ротапринтную копию в чертёжном бюро, – поспешил добавить он, предваряя
возможные протесты со стороны хозяина дома, – буду рад, если у вас будет оригинал. Ляля
сказала, что вы большой любитель книг.
Может, благодаря подарку, который пришёлся ему по душе, а может, в силу манеры гостя
– ненатужной вежливости в сочетании с какой-то внутренней сосредоточенностью – Жора
проникся уважительным, а не протокольным интересом к Савченко. Он мягко, но настойчиво
выяснил отчество гостя и, вопреки неуверенным протестам последнего, далее до конца вечера
именовал его не иначе, как Вадим Борисович.
Именно это церемонное обращение, как ни странно, и заставило Савченко потерять
сосредоточенность и ощутить себя зелёным первокурсником, впервые попавшим в компанию
доцентов.
– Отчество вовсе не обязательно, по крайней мере в моём возрасте, – несколько сбивчиво
сказал он, когда Жора церемонно обратился к нему с вопросом, что бы гость хотел выпить.
– Позвольте с вами решительно не согласиться, Вадим Борисович, – дружелюбно, но веско
сказал Жора, и Вадим кожей ощутил, что сидящий перед ним человек в стильной рубашке с по-
домашнему открытым воротом не только умеет, но и привык управлять десятками людей и
навязывать им свою волю. – Я по происхождению армянин, у нас отчество не в ходу, но вырос я в
русской культуре и, знаете, научился ценить это замечательное качество русских – при обращении
к человеку как бы автоматически называть не только его имя, но заодно и имя его отца. Есть в


